
- •Раздел VII.
- •Глава XIX.
- •§ 1. Личность в социологии: социальный робот или автономный субъект социальной жизни. Постановка проблемы
- •§ 2. Мир социальных статусов
- •§ 3. Иерархия статусов. Статусные коллизии
- •Глава XX. Личность и ее роли
- •§ 1. Социальная роль как поведенческая характеристика
- •§ 2. Социальные роли и поведение личности -
§ 2. Социальные роли и поведение личности -
Одна из главных проблем социологии личности — определение степени влияния общества на личность, обусловливания ее внутреннего мира, желаний, стремлений и т.д. Может быть, справедливо утверждение, что общество «продавливает» в личности независимо от ее желания то, что обществу необходимо? А может быть, правы те, кто считает, что личность выбирает те варианты ролевого поведения, которые позволяют ей добиться преимуществ, успехов в данной социальной среде?
Попробуем ответить на вопрос, обусловливает пи общество личность, ее поведение, нормы, и как обусловливает.
Филипп Зимбардо, известный американский исследователь, является автором знаменитого в социологии и социальной психологии «тюремного эксперимента». Однажды в газете г. Стэнфорда, в котором расположен один из лучших американских университетов, появилось объявление: «Для психологического исследования тюремной жизни требуются мужчины-студенты. Продолжительность работы — 1—2 недели, плата — 15 долларов в день». С помощью тестов были отобраны 24 студента, здоровые, интеллектуально развитые, не имевшие преступного прошлого, не имеющие ни пристрастия к наркотикам, ни психологических отклонений. С помощью жребия их поделили на «заключенных» и «тюремщиков». Стэнфордская полиция, согласившаяся помочь ученым, доставила «заключенных» в наручниках в «тюрьму», оборудованную в одном из помещений университета. «Тюремщики» раздели их догола, подвергли унизительной процедуре обыска, выдали тюремную одежду и разместили по «камерам». «Тюремщики» не получали подобных инструкций, им было лишь сказано, что они должны относится к делу серьезно, поддерживать порядок и добиваться послушания «заключенных».
В первый день опыта атмосфера была сравнительно веселая и дружеская, молодые люди только входили в свои роли и не принимали их всерьез. Но уже на второй день обстановка изменилась. «Заключенные» предприняли попытку бунта: сорвав с себя тюремные колпаки, они забаррикадировали двери и стали оскорблять охрану. «Тюремщики» применили силу, зачинщики были брошены в карцер. Это разобщило «заключенных» и сплотило «тюремщиков». Роли стали исполняться всерьез. «Заключенные» почувствовали себя одинокими, угнетенными, подавленными. Некоторые «тюремщики» начали не только наслаждаться властью, но и злоупотреблять ею. Их обращение с «заключенными» стало грубым, вызывающим. Один из «тюремщиков» на пятый день эксперимента швырнул тарелку с сосисками в лицо «заключенному», отказавшемуся есть. «Я ненавидел себя за то, что заставляю его есть, но еще больше я ненавидел его за то, что он не ест», — сказал он позднее. На шестые сутки эксперимент был прекращен. Все были морально травмированы. Обобщая свои эксперименты, Зимбардо заявил, что индивидуальное поведение гораздо больше зависит от внешних социальных
475
условий
и
сил,
чем
от
таких
расплывчатых
понятий,
как
«Я»,
«черты
личности»,
«сила
воли»*.


Результаты этого оригинального и в чем-то даже печального (хороших парней удалось так быстро превратить в озлобленную массу, конфликтующую по всем законам традиционной тюрьмы) эксперимента многозначны. Но бросается в глаза, что функциональная целесообразность (необходимость поддерживать порядок, добиваться послушания подчиненных) плюс социокультурные традиции (как следует вести себя тюремщику и заключенному), иначе говоря, ролевые стандарты и ожидания обусловили вполне типичное и легко узнаваемое поведение сторон. Благодаря чему же это произошло?
МЕХАНИЗМЫ СТРУКТУРНО-РОЛЕВОГО ОБУСЛОВЛИВАНИЯ (ПРИНУЖДЕНИЯ) СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Механизм отбора. Для осуществления тех или иных функций личность должна обладать определенными способностями, уровнем подготовки, биопсихическими качествами. Не каждая личность может рассчитывать на определенную социальную роль. Общество, в котором сложились элементы сословной организации (как в явной, так и неявной форме), может предъявить требования и относительно социального происхождения или национальности.
• Это ведет к тому, что еще до «воспитания» носителя роли социальная среда отбирает в число исполнителей того или иного статуса людей, имеющих определенные свойства, качества. (При мер — эмоциональность представителей артистической среды.) Отбор свойств, в свою очередь, может оказывать обратное воздей ствие на саму трактовку данной социальной роли как нормы.
Офицерство в царской России формировалось в. подавляющем большинстве из представителей дворянства, поэтому аристократизм поведения, в том числе «рыцарство», становился нормой для социальной роли офицера, хотя функционально эта черта ролевого поведения не была остро необходимой. После революции принцип отбора в офицерский корпус стал прямо противоположным (предпочтение отдавалось рабочим и крестьянам), соответственно изменились и нормы офицерского поведения.
-
В различных ситуациях принципы отбора могут уточняться, особенно когда речь идет об отборе для выдвижения на престиж ные статусы. Так, в условиях глубоких перемен общества требуются люди прежде всего решительные, энергичные, способные идти на обострение ситуации.
-
Следует в этой связи обратить внимание и на эффект углуб ления качеств, которые позволили человеку занять ту или иную
* См. подробнее: Зимбардо Ф. Стэнфордский тюремный эксперимент. В кн.: Практикум по социальной психологии, с. 296—321.
статусную позицию. Систематическое выполнение социальной роли совершенствует соответствующие качества личности, поскольку ситуации, в которых они реализуются, регулярно повторяются.
Предположим, молодой человек выбрал себе стезю ученого, хотя его способности могли быть применены в других областях деятельности, например государственного управления, Но, сделав свой выбор, он углубил в себе имено те качества и способности,1 которые нужны ученому. Через несколько лет потребность в самореализации станет для него важней, чем потребность в занятии определенной властной должности, постоянная неудовлетворенность, скорее всего, станет чертой характера, а инстинкт власти будет угасать.
Механизм «вживания» в роль. Характер ролевой деятельности, предуказания (профессиональные, нравственные), которые чело век должен исполнять, социально-ролевые ситуации, которые еже дневно повторяются, не только углубляют, но и могут формиро вать определенные свойства, которых ранее не было, но которые требуются в данной социальной позиции. -г,? ..ад*
Вовлечение в определенную ролевую деятельность формирует и необходимые навыки, и нравственные качества, свойства и даже чувства, манеру поведения, предуказанные данным статусом: во-первых, сам исполнитель новой роли оказывается в ситуации, которая содействует активному принятию образцов нового ролевого поведения; во-вторых, социальная среда всячески внешне принуждает (посредством предуказания, поощрения, контроля) нового исполнителя роли к формированию необходимых качеств.
Рассмотрим первый из этих механизмов.
Человек в новом статусе оказывается включенным в определенную логику социальных взаимодействий: он вовлекается в выполнение определенных действий, несет ответственность, использует привилегии, полномочия. Тем самым формируются определенная (ролевая) мотивация, ролевые смыслы деятельности, которые довольно часто повторяются, приобретают устойчивость. Таким образом, индивид постепенно проникается новым для себя смыслом новой роли, осмысливает тонкости, подробности данной работы, которые открываются ему только в этой социальной позиции.
Неопытный «либерально» ориентированный начальник начинает осознавать свою ответственность за результаты деятельности коллектива, понимать, что люди не всегда склонны выполнять свои обязанности надлежащим образом. Это порождает у него (подчас неожиданно и для него, и для окружающих) определенную жесткость, прагматизм и т.д. Вчитываясь в новые нормы, которые еще недавно казались ненужными, вызывали отторжение, человек, как правило, начинает осваивать все аспекты ролевого стандарта — от должностных до неформальных. Еще вчера казавшаяся ненужной «солидная осанка» незаметно становится неотъемлемой чертой облика нового начальника, который прибегает к этому и другим
476
477
средствам
утверждения
престижа
должности,
поддерживая
«дистанцию»
с
подчиненными.



Иными словами, сама логика ролевой деятельности, повторяющиеся мотивации создают смыслы, адекватные ролевым стандартам. «Мы чувствуем себя пылкими, когда целуем; более смиренными, когда стоим на коленях; более свирепыми, когда сотрясаем кулаками. Регламентированные действия привносят в роль соответствующие эмоции и социальные установки. Профессор, изображающий ум, сам начинает чувствовать себя умным. Проповедник вдруг замечает, что сам начинает.верить в свои проповеди»*.
Механизм предписывания. Социальная среда, создав образец выполнения социальной роли, функционально и социокультурно предписывает личности тот стандартный набор моральных, трудовых и других качеств, которыми она должна обладать.
Данные предписания могут иметь вид как фиксированных требований (воинский устав), так и своеобразных пожеланий, ожиданий окружающих. В системе формализованных социальных институтов есть формальные требования, стандарты, следовать которым строго обязательно. Особенно жестко механизмы предписывания действуют в армии. Там шире и ролевой набор, подлежащий предписанию, и строже контроль за его выполнением. (Мы также знаем, какой должна быть хорошая хозяйка, хотя в этом случае механизмы предписывания действуют лишь на неформальном уровне,)
Механизм поощрения выполнения ролевых предписаний. Выполнение в полной мере этих предписаний обусловливает для личности достаточно высокую вероятность эффективного решения личных целей, повышает гарантии получения признания, материального вознаграждения, кадрового продвижения.
Каждый исполнитель той или иной социальной роли должен ясно осознавать, что условием его успеха на данной стезе является более или менее тщательное соблюдение ролевых предуказаний. И это касается не только инженера, военного, но и хозяйки, матери: признание, отношение к ней со стороны супруга, детей обусловлено не только эмоционально-психологическими, но и социально-ролевыми механизмами — насколько ее поведение в семье соответствует принятым образцам поведения хозяйки, матери в данной культуре, среде.
Механизм контроля. Общество, социальная группа не только отбирают людей для выполнения определенных ролей, не только предписывают (предлагают) им образцы соответствующего ролевого поведения, но и контролируют исполнение роли в соответствии с
* Бергер
П.
Приглашение
в
социологию,
с.
91. 478
определенными ролевыми нормами. Жесткость социального ролевого контроля зависит, в первую очередь, от следующих факторов:
-
степень формализованное™ роли (военные, работники пра воохранительных органов). Например, дружба всегда реали зуется через неформализованные социальные роли, поэто му и санкции здесь достаточно условны, кроме одной — резкий разрыв связи;
-
важность того или иного компонента ролевого поведения;
-
престижность статуса: роль, связанная с более престижным статусом, подвергается более серьезному и тщательному внеш нему контролю и самоконтролю;
-
сплоченность группы, в рамках которой осуществляется ро левое поведение, а значит, и силы группового контроля;
-
степень референтности группы, ее авторитетности для ис полнителя роли.
Контроль осуществляется в самых разных формах — от воздействия общественного мнения, проявления недоверия, избегания контактов до репрессий.
Послушание, подчинение внешним требованиям довольно развито у людей, что становится одним из важнейших механизмов обусловливания поведения личности социальной средой. Обратим внимание на результаты эксперимента С. Милгрэма, который разделил испытуемых на «учителей» и «учеников» и исследовал, будут ли «учителя» подчиняться требованию экспериментаторов, усиливать наказание «ученику», несмотря на страдания последнего (мнимые, о чем «учитель» не знал). Эксперимент был проведен в университетах разных стран. В США 60% «учителей» усиливали наказание «ученику», несмотря на его просьбы не делать этого, т.е. послушание оказалось значительно сильнее милосердия. В Риме, Австралии показатели оказались еще выше, а в Мюнхене составили 85% (!) испытуемых (что является своеобразным подтверждением немецкой дисциплинированности как социокультурного явления).
Таким образом, отбирая, предписывая, поощряя и контролируя, социальная среда фактически «созидает» личность, ее знания, качества такими, как этого требует социальная роль. Благодаря этому личность вписывается в процесс функционирования социальных институтов, не нарушает заведенный, привычный порядок.
Социальная среда обусловливает.прежде всего ролевое поведение индивидов, т.е. социально повторяющееся, типичное.
РОЛЕВЫЕ КОНФЛИКТЫ
личности
Можно объяснить внутренние переживания людей, их душевную неустойчивость, столь возросшие в последнее время, преимущественно индивидуально-психологическими причинами (особенностями темперамента, высокой тревожностью восприятия). Наверное, немало случаев, когда именно они являлись основанием
479
душевного
разлада. Но социология стремится
находить причины личных
потрясений, переживаний в конфликтах,
несогласованностях тех требований,
ожиданий, предуказаний, которые
предъявляет к человеку
социальная среда. Едва ли не большинство
многих внутренних
конфликтов личности, ее раздвоенность,
непоследовательность
объясняются ролевыми конфликтами,
которые существуют независимо отданной
личности. Устанавливая причины душевного
разлада, надо помнить, что чаще всего
именно несогласованность ролевых
требований, которые человек должен
выполнять, — одна из
главных причин, определяющих драматизм,
а подчас и трагизм жизни
нашего современника, живущего в мире,
который ставит его
перед трудноразрешимыми дилеммами,
предъявляя ему взаимоисключающие
требования и т.д.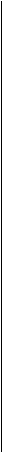


Ролевые конфликты возникают в силу ряда конкретных причин и приобретают различную социальную и психологическую форму. Одну из таких причин мы уже упоминали — это внутренняя сложность самой роли, сочетающей в себе функционально-целесообразные и культурно-вариативные компоненты, между которыми может возникнуть несоответствие, что прождает «внутриролевой» конфликт.
Другая причина ролевых несоответствий — различия, несовпадения интерпретации, трактовки того, как должна выполняться одна и та же роль (конфликт экспектаций). На нашей схеме ролевого поведения (рис. 1) «социальная роль» (Ша) выглядела очень абстрактно. Но при глубоком анализе обнаруживается, что в рамках одного общества при безусловном сохранении единства главных требований личность может столкнуться с достаточно различными экспектациями.
К примеру, можно выделить следующие образцы ожидаемого поведения студента:
принятый в обществе образец (студент должен систематически посещать занятия и готовиться к ним, посещать библиотеку", расширять свой научный и культурный кругозор и т.д.); на этот, может быть, не совсем реальный образец нас ориентируют законы, инст-рукции, правила, регламентирующие поведение студента в вузе; экспектаций тех, с кем непосредственно взаимодействует конкретная личность (речь идет об образцах учебной деятельности, принятых в вузе, в котором обучается студент);
экспектаций референтной (для личности) группы, с которой она себя идентифицирует; здесь могут быть совершенно иные представления о поведении студента (появляться на занятиях лишь к концу семестра, начинать серьезно заниматься только в период сессии и т.д.).
Как видим, даже в рамках одного общества личность сталкивается с различными экспектациями ролевого поведения, что становится одной из главных причин ролевых конфликтов.
Существует еще одна группа несоответствий, порождающих «межролевой конфликт».
Следует иметь в виду, что каждый статус «обслуживается» множеством ролей. Директор завода в одной роли выступает перед вышестоящими руководителями, в другой роли — перед своими коллегами, в третьей роли — перед подчиненными, в четвертой — перед родственниками. Главный его статус — директор завода, но во всех перечисленных ролях он выступает в новом ракурсе. Р. Мертон назвал совокупность ролей, обусловленную данным статусом, ролевым набором. Процесс дифференциации социальных институтов (одна из ведущих тенденций социального развития) все время умножает число статусов, которыми обладает человек, и закрепленных за ними ролевых наборов. При этом каждый образец ролевого поведения, обслуживая конкретную функцию, приобретает в чем-то свой специфический набор норм, образцов действий, ценностных приоритетов. Происходит дальнейшая фрагментаризация социальной жизни; личности все сложнее сохранить свою целостность. Все чаще возникают ситуации, при которых наличность оказывают давление различные по содержанию ролевые предуказания.
На основе перечисленных причин выделим основные типы ролевых конфликтов.
1. Внутриролевой конфликт между функциональной целесообразностью ролевых предписаний и социокультурными особенностями ролевых стандартов.
Яркий пример внутриролевого конфликта — атмосфера, в которой работали поколения обществоведов советских лет. Для всякой науки функционально целесообразно, чтобы ученые занимали рационально-критическую позицию по отношению к действительности. Но в условиях тоталитаризма от обществоведов ожидалось (и это стало нормативным образцом, выполнение которого контролировалось) оправдание существующего положения вещей, одобрения и пропаганды результатов деятельности политической элиты, что накладывало на весь облик обществоведа определенный отпечаток.
Конфликт между функциональной целесообразностью и социокультурными образцами социальной роли может быть решен по-разному. В нашем примере социокультурные ценности, требования, поддерживаемые всей мощью государственной машины, одержали безусловную победу, в результате чего за малым исключением общественная наука как средство рационально-критического познания социальной жизни фактически в былые годы по сути была сведена на нет.
480
16 Общая социология
481
Сегодня
аналогичный
внутриролевой
конфликт
нередко
проявляется
у
работников
средств
массовой
информации
(конфликт
между
необходимостью
предоставлять
обществу
объективную
информацию
и
обычаем
выполнять
чей-то
заказ).






2. Конфликт экспектаций, т.е. конфликт, вызванный различиями интерпретаций одной и той же роли, может проявляться в различ ных вариациях.
• Конфликт, вызванный тем, что различные субъекты предъяв ляют подчас противоположные требования к выполнению личнос тью одной и той же роли.
Нередко от женщины-работницы начальник ждет высокой самоотдачи на работе, а ее муж и дети — низкой самоотдачи на работе, с тем, чтобы она могла больше сил и времени уделять семье. Вспомним пример о конфликте экспектаций по поводу поведения студента: его друзья могут предъявлять ему совершенно иные требования, чем его родители и преподаватели.
• Пример с женщиной-работницей свидетельствует и о том, что различные субъекты по-разному оценивают значимость одной и той же роли (еще один вид ролевого конфликта): в семье счита ют, что главное — это роль матери, а ее начальник убежден, что главное — это роль работницы.
Еще один вариант конфликта экспектаций — между ролевыми стандартами, выработанными в различных социальных общностях, социальных средах, который особенно ярко проявляется при смене личностью социокультурной среды.
Даже смена кафедры, вуза преподавателем в границах одного и того же города может породить определенную напряженность, ощущение «чужака» и т.д. На одной кафедре ролевая матрица «руководитель — подчиненный» основана на демократических принципах: руководитель научно-педагогического коллектива — это не начальник воинского подразделения, он не столько диктует, навязывает коллегам свои решения, сколько координирует их деятельность, создавая простор для творчества. На другой кафедре эта матрица может строиться на авторитарных принципах. Человек, усвоивший ролевые экспектаций демократического руководства, будет формировать линию поведения в духе соответствующих ожиданий, столкнувшись с авторитарностью, произволом, что как правило, создает основу для конфликта.
3. Традиционным для социологии является анализ межролевого конфликта: очень часто возникает несоответствие между ролью «заботливого отца, хорошего семьянина» и «влюбленного в свое дело ученого, самоотверженного исследователя». Укажем, что и та, и другая роль «выпестованы» обществом, столкновение про изошло по причине противоречий между самими стандартами, которые не возникали до тех пор, пока не пересеклись в конкрет ной личности.
Ориентация на две при синхронизации противоречащие друг другу социальные роли приводит к внутренней борьбе личности, ее раздвоению и т.д.
Конкретно это раздвоение может проявляться по-разному: ученый стремится больше заниматься детьми, но реально не уделяет им должного внимания из-за занятости научными исследованиями. В этом случае конфликт ролей проявляется как противоречие между намерениями (а может быть, и заявлениями, словами) и реальным поведением. Межролевой конфликт может проявиться и в непоследовательности поведения личности. Когда наш герой не занят наукой, он заботливый отец; когда же он занят своими исследованиями, он может проявить удивительное безразличие и бессердечие по отношению к своему ребенку.
РОЛЕВЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Выполняя роли, человек, как правило, испытывает эмоциональные и нравственные переживания, может войти в конфликт с другими людьми, испытывать моральный кризис, раздвоенность. Это порождает дискомфорт, неуверенность, психологическое расстройство, являющееся признаками ролевого напряжения. «Ролевое напряжение может повышаться в связи с неадекватной ролевой подготовкой, или ролевым конфликтом, или неудачами, возникающими при исполнении данной роли»*.
Ролевые напряжения довольно многообразны. Они могут иметь преимущественно внутриличностный (внутреннее напряжение в ходе' выполнения ролей, ролевых конфликтов) или внешний характер. К числу последних можно отнести виды напряжений, возникающие между исполнителем данной роли и его партнерами, которые ожидают от него совершенно иного поведения.
Мы уже приводили пример конфликта экспектаций, связанный с переходом преподавателя с одной кафедры на другую в пределах того же города. Примером внешних ролевых напряжений мбгут быть и случаи, когда исполнитель одной роли использует ее нормы поведения при исполнении другой роли (офицер использует нормы армейской жизни в семье, что вызывает возражение близких, создает напряжение).
Основными причинами ролевых напряжений являются прежде всего ролевые конфликты, о которых речь шла выше. Широко распространенной причиной ролевых напряжений является и неадекватная ролевая подготовка ввиду моральной и профессиональной неадаптированности исполнителя к требованиям той или иной роли.
Речь идет о трудностях, переживаниях в связи с необходимостью исполнения данной личностью нового статуса и, соответственно, незнакомой ему роли: овладение ролью студента, солдата, отца,
' Фролов С.С. Социология, с. 74.
482
483


![]()
Не меньшая ролевая напряженность возникает и при существенном изменении ролевого стандарта поведения. Так, руководителю государственного предприятия, собирающемуся стать руководителем акционерного предприятия, требуется новая ролевая подготовка, которая проходит довольно сложно, поскольку необходимо преодолеть уже сложившиеся, привычные для него и окружающих стандарты поведения руководителя государственного предприятия.
В некоторых случаях речь идет о физическом, интеллектуальном и другом несоответствии человека данному статусу и роли, что приводит к систематическому психологическому напряжению, формированию комплекса неполноценности, депрессии.
Как многообразны формы, причины, ситуации, порождающие ролевые напряжения, так многообразны и пути их преодоления. Мы не. ведем речь о преодолении первооснов, первопричин психологического напряжения в ходе ролевого поведения — речь идет лишь о путях преодоления напряжений, возможной депрессии.
Очевидно, что напряжения, связанные с неадекватностью ролевой подготовки, преодолеваются по мере преодоления этого несоответствия в ходе получения необходимых знаний, жизненного опыта, наблюдений и т.д.
Если же напряжение вызвано физическим, интеллектуальным несоответствием личности статусу и роли, на которые она претендует, то здесь могут быть предложены иные меры, смысл которых — защитить психику личности от депрессии, вызванной неудачами. Для этого может быть применен метод рационализации ролевых ожиданий, создающий иллюзорные, но кажущиеся рациональными оправдания неудач.
Молодому человеку, который по состоянию здоровья не был принят в отряд космонавтов, внушается мысль, оправдывающая его неудачу: лучше заняться научно-исследовательской работой, где гораздо шире возможности самореализации; молодому певцу, которому его природные задатки не дают надежд на блестящую карьеру на этом поприще, внушается мысль, что горздо интереснее карьера композитора, дирижера и т.д.
Рационализация ролевых ожиданий может снижать притязания, переносить притязания с одного престижного статуса на другой, но в другой облает,^ сфере (к примеру, с производства на семью, и наоборот).
Суть принципа разделения ролей, как пути преодоления ролевых напряжений, ттг осознанная дифференциация правил, приемов,
484
норм, присущих выполнению одной роли, от норм, образцов поведения, присущих другой роли.
Известно, как часто мать-учительница продолжает свою «педагогическую» деятельность дома, подчас проявляя жесткость и лишая семью ласки. Зачастую офицер продолжает муштру и дома, в кругу знакомых, на отдыхе. Разделение ролевых ожиданий ни в коем случае не предполагает ущемления, забвения одной из ролей во имя другой. В нем реализован известный принцип: «Богу — богово, Кесарю -(*■ кесарево».
Принцип иерархизации ролей также может сыграть огромную роль в преодолении серьезных психологических переживаний, порожденных столкновением ролевых предуказаний.
«Что для меня важнее -г- дети, семья, или наука?» «Кто я прежде всего — мать или работница?» Каждый человек, столкнувшись с подобной дилеммой, оказывается в психологическом тупике, выход из которого — выбор самой личностью одной из этих ролей в каче стве приоритетной. И в конфликтных ситуациях следует выполнять предуказания роли, которой отдано предпочтение. Регулирование ролей — это сознательные, целенаправленные дей ствия общества, нации, коллектива, семьи, цель которых — пре одоление психологического напряжения личности, вызванного ро левым конфликтом. (<j1, .
Например, конфликт между воинской присягой, которая повелевает выполнять приказы, в том числе связанные с уничтожением других людей и принципами человеколюбия, гуманизма. В результате воин, как правило, испытывает глубокое морально-психологическое переживание, вводящее его в длительное депрессивное состояние (вьетнамский синдром в американской армии, афганский и чеченский синдромы тг- в российской). В этом случае напряжение может быть преодолено, в том числе благодаря и тому, что общество, нация, семья берут на себя регулирование этого конфликта, рационально обосновывают поведение воина, оправдывают его действия: «выполнение интернационального долга», «наведение конституционного порядка во имя сохранения целостности государства».
Другая форма регулирования ролей связана с утверждением (про пагандой) властными органами, средствами массовой информа ции новых стандартов ролевого поведения. (Подобное регулирова ние ролей могло бы сыграть немалую роль в утверждении в нашем обществе образца предпринимателя, фермера и т.д., повышении их престижа.) "--мч ,-нг.с--
§ 3. Автономия личности. •■■и,*.
Ролевое поведение — это притворство?
i
Итак, общество, социальная среда обладают достаточно ощутимыми механизмами обусловливания ролевого поведения личности.
485


![]()
Следует также учесть, что различные общества предоставляют личности различный по широте выбор ролевых альтернатив. Тоталитарные системы, как правило, существенно ограничивают свободу индивидов и, соответственно, автономию личности — в целом происходит ее унификация, стандартизация.
ПРОИГРЫВАНИЕ РОЛЕЙ
Автономия личности прежде всего проявляется в ходе проигрывания ею ролей (см. рис. 1, Шб), процесса, в котором взаимодействуют несколько факторов:
• нравственный мир личности, ее идеалы, установки, притя- "* '-*' зания (назовем это «Я» данной личности): что-то является
для нее приемлемым, желательным, что-то вызывает неприятие, а что-то воспринимается как вынужденное.
Конечно, при нормальном порядке вещей различные экспекта-ции ролевого поведения не могут иметь принципиальных расхождений — ведь и нравственный мир личности, и система экспекта-ций формируются в едином ценностно-нормативном пространстве данного общества, данной культуры.
Но личность (в частности, студент) оценивает, насколько те или иные аспекты ролевых предуказаний (учебной деятельности) желательны, приемлемы для нее (экспектации своей референтной группы, круга друзей или общественный образец ролевого поведения студента), и осуществляет выбор из возможных вариантов;
• собственно проигрывание ролей зависит от способности лич ности предвидеть, рассчитать возможные последствия выбо ра того или иного варианта ролевого поведения.
В проигрывании ролей большое значение имеют не только интеллектуальные способности личности, но и опыт решения ролевых проблем, отсутствие которого (например, «юношеский максимализм») может привести к серьезным ролевым конфликтам, выз-. ванным бескомпромиссностью, завышенной интерпретацией образцов ролевого поведения и т.д.
486
СИТУАЦИИ
РОЛЕВОГО
ПОВЕДЕНИЯ,
В КОТОРЫХ
УТВЕРЖДАЕТСЯ
АВТОНОМИЯ
ЛИЧНОСТИ
Первое. В начале условной цепочки взаимодействия личности и общества (поиск личности — предложения общества — выбор личностью из предложенного обществом) индивид занимается поиском варианта, который позволил бы полнее использовать его способности, реализовать его жизненные планы, цели, идеалы.
Система статусов и ролей, за исключением немногих (предписанных), предлагается личности. Выбирая статус и ролевой стандарт его реализации, индивид в какой-то мере творит свою судьбу в соответствии со своими жизненными амбициями и ценностями, одновременно оценивая.
-
сумеет ли он реализовать свои способности, жизненные планы именно в этом статусе;
-
готов ли и хочет ли он выполнять все основные ролевые предписания, которе связаны с данным социальным стату сом в данном обществе. Ведь можно мечтать о профессии врача, но низкий престиж врача в данной социокультурной среде приведет к отказу от этих планов; можно мечтэть стать офицером, но армия, в которой процветают дедовщина, бескультурье, уголовщина, заставит отказаться от этой мечты.
Второе. Уже выбрав социальный статус, социальную роль, личность вновь занимается поиском — на этот раз варианта выполнения ролевого предписания. Если ее не во всем устраивает данная социальная роль и она хочет уклониться от ее полного исполнения, личность оценивает свою готовность ограничить притязания на вознаграждение, карьеру, но получить возможность лишь частично соблюдать предписания, закрепленные за этой ролью, что позволит в то же время следовать жизненным принципам,.которые для нее важнее.
При тоталитарном режиме участие в деятельности господствующей партии — условие самореализации личности как ученого, специалиста и т.д. Но немало было и тех, кто, вступив на стезю науки, отказывался соблюдать это ролевое предписание и тем самым существенно блокировал свою научную карьеру. Студент тоже сам выбирает вариант ролевого поведения: стать, как и нерадивые друзья, разгильдяем или все силы отдавать учебе; в этом выборе большую роль играют и система ценностных приоритетов, и уровень притязаний студента (тот, кто претендует на большое будущее, вряд ли выберет роль студента-разгильдяя) и чувство уважения к родителям, и т.д.
Третье. При конфликте ролей личность, основываясь на собственной иерархии ценностей, самостоятельно делает выбор приоритетной роли («примерного отца», «самоотверженного ученого» и т.д.).
487



![]()
Пятое. Степень подчинения личности ролевым требованиям зависит не только от жесткости внешнего контроля, неотвратимости внешних санкций, но и от авторитетности общности в представлении самой личности, а также от того, насколько личность причисляет себя к этой общности, насколько предъявляемые ролевые требования соответствуют личным убеждениям личности.
• Даже подчинившись ролевым предписаниям, личность способна дистанцироваться от роли и нередко за выполнение тех или иных ролевых требований иронизировать над собой и даже презирать себя.
Можно сказать, что в ходе ролевого взаимодействия личности с обществом первая находится в постоянном напряжении поиска, осуществляя выбор ролевых предписаний, которые предлагаются обществом. Происходит постоянное сопряжение поиска, выбора, предпочтений личности и предложений социальных институтов, общностей.
РЕАЛЬНОЕ
РОЛЕВОЕ
ПОВЕДЕНИЕ
Реальное ролевое поведение личности (рис. 1, Шв) — это фактические действия индивидов, обладающих определенным статусом, использующих свое «Я» и способности к проигрыванию ролей для эффективного взаимодействия с другими индивидами путем выполнения определенных ролевых экспектаций.
Реальное ролевое поведение личности характеризуется, с одной стороны, типичными, повторяющимися, предсказуемыми чертами (иначе это не роль, а отклонение от роли), а с другой стороны (ввиду наличия множества экспектаций, различий в проигрывании ролей, своеобразия личностной интерпретации экспектаций, а также различного жизненного опыта и темперамента), — индивидуальными чертами.
Ни один учитель не похож на другого; все официанты обслуживают клиентов по-разному, но ролевые требования, которые гарантируют выполнение социальных функций учителями, официантами, должны быть соблюдены.
Но есть один нюанс в анализе ролевого поведения — концентрация внимания на внешней, поведенческой стороне (которая, казалось бы, наиболее важна для тех, с кем индивид находится во
488 •;
взаимодействии): важно, чтобы человек независимо от его «Я», способностей интерпретировать свою роль выполнял определенные ролевые предуказания.
При подобном рассмотрении общество, система социальных взаимодействий предстает как театральная сцена для поведения людей, как драматическое ролевое представление, заключающееся в том, чтобы создать желательное (ожидаемое) впечатление у других.
Американский социолог Э. Гоффман делает особый акцент на внешнем фиксируемом поведенческом аспекте ролевого поведения, анализируя различные аспекты взаимодействия людей на основе производимого ожидаемого впечатления, выделяя защитное и охранительное («такт») действия, которые включают различные методы, обеспечивающие гарантию сохранения определенного впечатления, методы маскировки, раскрытия, ложного откровения и др. Так, индивид постарается управлять впечатлением, которое создается у людей, чтобы убедить их в надежности своей информации. «Характерный пример может быть взят из жизни Шетландского острова. Например, сосед заходит на чашку чая, его лицо выражает обычно, по крайней мере, намек на ожидаемую теплую улыбку, когда он входит в дверь дома... Но хозяин дома может следить за гостем задолго до того, как он подошел к двери, и тем самым увидеть как гость'«надевает» на себя улыбку... Некоторые же гости, предвосхищая эту возможность, будут на всякий случай придавать лицу приветливое выражение задолго до подхода к дому, обеспечивая тем самым проецирование постоянного образа»*.
Проблема, на которой акцентировал внимание Э. Гоффман, выходит за рамки анализа хитросплетений процесса оказания приятного впечатления на партнеров. По сути задевается более существенный и глубинный вопрос: природа социально-ролевого поведения личности в обществе. Что это — лицедейство, мимикрия, притворство? Как соотносятся нравственный мир человека, устойчивые нравственные принципы, нормы, ценностные приоритеты и реальное ролевое поведение?
Толкование ролевого поведения как драматического, в чем-то притворного, приводит известного социолога П. Бергера к утверждениям типа «...социальная личность не есть некая устойчивая данная сущность, переходящая от одной ситуации к другой. Она скорее представляет собой процесс постоянного порождения и перерождения в каждой ситуации... Внутри понимаемой таким образом структуры нельзя найти что-то устойчивое... Вот почему в рамках социологического рассуждения на вопрос, кто есть реальный индивид в этом калейдоскопе ролей и идентичностей, можно отве-
* Гоффман Э. Представление себя другим. В кн.: Современная зарубежная социальная психология. — М., 1984, с.192; см. также: Кравченко Е.И. Э. Гоффман. Социология лицедейства. —М., 1997.
489
тить
лишь простым перечислением ситуаций,
в одних из которых он — одно, а в других
— другое»*.


По сути личность трактуется как совокупность ролей, которая лишь адаптируется к окружающим условиям, подражает, покорно следует предуказаниям, духовный мир которой фрагментарен, конъюнктурен. .-„,
Существует ли нравственный мир личности как целостность? Есть ли мораль как система более или менее устойчивых принципов, норм, опирающаяся на ценностные приоритеты?
Безусловно, человек втянут в самые разные социально-статусные ситуации, выполняет множество социальных ролей, но которые в конечном счете интегрируются в целостную систему ценностей, норм. Поэтому разведение нравственных принципов, норм, ценностей и ролевого поведения в принципе необоснованно. Что такое роль как не совокупность социокультурных норм? В нормальном (бесконфликтном, бескризисном) варианте развития общества ролевые экспектации не могут иметь существенных расхождений с нравственными принципами данного общества, поскольку они формируются в едином ценностно-нормативном пространстве, в едином поле данной культуры. Единые ценностные приоритеты, моральные нормы и принципы, традиции, обычаи обеспечивают единую генеральную логику поведения, логику предпочтений и т.д. Приведенный ранее пример об особенностях образца ролевого поведения американского учителя довольно точно свидетельствует о ценностных приоритетах американского общества, приоритета личности, недопустимости авторитарности.
Где же здесь притворство?
Вопрос о мимикрии становится особенно острым, когда анализируются расхождения в поведении человека в различных конкретных ситуациях — например, искренность, высоко ценимая как общечеловеческий моральный принцип, в гостях не всегда уместа. Можно ли в этой ситуации назвать лицедейством заранее «надетую» на лицо улыбку?
Подобные нестыковки прежде всего обусловлены дифференциацией и автономиназицией социальных институтов, пророжда-ющими специфику и определенную автономизацию нормативной регуляции в различных конкретных (функциональных) ситуациях. Возникает подчас ощутимое своеобразие иерархии ценностей, норм, обслуживающих специфические аспекты жизнедеятельности. (Известно, что ролевой стандарт поведения предпринимателя не может предусматривать в качестве приоритетных сочувствие,
* Бергер П. Приглашение в социологию, с.100. 490
сострадание, однако в домашней обстановке приоритет подобных принципов очевиден.)
Следует учесть еще один момент. Люди часто с трудом переключаются с одной иерархии принципов, уместной в их профессиональной деятельности, на другие, адекватные иной статусно-ролевой ситуации. Поэтому нередко роль принуждает их делать то, что они сами не очень одобряют. Роль молодого учителя заставляет недавнего (возможно, даже нерадивого) студента быть строгим, тщательно контролировать посещаемость учеников, их дисциплину и т.д. Но здесь нет притворства в полном смысле слова — речь идет скорее о необходимости привести свои представления в соответствие с новыми функциями, ролями. Те принципы, которые были более или менее адекватны предыдущему статусу и роли студента, оказываются неадекватными в новой социальной позиции. В целом же нравственный мир и специфическая роль человека в конкретной статусно-ролевой ситуации соотносятся как общее и особенное, специфическое.
Новая роль, новые социальные позиции,, ситуации буквально принуждают перенимать еще недавно чуждые (неизвестные) вам моральные требования.
Невестка после свадьбы начинает вести себя со свекровью совсем не так, как еще два-три дня назад, — здесь нет притворства, а есть спецификация моральных приоритетов, норм в рамках единого ценностно-нормативного поля, характерного для данной культуры.
Человек, заходя в гости, стремится выразить приветливость, даже если и не очень уважает хозяина, — это не лицедейство, а соблюдение приличий, специальных нравственных норм поведения гостя, а значит, и проявление уважения к этим норам, традициям своего народа.
Функции, статусы и социальные роли образуют своеобразный стыковочный механизм, благодаря которому поведение человека становится предсказуемым, надежным для общества, а сам он становится носителем его культуры.
Социальные статусы и роли как средства описания взаимосвязи личности и общества позволяют во многом по-новому осмыслить социальную жизнь, установить более ясные «осязаемые» научно-логические механизмы подключения личности к сложным социальным образованиям, и в этом немалая заслуга социологической статусно-ролевой теории.
491
§ 4.
Социализация -^V



Одна из самых сложных проблем современного обществозна-ния.-^т ответ на вопрос, какие силы, обстоятельства сделалиду-ховный мир конкретного человека таким, какой он есть.
Формирование личности -г-; процесс предельно сложный и даже драматический. В нем участвует такое множество движущих сил, факторов (каждодневная трудовая деятельность, политические события, статья в газете, общение с товарищами, критика со стороны руководителя, чей-то неодобрительный взгляд, интересная книга и т.д.), что создание единой модели, способной объяснить духовный мир каждого человека, пути его становления, крайне затруднительно.
Социология стремится начертить лишь основные вехи, облегчающие анализ социализации — процесса формирования социальных качеств, свойств, ценностей, знаний и умений, благодаря которым человек становится дееспособным участником социальных связей, институтов и общностей.
Социализация — достаточно широкий процесс, который включает в себя как овладение навыками, умениями, знаниями, так и формирование ценностей, идеалов, норм и принципов социального поведения. Последнему и будет уделено наше внимание.
Рассматривая проблемы личности, мы фактически уже приступили к анализу процесса обретения личностью социальных свойств и качеств. Были выделены, с одной стороны, деиндивиду-ализированные социально-групповые, классовые, этнические, профессиональные и другие стандарты, образцы ролевого поведения, предпиеывающие личности определенный тип поведения, подкрепленные различными формами социального контроля, с другой стороны — автономная, независимая личность, подразумевающая потенциальную возможность собственной позиции, неповторимости, которая проявляется в процессе поиска, выбора и осуществления социальных ролей. Проследим, как взаимодействуют эти два основных «персонажа» в процессе социализации.
Учитывая, что в предыдущих главах мы неоднократно рассматривали вопросы, так или иначе связанные с проблемами социализации (овладение личности ролями, всеобщие латентные функции социальных институтов, первичные и вторичные группы, групповой контроль, ценностно-нормативный механизм и т.д.), остановимся лишь на отдельных аспектах проблемы. Кроме того, поскольку социализация является предметом изучения комплекса наук (психологии, социальной психологии, педагогики), будем делать акцент лишь на некоторых вопросах, имеющих социологическое звучание.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ 1. Социализация играет огромную роль в жизни и общество: как общества, так и личности. От успеха социа-соииллиЗАЦИИ лизации зависит, насколько личность, усвоив т'- сформированные в Данной культуре ценности, нормы поведения, наладив взаимодействие с партнерами в системе социальных связей, сумела реализовать свои способности, живет в социальном смысле комфортно и благополучно.
Взлеты и падения, уверенность и чувство обреченности, достижение благополучия и ощущение себя неудачником — вот лишь некоторые свидетельства эффективной (или неэффективной) социализации личности в том или ином обществе.
Для общества успех процесса социализации является своеоб разной гарантией того, что представители новой генерации суме ют занять место старших поколений в системе социальных взаи модействий, перенять их опыт, умения, ценности, т.е. гарантией самовозобновляемости социума. Неполадки в системе социализа ции порождают не только конфликты поколений, но и дезорга низацию социальной жизни, распад общества, его социальных институтов. у
2. Важнейшая социологическая проблема анализа процесса социализации — это исследование зависимости общего стиля социализации (включая обучение и воспитание как ее элементы), ролевых матриц взаимоотношений «учитель — ученик», «воспитатель — воспитуемый» и т.д. (назовем это моделью социализации) от социальной организации общества.
Г. Барди, И. Чайлд и М. Бекон в общем виде сопоставили стиль социализации детей в 104 бесписьменных обществах с преобладающим в этих обществах типом хозяйства (охота, собирательство, рыболовство, земледелие или животноводство). Оказалось, что в обществах охотников и рыболовов обучение детей больше ориентировано на независимость и самостоятельность, а земледельческие и животноводческие культуры делают акцент на ответственности и послушании. Это понятно -^ ведь земледельцы и скотоводы должны производить и накапливать материальные ресурсы круглый год, что требует строгой дисциплины и ответственности, тогда как охота и рыболовство больше зависят от ситуаций, успех в которых предполагает проявление индивидуальной инициативы и самостоятельности.
Модель процесса социализации.в существенной степени опре деляется не только спецификой социальной организации (в приве денном примере. — хозяйственной жизни), но и ценностями, кото- рым(привержено.общество. , ■■■■jv---tyt,
■• Так, по признаку дисциплинирована ребенка в зависимости от его возраста выделяют (в частности, Э. Голдфранк) четыре типа обществ, где у ребенка:
492
493
в
раннем
и
позднем
детстве
дисциплина
слабая;
в
раннем
и
в
позднем
детстве
дисциплина
строгая;
в
раннем
детстве
дисциплина
строгая,
а
в
позднем
детстве
—
слабая;



в раннем детстве дисциплина слабая, а в позднем детстве — строгая.
К примеру, японцы и ряд других народов предоставляют маленьким детям максимум свободы и практически их не наказывают^ что всегда вызывало удивление европейцев. В Японии ребенка кормят грудью в любое время, когда он попросит, не соблюдая в отличие от европейцев определенный режим сна и кормления, и вплоть до рождения нового ребенка; уже через месяц японка берет младенца с собой повсюду, даже в баню.
Строгость по отношению к ребенку проявляется позже, по мере его взросления. Взрослого ребенка японцы воспитывают в духе кон фуцианской морали, которая требует послушания, неукоснительно го соблюдения всех существующих норм и правил поведения. Европейская модель, наоборот, предполагает строгую дисциплину в детские годы и большую свободу в зрелости. У данной модели тоже есть ценностно-нравственные основания. ■•■&№■
Согласно традиционной христианской морали новорожденный несет на себе печать первородного греха и спасти его можно только беспощадным подавлением его воли. Именно в связи с этим в европейском средневековье строго ограничивалась физическая подвижность младенца: первые четыре месяца ребенок был полностью спеленатым, затем освобождались его руки и лишь много поз-т-я же — ноги. Физическое ограничение дополнялось духовным гне-■ ' том, которое объяснялось необходимостью подавлять и ломать волю ребенка, поскольку детское «своеволие» считалось источником всех пороков. Телесные наказания, жестокие порки (даже 18-летних юношей в английских университетах) применяются повсеместно. Лишь в конце XVII — начале XVIII в. нравы постепенно стали смягчаться под влиянием гуманистических доктрин. Появляется понятие о человеческом достоинстве, праве молодого яеловека на более или менее самостоятельный выбор жизненного пути, что и привело к утверждению нынешней европейской модели: требование соблюдения строгой дисциплины маленькими детьми и ослабление внешнего контроля по мере их взросления.
3. Анализ моделей социализации не только показывает глубокую увязанность стиля воспитания, ролевых стандартов, реализуемых в процессе воспитания, с социальной организацией общества, его культурой, традициями, но и заставляет более осторожно относиться к вопросам изменений, инноваций процесса социализации таких его важнейших элементов, как обучение и воспитание. С одной стороны, модель, воспитания обусловлена общественными социокультурными процессами (в тоталитарном обществе нельзя создать либеральной модели социализации), с другой стороны, модель социализации существует как некая данность^ обладает, как и все институализированные взаимодействия, неза-
494
висимостью от конкретных исполнителей («эффектом неодолимости»), которые, как правило, не вправе изменить ее по собственному произволу.
Так, отечественная модель обучения строится на определенной матрице взаимоотношений «учитель — ученик». Ее основу составляет убеждение в том, что ученик ленив и не желает учиться, поэтому учитель должен все рассказать ученику, дать домашнее задание и проверить его выполнение. Исходя из этой модели строится весь учебный процесс — от первого класса до аспирантуры, создаются учебники, готовятся новые кадры учителей и т.д. Формируются вполне определенные навыки, умения, качества, мотивации как у учеников, студентов (боязнь перед преподавателем, уверенность в том, что его обязаны учить, стремление «обдурить» учителя, изучать лишь то, что задано, и т.д.), так и у учителя (стремление все контролировать, объяснять, недоверие к ученику и т.д.). На этом держится институт образования в нашем обществе, так учились еще наши отцы и деды, на этом построены нормы (формальные и неформальные), регулирующие учебный процесс, где регулярный контроль — важнейшая составляющая учебного процесса. Очевидна связь подобной модели социализации с принципами организации нашего общества в течение нескольких веков. Понятно, что изменение модели социализации требует длительного времени и наличия у участников этой модели определенной мотивации (в нашем примере — соответствующей (не принуждающей) мотивации к учебе у студентов и учеников).
1. Как уже отмечалось, у новорожденного есть все СОЦИАЛИЗАЦИЯ биологические предпосылки стать дееспособным и личность- участником социальных связей и взаимодействий. этапы ДУХОВНОГО Но ни одно социальное свойство не является развития врожденным — социальный опыт, ценности, чув-
ЛИЧНОСТИ ство совести и чести и т.д. генетически не коди-
руются и не передаются.
Реализация этих предпосылок, их воплощение в определенные социальные качества, свойства зависят от того, с какой средой будет взаимодействовать человек. Существует множество свидетельств того, что дети, оказавшиеся по тем или иным причинам вне социальных связей (типа Маугли), не приобрели элементарных социальных свойств (они не могли ни говорить, ни мыслить, не испытывали'чувства совести, стыда и т.д.).
2. Другая сторона связи биологического организма и социальной среды, имеющая значение для процесса социализации, касается этапов становления и развития духовного мира личности, форм и сроков освоения ею социальных требований, ожиданий, ценностей. Речь идет, в частности, о хронологическом совпадении оптимального срока усвоения социальных ценностей, норм поведения с биологическим развитием человека. На это обращали внимание Ж. Пиаже, а также Л.С. Выготский, который подчеркивал в своем
495
учении
о критических периодах развития
личности, что определенные
социальные изменения духовного мира
личности происходят одновременно
с соответствующими биологическими
сдвигами.


Развивая идеи Ж. Пиаже, американский исследователь Л. Кольберг предложил, пожалуй, самую детальную и методически разработанную теорию морального развития личности.
В науке общепринято выделять три главных уровня морального сознания личности: 1) доморальный уровень, когда ребенок еще не усврил понятий о «хорошем» и «плохом» и руководствуется эгоистическими побуждениями; 2) уровень конвенциальной морали, т.е. ориентация на заданные извне нормы и требования; 3) уровень автономной морали, т.е. ориентация на внутренне воспринятую, интернализованную систему принципов. Л. Кольберг выделяет несколько стадий, соответствующих разным уровням морального сознания:
I. Доморальному уровню соответствуют следующие стадии: ,
-
ребенок слушается, чтобы избежать наказания;
-
ребенок руководствуется эгоистическими соображениями воз можной выгоды (послушание в обмен на какие-то конкретные бла га и поощрения).
II. Конвенциальному уровню соответствуют следующие стадии:
-
ориентация на «модель» хорошего ребенка, желание получить одобрение со стороны «значимых» других и стыд, вызванный их осуж дением (хотя на данной стадии начинают формироваться собствен ные понятия о хорошем и плохом, люди в основном стремятся при способиться к окружающим, чтобы заслужить их одобрение);
-
установка на поддержание установленного порядка и правил (хо рошо то, что соответствует правилам). Люди осознают правила по ведения в обществе, их необходимость. Именно на этой стадии формируется нравственное сознание. Человек начинает совершать поступки, самостоятельно ориентируясь на принятые этические цен ности.
III. Уровню автономной морали соответствуют следующие стадии:
-
осознание относительности и условности нравственных пра вил (релятивизм) и стремление логически обосновать их, свести к принципу полезности, целесообразности. Человек начинает пони мать, что «ложь во спасение» возможна и оправдана, у него возни кает собственное понимание и интерпретация понятий «хорошо» и «плохо»;
-
смена релятивизма признанием высшего закона, наличия выс шей неподвластной отдельным людям логики социальной жизни, соответствующей интересам большинства.
Лишь после этого наступает следующая стадия: 6) формирование устойчивых моральных принципов, соблюдение которых обеспечивается собственной совестью, безотносительно к внешним обстоятельствам и рациональным соображениям. Это уровень, которого достигают лишь «пророки» — И. Христос, М. Ганди, М.Л. Кинг и т.д.
496
Значимость теории Кольберга в том, что она в основном была подтверждена в ходе эмпирических исследований, проведенных в США, Англии, Канаде, Мексике, несмотря на некоторые выявленные отдельные недостатки (например, не всегда поведение людей жестко соответствует той или иной стадии; можно ли считать шестую стадию реалистической? может быть, «пророки» выразили определенные настроения, чаяния, а не действовали безотносительно к внешним обстоятельствам?).
Свою теорию Кольберг разрабатывал прежде всего для анализа морального развития детей, подростков, но в целом ее результаты свидетельствуют о наличии устойчивой связи между уровнем морального сознания человека, с одной стороны, и его возрастом и, что особенно важно, интеллектом — с другой.
Исследования показали: число детей, находящихся на домораль-ном уровне, с возрастом резко уменьшается. Для подростков наиболее типична ориентация на мнение «значимых других» или на соблюдение формальных правил (конвенциональная мораль). В юности начинается переход к автономной морали, который, как правило, сильно отстает от развития абстрактного мышления; последнее идет гораздо быстрее морального созревания. По существу, мы говорим о поэтапном формировании собственнот го «Я» личности. В основе этого процесса переход от духовного мира детства, опекаемого, управляемого, регулируемого взрослыми (т.е. внешне регулируемого поведения), к идейно-нравственному облику самостоятельного человека, развивающегося на основе личного убеждения, саморегуляции, самоуправления. Внешне эта перестройка духовного мира может проявляться сочетанием застенчивости, искренности и подчеркнутой самоуверенности, стремления обсуждать «философские», вечные вопросы, т.е. противоречивой совокупностью детских и взрослых черт. Высказывая сомнения, проявляя высокую критичность, личность пытается понять мир, себя, убедиться в справедливости накопленных и внушаемых ей ценностей, идей.
3. Следует учесть и еще одно очень важное для социологии обстоятельство: люди в своем развитии нередко «застывают» на подступах к автономной морали — это зависит не только от развитости их интеллектуального уровня, но и от социокультурной среды, в которой они живут, тонуса нравственной, деловой жизни. В обществе, в котором личность жестко подчинена внешним требованиям, где каждый ее шаг контролируется и т.д., создаются социальные предпосылки массового осуществления, по выражению М. Вебера, традиционных действий и мотивов, формирования человека, приученного «жить как все», «как положено».
Таким образом, достижение того или иного уровня морального развития общества в решающей степени зависит от характера социальных взаимодействий, нормативной регуляции социальных институтов, в которые вовлечены индивиды.
497
О
глубинной
связи
характера
социальной
практики
и
интеллекта,
социального
мышления
человека
свидетельствуют
блестящие
исследования
А.Р.
Лурия,
который
в
1931—1932
гг.
провел
эксперимент
в
отдаленных
районах
Узбекистана,
убедительно
доказав
общественно-историческую
природу
основных
форм
познавательной
деятельности
человека:
восприятия,
запоминания,
формирования
понятий,
логических
процессов.
Коренное
изменение
социальной
жизни
способствует
переходу
от
наглядно-действенного,
практического
мышления
(что
обеспечивает,
как
правило,
конвенциональную
мораль)
к
несравненно
более
сложным
формам
отвлеченного
мышления
(что
является
условием
автономной
морали)*.


4. Не следует думать, что процесс социализации осуществляется лишь в детские или юношеские годы, охватывает исключительно этап преобразования биологического организма в социально дееспособную личность. Безусловно, в юные годы создается фундамент духовного развития личности — этим и объясняется особая роль семьи в формировании личности. Вместе с тем вряд ли стоит чрезмерно абсолютизировать роль духовной основы, заложенной в детские и юношеские годы. При всей своей значимости эта основа содержит преимущественно чувственно-эмоциональный компонент, сугубо личностные качества: совестливость, честность, смелость и т.д. Лишь вступив во взрослую самостоятельную жизнь, участвуя во множестве социальных связей, в решающих социальных институтах, личность активно формирует свои приверженности, осознает конкретно, как и во имя чего жить. Еще не известно, станет ли совестливый человек принципиальным борцом с несправедливостью, приобретет ли активный индивид качества смелого политика и т.д.
Процесс обретения, уточнения, развития человеком социальных свойств, качеств по сути не знает возрастных границ, хотя, конечно, его фундамент сформирован в молодости. Меняются социальные роли, которые выполняет личность: рождение внука, выход на пенсию и т.д. требуют выполнения новых функций, оправдания новых ролевых ожиданий; каждый существенный статусно-ролевой сдвиг в жизни личности привносит что-то новое в ее духовный облик.
Социализация взрослых в какой-то мере даже более драматична, чем социализация в детские и юношеские годы, хотя она чаще всего внешне незаметна.
Считается, что взрослый человек испытывает ряд серьезных кризисов: так называемый кризис «сорокалетних», когда человеку кажется, что жизнь теряет прежний смысл, а те ожидания, притязания, которые были у него в молодости, нередко обнаруживают свою нереалистичность и многие казавшиеся незыблемыми нравственные понятия, сформированные в'молодые годы, приходится пересматривать; кризис «пятидесятилетних», когда человек ощущает суще-
* См.:
Лурия
А.Р.
Об
историческом
развитии
познавательных
процессов.
—
М.,
1974.
498
ственное противоречие между внезапно (для него самого) снижающимися физическими возможностями и возрастающими социальными, профессиональными способностями; кризис, связанный с «выходом на пенсию», и др.
В ходе социализации взрослых нередко происходит уточнение, пересмотр и даже отказ от тех установок, представлений, которые были сформированы в предыдущие годы. В этом случае принято говорить о ресоциализации, т.е. изменении ранее социализированного.
Ресоциализация может охватить и целые слои общества — как правило, в тех случаях, когда общество как целостная система социальных связей претерпевает глубокие изменения. Это требует подчас мучительной и трудной внутренней работы, корректировки, а иногда и обновления установок, жизненных ориентиров членов данного общества. Наглядный пример — сложные процессы, происходящие сегодня в духовной жизни наших соотечественников.
Процесс социализации на тех или иных этапах становления и развития личности имеет существенные различия. В современном обществе у взрослого человека моральное развитие, как правило, достигает ступени «автономной морали». Поэтому в духовном развитии людей старшего возраста существенно повышается роль самостоятельного анализа и оценки внешних социальных условий, событий, а также самовоспитания и других форм самодетерминации. Средства массовой информации в этом случае чаще всего не могут оказывать прямого воздействия на сознание индивида, этому чаще всего препятствуют глубокие и довольно устойчивые убеждения, оценки уже сложившейся личности. Что же касается молодежи, то она гораздо более подвержена прямым внешним воздействиям, в том числе сознательным. При внешней критичности молодые люди удивительно доверчивы, впечатлительны. Достаточно преодолеть их демонстративную недоверчивость, как оказывается, что молодые люди — нередко относительно легко управляемая масса.
Наличие автономной морали у взрослого человека обусловливает и другие особенности процесса социализации, например усвоение новых специализированных ролевых предуказаний в связи с достижениями нового статуса. При этом общая система моральных принципов, представлений, как правило, не претерпевает серьезных изменений. Главный же смысл социализации в молодые годы — формирование именно общей системы моральных принципов, мировоззренческих установок.
социализация ^ процессе социализации среда влияет на
как ЕДИНСТВО духовное развитие личности как целенаправ-
преднамеренных ленно, преднамеренно, так и непреднаме-и непреднамеренных ренно. Непреднамеренность проявляется в ФОРМ
499
том,
что личность, участвуя в социальных
институтах и общностях,
регулируя свои отношения в ходе
социальных взаимодействий, осуществляя
типичные для данного общества модели
деятельности (трудовой,
семенной, политической и т.д.), получает
и осмысливает определенные впечатления,
жизненный опыт,Чтобы выполнять
те или иные функции, человек проходит
через систему социального
отбора, предписаний, воспринимает
соответствующие ценности,
нормы поведения, подвергается контролю,
санкциям.

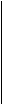
Другими словами, включаясь в систему социальных связей, личность получает жизненный опыт, предметное представление о том, что одобряется и отвергается данным обществом, как следует выполнять свои функции, обязательства, оценивает, принимает решения, делает жизненные выводы.
Естественно, в молодые годы спектр этих социальных ролей крайне узок. Ребенок же вообще во многом познает мир благодаря игре, имитации, подражанию старшим. Во взрослые годы резко расширяется спектр социальных ролей, а вместе с тем, приобретая жизненный опыт, человек вынужден реализовать массу ролевых предписаний, сталкивается с ролевыми конфликтами, что значительно обогащает его жизненный и духовный опыт, развивает в • нем способность самостоятельно анализировать, выбирать, решать. (и При этом ведущую роль в формировании жизненных представлений играют ценности, нормы, требования, с которыми индивид сталкивается в процессе выполнения решающих функций, связанп ных с профессией, имущественным положением личности, определяющих ее статус в обществе. . <;,
Как видим, реальное функционирование системы социальных связей оказывает огромное, по сути решающее социализирующее воздействие на личность. Но это воздействие непреднамеренное — мы имеем дело со скрытой, латентной функцией деятельности социальных институтов и общностей.
Для обеспечения большей надежности, гарантированности процесса социализации личности общество осуществляет целенаправленные формы социализации, прежде всего воспитание, в ходе которого происходит специальный отбор как задач, идей для формирования личности, так и средств, методов, способных обеспечить наибольший эффект этого процесса.
На ранних этапах развития общества процесс социализации был частью производственной деятельности, домашнего труда; специально организованных его фррм не существовало. Выделение, в частности, целенаправленного воспитания происходит лишь на определенных этапах социальной эволюции. Специальная организация усилий по формированию личности, видимо, предполагала (и предполагает) в том или ином виде понимание того, что:
500
а) личностью не рождаются, а ею становятся — это дает шанс для воспитания, уверенность в том, что воспитательные усилия небесполезны; б) духовный мир личности в немалой степени за-виеит от того, кто и как на нее оказывал воздействие, кто и какие идеи, представления сознательно прививает; в) желательно и возможно сформировать1 у личности качества, полезные для общества, социальной группы, семьи; г) личность формируется в результате как целенаправленных, так и непреднамеренных влияний среды, и роль последних решающая (этот вывод, по всей видимости, был сделан гораздо позже, после накопления опыта воспитания); д) формирование личности — это процесс взаимодействия внешних и внутриличностных факторов, т.е. результат воспитания зависит не только от умений, желаний воспитателя, но и от отношения к этим целям, идеалам воспитуемого.
В реальном процессе социализации органически переплетаются преднамеренные и непреднамеренные формы, причем первые тес но связаны со вторыми, дополняя и углубляя их воздействие. Ведь человек (особенно в юношеском возрасте) не всегда способен са мостоятельно глубоко осмыслить свои жизненные впечатления, определить в повседневной суете подлинные ценности жизни, ее перспективы и т.д. Процесс воспитания позволяет личности уве ренно использовать опыт предков и разум'общества в понимании смысла бытия, повышает общую эффективность процесса социа лизации личности, обретения ею социальных свойств и качеств, реализации ее способностей. ■т^-" -:-1'
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Социализация — процесс становления личности как целостного субъекта социальной жизни, в котором неразделимо стандартное и уникальное, социально-типичное и индивидуально-неповторимое.
Конечно, особенности социологического подхода так или иначе подразумевают под социализацией преимущественно процесс приобретения личностью социально-типичных, повторяющихся черт, присущих любому человеку, занимающему определенную социальную «ячейку». Но ведь все люди разные, и эти различия уникальность, неповторимость для нас не менее (если не более) важны, чем типичные предсказуемые, повторяющиеся свойства, которыми мы обладаем.
Индивидуальность важна не только для нас самих, но и для общества. Во многом уникальность, своеобразие мышления, восприятия мира «пророками» позволило им предложить новые варианты обустройства социальной жизни, новые ценности, нормы взаимоотношений. Индивидуальность, которая свойственна каждому из нас, — это, возможно, самая высшая ценность для каждого из нас.
501
Чем
объясняется индивидуальность личности?

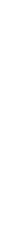



Одна из причин — генетическая неповторимость каждого человека. Генами социальные свойства не передаются, но врожденные качества могут сыграть опосредованную роль в реализации социальных свойств личности. Так, доброта нередко приобретает навязчивый характер, а совестливость у человека, обладающего повышенной тревожностью, может приобрести вид мании преследования.
Некоторые врожденные качества способны оказать немалое влияние: на восприятие индивидом социальной реальности, его поведение в системе социальных взаимодействий, оценку его поведения другими людьми. Прежде всего это темперамент, важнейшая психодинамическая характеристика человека, которая наследуется генетически. Конечно, сам по себе темперамент не дает возможности судить о содержательной стороне личности, определяя лишь динамическую сторону человеческих поступков. Вместе с тем поведение человека в каждый отдельный момент представляет собой единство социального содержания и темперамента, своеобразие которого оказывает влияние на степень проявления эмоций, мышление и т.д. Во многом именно темперамент, этот, в общем-то, биогенный фактор, придает неповторимость конкретной личности и зачастую становится Адной из причин ее успехов или неудач.
Основными показателями темперамента являются:
-
сенситивность, т.е. степень возбудимости человека;
-
реактивность, т.е. степень эмоциональности, впечатлитель ности;
-
активность, т.е. степень воздействия человека на внешний мир, его способности преодолевать препятствия при дости жении целей;
-
темп реакций, т.е. скорость движения, темп речи, находчи вость, быстрота ума;
-
пластичность — ригидность, т.е. приспособляемость или, на оборот, косность, неизменность поведения, упрямство и т.д.
На основе этих и других характеристик определяются основные типы темпераментов. Наиболее простой является классификация, предложенная И.П. Павловым: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик.
Другие врожденные свойства человека — это доминирование корковой или подкорковой умственной деятельности, образного (связанного преимущественно с развитостью правого полушария коры головного мозга) или логического (связанного с левым полушарием) типа мышления и др.
Врожденные свойства могут при прочих равных условиях в немалой степени влиять на социальную судьбу человека: очевидно,
502
что активный и упорный человек не будет обескуражен первой неудачей, а проявит настойчивость в реализации поставленной цели; безвольный, слабохарактерный человек, наоборот, может быть сломлен первой же неудачей и будет стремиться избрать себе иную социальную нишу и судьбу. И в том и в другом случае своеобразие темперамента может иметь, как видим, социальное проявление и социальные последствия.
Наука в ходе постижения проблемы индивидуальности обращает внимание и на другие аспекты. Так, рассматривая социальные роли, мы отмечали, что личность выполняет огромное множество социальных ролей, вместе с тем каждый индивид обладает неповторимым сочетанием этих деиндивидуализированных ролей, а это, в свою очередь, означает, что к уникальности темперамента, интеллекта и т.п. добавляется неповторимость социальных ситуаций, жизненного опыта, конфликтов, социальных переживаний.
Реальная духовная жизнь личности, образы, идеи, которые ее наполняют, представляет собой взаимодействие внешнего социального мира и внутренних свойств личности. Внешний мир не прямо отражается в сознании личности, а взаимодействует с ее уникальным жизненным опытом, порождая единство типичного и неповторимого в личности.
