
Философия ВСЯ / benua_protiv_liberalizma_
.pdf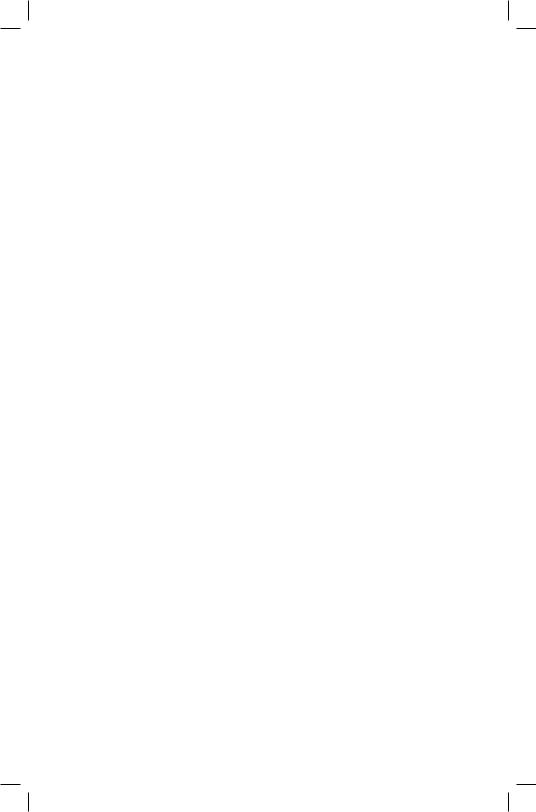
Нелишним будет заметить, что провозглашение прав имело с самого начала антиполитический смысл. Как от мечал Карл Шмитт, оно означало, что «сфера прав лично сти является в принципе неограниченной, тогда как сфера полномочий Государства принципиально ограничена»138. Параллельно идеология прав человека создает радикальное новшество: свободу индивида, независимую от его соуча стия в политических делах, свободу индивида, отдельную от свободы общества, к которому он принадлежит. В антично сти эта идея была бы воспринята как «абсурдная, амораль ная и недостойная свободного человека» (Карл Шмитт). Наконец, если права в принципе неограничены, то обязан ности могут быть только ограниченными. Во-первых, по тому, что, вытекая из общественной жизни, они не могут быть противовесом правам, имманентно заключенным в человеческой природе. Во-вторых, с точки зрения теории прав, невозможно представить себе неограниченные обя занности по отношению к сущностям и институтам, потен циально угрожающим индивиду. При таком взгляде неко торые вопросы остаются за бортом. Например, вопрос о том, может ли коллектив обладать правами по отношению к со ставляющим его индивидам и при каких обстоятельствах. Всякое ограничение прав политической властью при таком подходе может быть лишь исключением. Хорошим приме ром того, как утверждение суверенности индивида неизбеж но парализует политическую организацию общества, служат попытки Французской революции примирить права чело века и гражданина (это напоминает старую церковную ди лемму о примирении души и тела).
Статья 2 Декларации 1791 г. говорит о том, что права гражданина предназначены исключительно для защиты и сохранения прав человека. Подобное утверждение повто рялось в Декларации 1793 г. Этим утверждением револю ционное право, очевидно, пыталось примирить субъектив ное и объективное право, естественное право и право пози
401
Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 401 |
13.11.2012 15:28:32 |

тивное, спецификацию гражданства и принадлежность к человечеству. Одновременно в эпоху Революции есте ственный человек воспринимался исключительно в каче стве гражданина. Одной из причин этого было то, что рево люционная власть была преемницей власти предыдущей (монархической), в то время как американские декларации прав появлялись в совершенно другом контексте и были попытками конституирования совершенно новой полити ческой реальности139. Руссо, со своей стороны, уже обозна чил примат гражданина: «Нужно выбирать, кого мы хотим создать: человека или гражданина. Нельзя одновременно быть и тем, и другим»140. Сами редакторы революционных текстов придерживались гражданской концепции прав, ко торая уживалась у них с сильным законоцентризмом. Все это усиливалось их желанием обозначить приоритет прав нации. Универсальные права индивида неизбежно прино сились в жертву суверенитету нации. «Нация, — пишет Мона Озуф, — не рассматривалась как сочетание равных и сво бодных индивидов, но наделялась с первых дней Револю ции абсолютным приоритетом»141. Человек определялся как естественный субъект, которому для признания субъек том права нужно было стать объектом позитивного зако нотворчества. Этим обеспечивался примат прав граждани на, позволявший революционной власти обеспечивать по литическое объединение людей.
Рассматривая определение прав человека и гражданина в Декларации 1789 г., Карл Маркс отметил, что объедине ние этих сфер в либеральном и буржуазном праве ритори чески возможно, но практически противоречиво. Это свя зано с тем, что либеральное право разделяет человека на двое и наделяет его внутри каждой сферы целями, которые невозможно ни примирить, ни тем более свести воедино.
Так же как за правом на труд Маркс увидел могущество капитала, он понял, что за абстрактным понятием «челове ка» в идеологии прав скрывается игра частных интересов.
402
Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 402 |
13.11.2012 15:28:33 |

Вот почему он отвергает формализм прав человека и их ис пользование в интересах правящего класса, способного с по мощью этих законов определить, до каких пределов может простираться свобода каждого. «Ни одно из прав челове ка, — пишет Маркс, — не простирается за пределы человекаэгоиста, за пределы человека как члена гражданского обще ства, т. е. индивида, замкнутого на самом себе, на своем частном интересе и частном капризе, человека, отдельного от общества»142. Утверждать, что целью всякого политиче ского объединения является охрана прав человека, делать из прав гражданина простое средство для сохранения прав человека — значит ставить гражданина на службу человекуэгоисту: «В качестве человека в чистом виде, подлинного человека берется не человек как гражданин, но человек как буржуа… Реальный человек признается только в аспекте ин дивидуального эгоиста, а подлинный человек в качестве аб страктного гражданина»143.
Тезис Маркса подвергся критике Клода Лефорта, кото рый утверждал, что абстрактный, формальный и антиисто рический характер прав человека, наоборот, является их преимуществом, так как позволяет прибегать к ним в любой ситуации. Лефорт говорит о том, что права человека при надлежат человеку без определенных личных качеств и спо собны сами определять его: «Права человека сводят право к основе, которая дает ему внутреннее измерение и оболоч ку, препятствующие всем попыткам власти овладеть им»144. Однако Лефорт не объясняет, каким образом эти права, ко торыми никакая «власть» не способна овладеть, могут быть защищены и применены при вынесении за скобки всего по литического, в том числе и этой самой власти.
Все это ставит более общую проблему осуществления прав. Права человека вытекают из современного естествен ного права, а не из права позитивного. Естественное право, в отличие от последнего, не располагает никакими средства ми принуждения. Это право «разоруженное». Современное
403
Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 403 |
13.11.2012 15:28:33 |

естественное право является им в большей степени, чем ан тичное право, так как не признает социальной природы че ловека. Права, рассматриваемые как неотчуждаемые атри буты человека, т. е. права, уважения к которым человек мо жет требовать в силу одного только факта, что он является человеком, «не обладают сами по себе юридическим изме рением» (Симона Гойяр-Фабр). Для того чтобы его приоб рести, они должны утвердиться позитивным правом, которое может функционировать только внутри общества. В этом за ключается первый парадокс. Режи Дебрэ выразил его в сле дующих словах: «Тот, кто хочет быть простым индивидом и наслаждаться полнотой свободы, забывает, что не суще ствует прав человека без юридической формы государства»145.
Второй парадокс заключается в том, что, если права че ловека и имеют превосходство над позитивным правом, их сторонники забывают, что практическая ценность этих прав зависит от способности политических властей их обе спечивать. Бентам уже обозначил эту апорию контракту ализма. Она состоит в том, что права гражданина обосно вываются правами человека, в то время как вторые мо гут эффективно существовать только на основе первых. Жюльен Фройнд отмечает: «С одной стороны, требуют уважения к этим правам на том же основании, на каком уважением пользуется позитивное право. С другой сторо ны, дают понять, что ценность этих прав не должна зави сеть от обычных юридических инстанций, так как они пре тендуют на универсальность»146.
В более общем ключе можно говорить об отношениях политики и права. Идеология прав человека отстаивает пре восходство естественного права для того, чтобы ограничить прерогативы политики. В то же время право, будучи само по себе бессильным, всегда предполагает наличие другой инстанции для своего осуществления. Как писал Марсель Гоше: «Правовая точка зрения не позволяет дать представ ление о пространстве, в котором царит право. Таким обра
404
Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 404 |
13.11.2012 15:28:33 |

зом, нужно перейти на политическую точку зрения. Это вы звано ограниченностью правового мышления»147.
Напряженность между правами человека и правами гражданина, т. е. члена определенного политического со общества, проявляется и в дебатах вокруг так называемых «прав второго порядка», т. е. прав коллективных или обще ственных.
Эти права второго порядка (право на труд, право на об разование, право на медицинское обслуживание и т. д.) име ют иную природу, нежели индивидуальные права. Иногда они квалифицируются как «права-равенства» по отноше нию к «правам-свободам» или как rights of recipience по от ношению к rights of action148. Они являются гарантиями для члена общества пользоваться положительными возможно стями государства. Это не столько естественные атрибуты, сколько качества определенного общества в определен ную историческую эпоху, позволяющие его членам пользо ваться плодами его развития. Они не только «предполагают наличие организованного гражданского общества, которое служит гарантом их эффективности»149, но и предполагают наличие общества в той мере, в какой они основаны на по нятии солидарности. Их невозможно вывести из дополити ческой природы индивида. Наконец, в противоположность правам первого порядка, в принципе неограниченным, они имеют предел, так как основаны на требованиях по отноше нию к другому (к обществу), а значит, и зависят от возмож ностей другого.
В то время как теория индивидуальных прав стремится ограничить возможности государства, коллективные права именно на государственной власти основывают свою при вилегию. Они стремятся не ограничить государство и выне сти его за скобки, но, наоборот, вовлечь и призвать его как гаранта и поставщика необходимых услуг. Жан-Франсуа Кервеган пишет: «Признание общественных прав, имеющих характер требований, подразумевает важное место, которое
405
Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 405 |
13.11.2012 15:28:33 |

должно быть отведено общественной власти, поскольку она одна способна гарантировать гражданам пользование этими правами, несмотря на противодействие частных интересов, стремящихся нанести общественным правам ущерб»150.
Такова причина враждебности либеральных кругов по отношению к коллективным правам, которые они ха рактеризуют в лучшем случае как «прекрасные идеалы»151, т. е. как прекраснодушные мечтания без единого шанса на реализацию! Если некоторые из этих прав можно свести к индивидуальным, то существуют и индивидуальные пра ва, которые немыслимы без прав коллективов. Например, право индивида говорить на своем языке неотделимо от су ществования группы, для которой этот язык является род ным, а значит, коллективное право (на существование) здесь определяет индивидуальное. Вот почему Хайек решитель но отбрасывает общественные права, на том основании, что они восходят к распределительной справедливости. Он пи шет: «Всякая политика, имеющая своим идеалом распре делительную справедливость, неизбежно ведет к разруше нию права»152.
Было бы напрасно вслед за Клодом Лефортом153 изы скивать способы «засыпать ров» между индивидуальными и коллективными правами, так как разница между первы ми и вторыми — в природе, а не в степени. Это различие простирается за пределы классической антиномии между свободой и равенством, понятым как справедливость154. С одной стороны, индивидуальные права могут послужить препятствием для реализации прав коллективных (впрочем, верно и обратное). Вот почему либералы и социалисты часто обвиняют друг друга: первые в нарушении индивидуальных прав, вторые — в нарушении коллективных. С другой сторо ны, большое количество общественных благ невозможно «поделить», т. е. их можно правильно воспринимать только при холистском взгляде на общество. Установление коллек
406
Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 406 |
13.11.2012 15:28:33 |
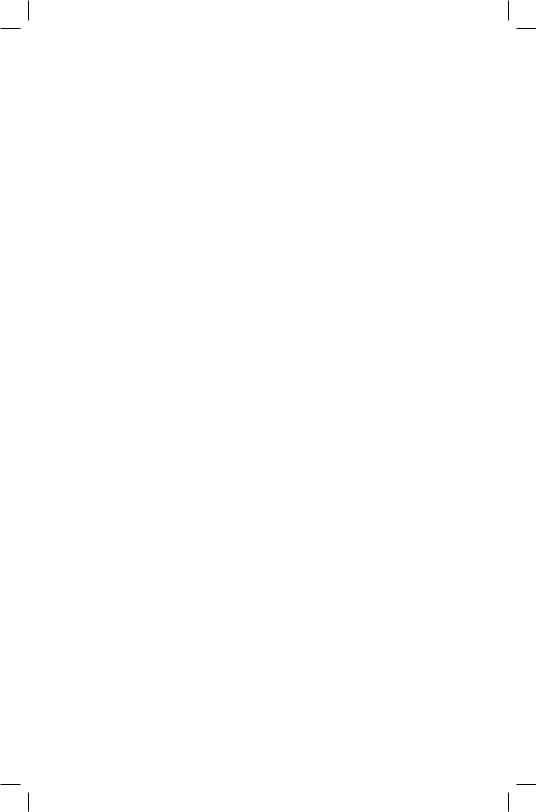
тивных прав подразумевает важность признания такого по нятия, как «соучастие», и ведет к признанию общественных групп субъектами права, в чем им решительно отказывает классическая теория прав человека. Либералы черпают от сюда аргументы для критики общественных прав. Можно, однако, сделать и противоположный вывод. Общественные права вызывают больше доверия, чем те, которые почерп нуты из абстрактной индивидуальной «природы», особенно если они осуществляются во имя распределительной спра ведливости.
В общественном мнении борьба за права человека часто представляется как борьба за демократию. В 1990 г. тогдаш ний Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр заявил, что «полная демократизация Европы является еще одним подтверждением универсального характера Декла рации прав человека»155. То же самое утверждали Фрэнсис Фукуяма и другие авторы. В данном ракурсе демократия и права человека воспринимаются как вечные спутники, чуть ли не как синонимы.
Подобное мнение много раз подвергалось сомнению. Жюльен Фройнд отмечал, что прямая связь между демо кратией и правами человека «не очевидна». Жан-Франсуа Кервеган пишет, что она «проблематична»156. По мнению Мириам Револь д’Аллонн, данная связь не подразумевается сама собой157.
Этому есть несколько причин. Первая заключается в том, что демократия — это политическая доктрина, а идео логия прав человека — юридическая и моральная. Между ними нет прямой связи. Демократия как политический режим стремится ограничить все, что недемократично и, шире, неполитично. Теория прав, напротив, стремится огра ничить прерогативы политики. Как мы видели на примере прав человека и прав гражданина, первые и вторые апелли руют к разным субъектам. Права человека не хотят знать никого, кроме абстрактного индивида, права гражданина
407
Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 407 |
13.11.2012 15:28:33 |
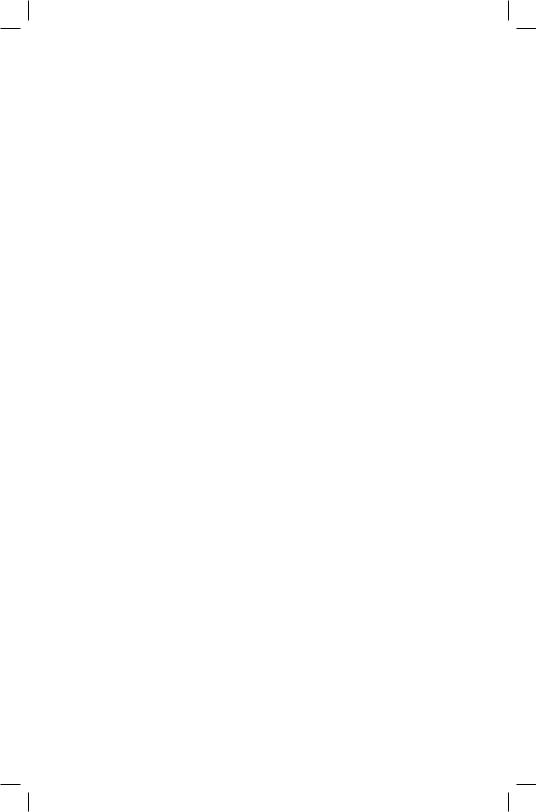
не признают никого, кроме гражданина. Если отвлечься от юридической риторики, права гражданина (всеобщее равное избирательное право, равенство людей перед законом, рав ный доступ к общественным должностям) фундаментально отличны от прав человека. Они являются не врожденными атрибутами, но приданными возможностями, характерны ми только для данного общественного строя (демократии) и только в рамках специфического соучастия (данного по литического сообщества). Теория прав человека предостав ляет право голоса всем людям на том только основании, что они являются людьми («один человек — один голос»). Демократия предоставляет право голоса всем гражданам, но отказывает в нем негражданам. Карл Шмитт пишет: «Демократические права гражданина не предусматривают индивида во внегосударственном состоянии „свободы“, но исключительно гражданина, живущего в Государстве. Они имеют сущностно политический характер»158.
Демократический режим черпает свою легитимность из народного согласия, выражающегося через голосование. Фактически суверенитет при демократическом режиме при надлежит народу. Дискурс прав человека, напротив, пози ционирует себя как моральное благо и универсальную цен ность, которая должна быть внедрена повсюду в силу своей универсальности. Его ценность не зависит от демократиче ского одобрения и даже может ему противоречить. «Пробле матика прав человека, — пишет Револь д’Аллонн, — имеет индивидуальную основу, „естественную“ природу индиви да, и, таким образом, входит в противоречие с суверените том»159. Это противоречие может выражаться в двух аспек тах. С одной стороны, так же как международное право под влиянием идеологии прав человека предусматривает право на вмешательство, а значит, ограничивает суверенитет госу дарств, внутреннее право уже в рамках самих государств мо жет ограничивать суверенитет народа. С другой стороны, данная теория обуславливает, что простое всеобщее голосо
408
Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 408 |
13.11.2012 15:28:33 |

вание не является легитимным, если оно утверждает посту латы, ей противоречащие. Ги Хааршер объясняет, что в пер спективе прав человека «демократический принцип может функционировать только в строгих границах, определенных философией прав человека: с точки зрения философии кон трактуализма, единственно легитимным является подход, при котором индивид защищает свои права от угрожающего им вмешательства большинства»160.
Результаты демократического голосования, не соответ ствующие правам человека, тотчас объявляются иррацио нальными и незаконными. При такой точке зрения с поро га отвергается «популизм». Когда встает вопрос о правах человека, сразу же идут в ход утверждения о том, что на род часто думает «плохо». Жан-Франсуа Кервеган пишет: «Признание и провозглашение прав человека подразумева ет, что суверенитет, каким бы он ни был, монархическим или народным, должен быть ограничен прочными преде лами»161. В то же время всякое ограничение народного су веренитета представляет собой атаку на демократию. Оно отвергает обязанность граждан подчиняться только избран ным ими правительствам. Оно подразумевает, что высшим авторитетом для граждан всех стран мира являются не из бранные ими демократические правительства, а междуна родные инстанции и суды, выступающие от имени истины. В то же время легитимность этих инстанций находится под большим вопросом. Народный суверенитет обуславливает ся целым рядом ограничений, а это знаменует прямое воз вращение к политической и общественной гетерономии (двоевластию)162.
Знаменательно, что сегодня выдвигается гораздо больше претензий к правительствам, «нарушающим права чело века», чем к авторитарным правительствам, не выполняю щим демократические нормы. Трехсторонняя комиссия, созданная в 1973 г., главными теоретиками которой были Збигнев Бжезинский и Сэмюэль Хантингтон, выдвинула
409
Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 409 |
13.11.2012 15:28:33 |

тезис об ограничении демократии в странах Третьего мира для того, чтобы компенсировать рост политической неста бильности, вызванной планетарной экспансией рынка. Эдмон Жув пишет: «Для того чтобы ответить двум требова ниям — ограничению демократии и выживанию капитализ ма, был найден новый ингредиент — права человека»163.
Определение демократии как «режима, уважающего пра ва человека», т. е. сводящего ее к либеральной демократии, немыслимо с интеллектуальной точки зрения164, но полити чески рентабельно, так как позволяет оспорить любое демо кратическое решение, не соответствующее идеологии прав человека. Жан-Фабьен Спитц констатирует противоречи вость подобного демарша. Он пишет, что «говорить о том, что права человека зависят от разума и природы, и устраи вать дискуссию по их поводу с людьми, лишенными разу ма, — значит разрушать их рациональную основу»165.
«Невозможно ничего точно сказать о политике прав че ловека, так как неизвестно, в какой мере эти права являют ся политическими», — писал Клод Лефорт. В одной из статей, опубликованных в 1980-х гг., Марсель Гоше прямо утверж дал, что «права человека политикой не являются»166. По этому поводу было сказано: «Наибольшая опасность, ко торая кроется в возвращении к правам человека, — это ока заться в тупике противопоставления индивида обществу, впасть в старую иллюзию, что общество можно строить на основании желаний индивида и исходя из требований индивида. Невозможно отделить поиск индивидуальной автономии от стремления к автономии общественной»167. «Права человека, — заключает он, — не являются полити кой в той мере, в какой они не дают нам представления об обществе, составной частью которого они являются. Они могут стать политикой только при условии, что дают сред ства к преодолению отчуждающей динамики индивидуа лизма и служат ей противовесом»168.
410
Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 410 |
13.11.2012 15:28:33 |
