
Теория организации. Учебное пособие / Лекции 1-5
.DOC



2
3
3
2


















10
9
8
6
4
7
4
5
6
8
9
7
5
10
Рис.4.2. Схемы формирования объектов управления
В условиях хозяйственных (коммерческих) организаций и в соответствующих им системах управления приведенные общие, - для разных видов организаций и систем управления, - различия дополняются еще различиями:
-
в формах собственности;
-
в том, как распределяются доходы и убытки между членами организации;
9. в том, как обеспечивается участие членов организации в принятии решений.
“Организационную форму” как категорию не следует смешивать с понятием “формальная организация”, хотя бы потому, что организационные формы управления нуждаются в документальном закреплении (формализации). Свои организационные формы имеются и в динамике управления. И в статике, и в динамике организационная форма не есть нечто заданное и пассивное относительно содержания деятельности. Как показывает практика, она оказывает огромное влияние на результативность и эффективность управления, а потому к выбору организационной формы нужно подходить внимательно и ответственно. Названные же переменные (различий) следует использовать как признаки для идентификации вариантов и, комбинируя их возможными в принципе сочетаниями в организационных решениях по системам управления, выбирать лучший вариант.
Самоуправление и самоорганизация. Всякая сложно организованная система не только управляема (извне), но и самоуправляема. В виду наличия иерархии, промежуточные ступени выступают “информационными фильтрами”, агрегирущими и дезагрегирующими сообщения при их движении соответственно вверх и вниз. Это
значит, что орган управления подсистемы, выступая вместе с подчиненными ему структурными единицами объектом управления для вышестоящего, в то же время в меру своей автономии самостоятельно принимает решения по информации, сигнализирующей ему о положении дел на вверенном ему объекте. И то, в какой степени данная подсистема оказывается независимой от органа управления системы, в той она и самоуправляема. Уже в силу того, что организация есть функция управления, самоуправлемой системе свойственна и самоорганизация. Основатель кибернетики Н.Винер отмечал возможности самоорганизации в естественных и в искусственных системах, утверждая, что “живые организмы сами себя организуют” и что “явления самоорганизации имеют место и в технических устройствах”. “Самоорганизацию системы …можно определить как ее способность менять во времени свою структуру…и поведение…с целью приспособления к изменяющимся условиям среды”. Или “под термином “самоорганизация” в широком смысле слова понимается процесс самопроизвольного увеличения порядка или организации системы”.
Самоорганизующаяся система есть высшая фаза развития систем с адаптацией. Ей предшествовали: самонастраивающаяся система, способная “автоматически” вслед за изменением обстановки менять настройку (задатчики) своего регулятора, и самообучающаяся система, способная на основе накопления прошлого опыта и анализа своей предистории совершенствовать алгоритм выработки управляющего воздействия, программы действий.
Примером самоорганизующейся системы в экономике может служить частное предприятие, какое в отличие от государственного, возникающего по решению сверху, зарождается по инициативе снизу, да и сама свободная рыночная экономика в противоположность централизованно плановой - то же. В самоорганизации видят также общественную силу, способную противостоять бюрократии и олигархии в государственном управлении. Так, знаменитый писатель А.Солженицын призывает: “Надо самоорганизовываться, строить самоуправление,… сегодня наше спасение – это самоорганизация”. В самом деле, самоорганизацию связывают с творческим подходом к восприятию действительности и решению обусловленных ею проблем, когда действия по шаблону мало подходят для конкретной ситуации. Благодаря этому самоорганизация и расширяет адаптационные возможности систем управления. "В моём понимании. – пишет крупный ученый, - самоорганизация представляет собой Творческий процесс. Он может быть описан единой моделью на всех уровнях существования Вселенной, начиная от космогенического уровня и кончая уровнем человеческой деятельности”. Причем, “самоорганизация легко прослеживается в мире живого. Труднее говорить о ней в мире неживого”.
В самоорганизации и самоуправлении живых систем отражается взаимосвязь базовых категорий “управление” и “организация”, что можно видеть, например, уже в одном из определений местного самоуправления. “Система местного самоуправления – это совокупность мероприятий, методов и средств направленных на упорядочение деятельности местного сообщества по решению стоящих перед ним задач на основе принципов самоорганизации (подчеркнуто мною – Я.Р.), самофинансирования, самостоятельности с целью улучшения качества жизни населения территории (региона) и увеличения его вклада в развитие всего общества”. Конечно, взаимовлияние отношений, выражаемых названными категориями, характерно не только для современного социума, но существовало уже в глубокой древности. Так, “социальная организация кочевых народов, находящихся на стадии общиннородового строя, дает примеры взаимовлияния “родового” и “общинного” начала в самоуправлении первобытных общностей при преобладании “родового” (или “тотемного”) начала, хотя…многое зависело от региональных особенностей, организации хозяйства (подчеркнуто мною –Я.Р.), наконец, просто от климатических условий и особенностей ландшафта окружающей среды”. Самоорганизующиеся системы - это “самовосстанавливающиеся системы, в которых результатом является сама система....В противоположность этому система, формирующаяся под действием внешних по отношению к ней сил (несамоорганизующаяся система), порождает в результате своего развития систему, отличающуюся от исходной”. Отсюда следует, что все живые системы являются самоорганизующимися, а те биологические виды, какие в ходе эволюции не смогли “реорганизоваться”, не смогли и выжить. Ведь свойствами самоорганизующихся систем является постоянная готовность к самообновлению посредством обмена вещества и энергии с внешней средой и то, что они “являются закрытыми системами по отношению к своей организации. Это означает, что они поддерживают неизменность своей внутренней организации, допуская, тем не менее, временные и пространственные изменения своей структуры”. Так, например, считается, что у белковых молекул, сложенных из аминокислотных “блоков” и пептидов и свернутых в спирали, внутренние части не подвержены эволюционному отбору, а потому составляют то устойчивое образование, какое характеризует, в отличие от конвергентного (поверхностного, внешнего) сходства, то, что называется родством. Можно, конечно, сомневаться в безусловности приведенного утверждения о неизменности организации при изменчивости ее структуры, но это зависит от того, что понимать под “внутренней организацией” и “структурой”. Но бесспорно, что “упорядоченность и устойчивость системы зависят как от самоуправления, так и от управления со стороны вышестоящей системы”. Однако в природе самоорганизация встречается не только в органическом, но и в неорганическом мире. Она трактуется как “самопроизвольное образование с неоднородной регулярной структурой”, т.е. содержащей как бы чередующиеся элементы. Примерами таких образований в пространстве состояний могут служить геологические структуры, перистые облака и т.д., а во времени существования - периодические реакции (автоволны), биоритмы и т.п. Самоорганизация “осуществляется в неживой и живой природе…в различных формах и соотношениях, в частности и без всякого управления… . Это не исключает предсигнальных или сигнальных воздействий при биосинтезе, особенно апериодических полимеров, а на уровнях надорганизменных биосистем – скажем, сигнальных воздействий временного или постоянного вожака мало организованной стаи, когда самоорганизация в поведении индивидов переходит в примитивные, еще только промежуточные формы управления”. С самоорганизацией связано возникновение структур из беспорядка – появление локально упорядоченных участков, т.е. таких, поведение элементов которых согласуется внутри системы, на фоне несогласованных действий таких же вне системы, при отклонении систем от состояния равновесия. Признано, что “внутренние механизмы самоорганизации глубоко связаны с ролью хаоса на микроуровне и с его конструктивными и деструктивными проявлениями на макроуровне”. Это означает, что рост упорядоченности в одном месте, сопровождается ее уменьшением в другом, и обратно – параллельно уменьшению порядка в одном месте происходит его возрастание в другом.
В социальных системах нельзя полагаться только на самоорганизацию и самоуправление. Организационные условия обеспечения целостности системы требуют определённой степени централизации одновременно при том, что подсистемы помимо внешнего могут иметь, в меру своей автономии, и внутреннее управление. Наличие последнего означает, что подсистемы являются и самоуправляемыми именно в той мере, в какой они независимы от центра управления системы, в которой, таким образом, наряду с централизацией имеется и определенная степень децентрализации. Российские экономические реформаторы сделали однобокий упор на самоорганизацию, так как посчитали, что рынок сам всё отрегулирует и расставит по “своим местам”. Но уже через пять лет, в виду плачевного хода реформ, встал вопрос об усилении “регулирующей роли государства” в экономике, т.е. органов государственного управления экономическими процессами. Фактически ими была проигнорирована организационная связь: целое (среда) – часть (предприятие). Она выражает импликативную детерминацию - “если…, то…” между условиями, характеризующими среду, и возможностью изменения (при тех или иных их значениях) ее внутренней структуры. Каждый мог видеть эту связь хотя бы в своем домашнем хозяйстве. Так, оставшийся не съеденным хлеб, с течением времени либо засыхал, превращаясь в сухарь (хранение в сухих и/или холодных условиях), либо превращался в питательную среду для новой жизни (хранение во влажных и теплых условиях), покрываясь плесенью. И для того, чтобы в народном хозяйстве подобно микроскопическим грибкам зарождались во множестве малые частные и паевые предприятия (как коммерческие организации свойственные рынку и необходимые бизнесу) тоже нужны соответствующие условия. Вот их то и должны создавать органы государства, а не самоустраняться от этого. Иначе говоря, при рыночной экономике меняется роль государства и его органов сравнительно с экономикой централизованно плановой. От прямого управления хозяйственными организациями, реализуемого непосредственными воздействиями на них, оно переходит к косвенному управлению, осуществляемому путем воздействий на параметры окружающей их среды. Следовательно, самоорганизация на одном уровне – предпринимательской инициативы должна дополняться организацией на другом – государственной власти, где организаторская деятельность как раз и составляет доминантную функцию управления.
Устойчивость и равновесие организационных систем. Под устойчивостью понимается способность системы сохранять сложившуюся пропорциональность между образующими частями, а, значит, и внутреннюю сбалансированность, равновесие. Чем устойчивее организация, тем длительнее ее существование и тем обширнее ареал обитания или “стратегическая зона хозяйствования” организаций данного вида. Устойчивость не абсолютна, а относительна тех условий, в которых находится система. Когда оказываемые на нее воздействия превосходят некий критический порог, возникают деформации, автоколебания, приводящие к разрушению системы. Живые системы пластичны, благодаря гомеостазу, под которым понимается “набор взаимосвязанных правил поведения органической системы для поддержания ее в устойчивом состоянии”, при котором значения жизненно важных переменных (температура тела, ритм кровообращения и др.) сохраняются в физиологически допустимых пределах. Причем, “по отношению к сложным объектам, например, таким как человеческий организм или социальная организация, природа выстраивает гомеостатические сети. В таких сетях каждый простейший гомеостат (состоящий только из одного ядра) выступает как некоторый полюс, то есть компонент в другом гомеостате иерархически более высокого уровня. Благодаря такому строению естественных целостностей в них поддерживаются постоянными одновременно многие процессы”.
Термин “гомеостаз” был предложен У.Кенноном для описании биологического саморегулирования функций организма, а способность системы оставаться в области устойчивости получила название живучести. Благодаря этому качеству системы адаптируются (а если - нет, то погибают) к изменениям среды, либо модифицируя свое поведение, либо путем перестройки, что позволяет им находится по отношению к ней в состоянии динамического равновесия. Различают разные типы равновесия:
- “энтропийное”, когда сложная система разлагается в процессе распада на простые (в экономике это может быть разукрупнение объединений, реструктуризация предприятий для облегчения их продажи при приватизации, децентрализация управления транснациональными корпорациями и делегирование дополнительных полномочий на уровень отделений, какие в условиях глобализации рынка лучше приноровляются к особенностям местного спроса и т.д.);
- “гомеостатическое”, когда структура системы сохраняется вопреки возмущениям;
- “морфогенетическое”, когда возмущения преодолеваются за счет структурной перестройки и роста. Равновесие предполагает наличие соразмерности в организационных структуре и процессе, а ее обеспечение рассматривается как принцип деятельности, который “является общим для всех областей науки и всех функций управляющего. И всё же его применение более эффективно, когда дело касается организации, чем каких-либо других функций”.
Область устойчивости, называемая гомеокинетическим плато, определяет границы существования системы. Предназначение управления в том и заключается, чтобы удерживать систему на гомеокинетическом плато, где временно достигается состояние равновесия, возможно дольше (рис.4.3).
С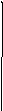 опротивление
управлению
опротивление
управлению
Область положительной обратной связи
Область отрицательной обратной связи
Система устойчива
Область положительной обратной связи





Сила управляющего воздействия
Рис. 4.3. Гомеокинетическое плато - область устойчивости системы
Для этого необходимо преобладание в системе управления отрицательной обратной связи, без которой недостижима управляемость. Отрицательная обратная связь характеризуется уменьшением выхода при увеличении входа (отношение выхода ко входу меньше единицы), тогда как для положительной обратной связи характерно увеличение выхода, приводящее к увеличению входа (отношение выхода ко входу больше единицы), что требует дальнейшего увеличения воздействия на входе. При этом попытки справиться, скажем, с отклонениями, требует всё больших затрат ресурсов в каждом новом управленческом цикле, пагубные последствия чего очевидны. За пределами гомеокинетического плато находится область действия положительной обратной связи. Само название этой связи (как, впрочем, и противоположное ему другой) вряд ли можно считать удачным, поскольку в житейском восприятии слова “положительно” и “отрицательно” имеют обратное лексическое значение. На самом же деле влияние “отрицательной” обратной связи на объект управления и систему в целом благотворно, тогда как воздействие “положительной” разрушительно.
“В традиционных теориях организации, - считают Д.Катц и Р.Кан, - часто рассматривают человеческую организацию как закрытую систему. Эта тенденция привела к тому, что упускается из виду различие между организационным окружением и характером организационной зависимости от окружения. Это привело также к чрезмерной концентрации внимания на принципах внутреннего организационного функционирования, что в свою очередь не дало возможности разработать и понять процессы обратной связи, весьма важные для выживания”. Причем, нужна не просто обратная связь, а такое качество ее организации, какое обеспечивает информативность сообщений. “Если обратная связь не поддается обработке, благодаря которой персонал относительно легко воспринимает информацию, то маловероятно, чтобы она оказывала положительное воздействие на производительность”.
Под влиянием любого (управляющего или возмущающего) воздействия в динамической, т.е. способной меняться со временем, системе возникает “переходный процесс”, обусловливаемый тем, что система не может мгновенно перейти в то состояние, какое “предписывается” ей воздействием. При этом в ней возникают автоколебания, и если они постепенно затухают, если “количество гармоник большой амплитуды уменьшается, то в системе будет возникать некоторая упорядоченность, будет происходить самоорганизация. Такую упорядоченность часто называют диссипативными структурами”.
Неустойчивость стационарных состояний ведет к явлению спонтанной самоорганизации, система оказывается в так называемой точке бифуркации - на переломном моменте, когда должно определиться направление изменений ее организационных переменных. “Такие системы как бы “колеблются” перед выбором одного из нескольких путей эволюции, и знаменитый закон больших чисел, если понимать его как обычно, перестает действовать. Небольшая флуктация может послужить началом эволюции в совершенно новом направлении, которое резко изменит всё поведение макроскопической системы. Неизбежно напрашивается аналогия с социальными явлениями и даже с историей”.
В заключение отметим, что риторический вопрос: “Возможно ли управлять без организации?” получил тогда же, когда был задан, отрицательный ответ. Действительно, в социальных системах “управление” и “организация” тесно взаимосвязаны. Это можно видеть и во включающем в той или иной форме эти слова наличии производных составных терминов: организационная система – система управления, организация – функция управления, организация – управляемый процесс организовывания, управляемость – организуемость, организующие методы управления, организационные формы управления. Остается согласиться с оценкой высокой социальной значимости категорий “организация” и “управление”, какая дается в литературе. “Организация и управление – это средства достижения целей, стоящих перед обществом, и обеспечения благосостояния его членов”.
Лекция 5. Наука организации
Теория организации как междисциплинарная наука. Организационная наука изучает организационные системы. Поскольку такие системы имеются в качестве ингредиента или своего рода “соединительной ткани” в системах разной природы, постольку она взаимодействует с теми отраслями научного знания, для каких эти системы служат объектами изучения. Всеобщность феномена организации или организованности, порядка, какой встречается в системах неорганического, органического и надорганического (духовного) мира говорит о том, что организация вообще есть свойство материи. Организацию можно рассматривать и как состояние какой-либо материальной (физической), а также идеальной (информационной) системы, отличаемое от другого возможного состояния уровнем развитости или выраженности названного свойства. Проявления организованности таким образом есть и в космосе, и в земной природе, и в человеческом обществе. И хотя социальная организация иногда ассоциируется с бюрократической структурой, а потому небольшие и неформализованные образования, вроде “Римского клуба”, предлагается именовать “неорганизацией”, всё же прав выдающийся отечественный ученый А.Богданов, полагавший, что “полная неорганизованность - понятие без смысла”. И наука организации, выявляя то общее, что присуще объектам изучения других наук, находится как бы “на стыках” между ними. Тем самым она выполняет интегративную, способствующую преодолению эклектики в познании, связующую роль по “наведению мостов” между естественными, общественными и техническими науками, какая важна для обеспечения научного прогресса в целом. Как отмечал Н.Винер, “при всём различии между живыми системами и обычными механическими системами неверно было бы отказываться от мысли, что системы одного типа могут в какой-то мере помочь нам раскрыть сущность организации систем другого типа”. И наука организации как раз и занимается анализом аналогий в устройстве и функционировании разных систем, выведением и формулированием общих законов и принципов. Поэтому она связана и с точными дисциплинами, и с гуманитарными – относящимися соответственно к названным выше группам наук. И если эта связь проявляется во взаимодействии с такими науками, как минералогия, кристаллография, физика, химия, биология, экология и др., как социология, психология, юриспруденция, экономика, философия, культурология и др., как механика, технология, кибернетика и др., то ее теория сопряжена прежде всего с теориями информации, управления, решений и систем.
Значение теоретического знания. Научная теория концентрирует в себе наиболее существенные знания, добываемые в результате проведения исследований и их практической апробации. В любой отрасли знания она формирует “ядро” науки, к которому “притягиваются” факты, образующие “оболочку”. Выражаясь фигурально, “ядро” - абстракция, а “оболочка” - конкретика. “Теория должна давать целостное представление о закономерностях и существенных связях определённой области действительности, теоретическое знание предполагает сложную систему идеализаций,..”. Теория не есть объяснение единичного факта, того, почему он возник или почему скрывающееся за ним явление происходило определенным образом. Она всегда есть обобщение, и такое, какое (если теория достигла известного уровня развития) позволяет объяснить, почему возникают факты данного рода, и в том числе интерпретировать каждый случай или наблюдаемую ситуацию в отдельности. Чем больше разнородных фактов обобщает теория, тем она абстрактнее или идеализированнее. Теорию относят к “наиболее развитой форме научного знания”, причем, теоретические построения “в развивающейся науке создаются не за счет прямой схематизации опыта, а путем трансляции уже имеющихся абстрактных объектов (моделей, с помощью которых в идеализированной форме описываются закономерности поведения реальных систем – Я.Р.) из более развитых областей знания”. Это, наряду с всеобщностью феномена организации, то же одна из причин, объясняющая междисциплинарный характер организационной науки. Но именно общая теория, как заметил еще К.Боулдинг, предоставляет “возможность специалисту в какой-либо одной области знаний получать информацию от представителей других областей”. А это существенно, поскольку, как отмечает другой системный аналитик, “искусственным разграничением различных областей знания нельзя, вообще говоря, ничего достичь”.
Наличие развитой теории и делает фактологию (накопление систематизируемых фактов) наукой. Научные “обобщения позволят нам, - отмечает крупный специалист в области системного анализа Р.Акофф, - глубже понять особенности фундаментальной структуры организованных систем”. Но теоретическая разработка может и подтверждать имевшиеся гипотезы. Так, в середине 90-х гг. бывшие советские ученые В.Жаркова и А.Косовичев, по контракту работавшие в странах Запада, сформулировали теорию, объясняющую сотрясения фитосферы Солнца вследствие вспышек – колебаний плазмы. Об этом процессе догадывались многие, но доказать его, зафиксировав явление, не могли. “Не имея теории, - говорит Косачев, - люди просто не знали, куда и когда смотреть” (Общая газета, 1998, № 23). Этот пример – свидетельство того, что теоретическое знание уничтожает неопределенность в представлении и тем способствует упорядочению поведения вообще, и в проведении научных исследований, в частности.
Теория, “высвечивая” объективные связи, отношения между предметами и явлениями окружающего мира, делает видимым путь решения проблем. Тем самым наука освобождает от необходимости эмпирических блужданий в темноте незнания, применения “метода” слепого поиска, ведущего к “набиванию шишек”. “Для того, чтобы каждый не стоял перед необходимостью заново приводить в порядок весь материал и полностью его разрабатывать, но находил всё в упорядоченном и выясненном состоянии, и существует теория”. Теория позволяет прогнозировать последствия от намечаемых к фактической реализации мер. Благодаря этому удается предотвращать напрасную трату ресурсов и вызываемые ею потери в случаях, когда принятые решения и запланированные операции оказываются (с позиций прогнозируемого результата) ошибочными. Недаром признано: “нет ничего более практичного, чем хорошая теория”. Приведенная парадигма принадлежит не Л.И.Брежневу, произнесшему ее в отчетом докладе ХХУ съезду КПСС и, разумеется, без ссылки на первоисточник, и не готовившему его ему спичмену. Она была впервые сформулирована еще в начале века выдающимся физиком, создателем кинетической теории газов П.Больцманом, а затем повторялась другими, разделявшими ее справедливость, учеными, и, в частности, известным психологом, автором концепции групповой динамики К.Левиным.
