
uchebniki_ofitserova / разная литература / Козлова_Упрощение знак эпохи
.pdf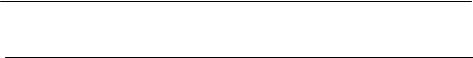
1990 г.
H. Н. КОЗЛОВА
УПРОЩЕНИЕ— ЗНАКЭПОХИ!
КОЗЛОВА Наталия Никитична — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии АН СССР. В нашем журнале публикуется впервые.
Поиск социальных и исторических корней сталинского тоталитаризма занимает ныне и профессионалов, и тех, кто просто стремится их осмыслить и понять. Стало ясно, что, если этот нелегкий труд не будет проделан, от повторений мы не гарантированы. Вряд ли можно сомневаться в ключевом значении изучения экономических, социальных и духовных процессов 20-х годов. Это — «котел», в котором варилось будущее сталинское общество.
Стремясь разобраться, что же произошло с нашим обществом, каждый идет своим путем. Для того, кто занимается теоретическими исследованиями, важнейшим моментом является критический отказ от картины, созданной «научной идеологией». Последняя претендовала на то, чтобы раз и навсегда объяснить социальный мир «вообще», но оказалась неспособной построить адекватную модель советского общества. Взамен она предлагала нормативные образы социализма, которые затем подвергались онтологизации. Эта идеальная мифологическая реальность создала плотную преграду, разделяющую исследователя и действительность. Реальность как бы ускользала от адептов «единственно верной и всесильной»! Без разрушения завесы квазинаучных способов мышления прорыв к реалиям невозможен.
Разрушение отжившей картины мира осуществляется разными способами. Это не только отказ от якобы стройных, самозамкнутых теоретических систем и построение систем открытых, но и метафоризация познания, имеющая целью поиск новых точек опоры в построении теоретической картины реальности. Отсюда нынешняя популярность публицистических жанров. Поиск требует и обращения к анализу самоочевидностей эпохи — общепринятых правил игры, ключевых слов социального словаря и т. п.,— всего, что служит выражением и симптомом состояния и тенденций развития общества.
Именно такой установки как сверхзадачи придерживался автор, окунаясь в атмосферу 20-х годов. В частности, хочется обратить внимание
11
на одну деталь, заметить которую оказалось возможным лишь сегодня, когда и общество, и люди действительно изменились.
Что же это за особенность? В мире пожелтевших страниц книг и журналов обратило на себя внимание слово «упрощение». Причем, оно часто стояло рядом с «классовостью». В процессе работы с текстами росла убежденность, что «упрощение» было не только одним из ключевых слов социального словаря, но также содержательной и стилистической характеристикой эпохи, относимой ко всем областям жизнедеятельности нарождающегося общества.
Складывалось впечатление, что этот процесс охватил социальную жизнь в целом: стремились упростить все — от науки до орфографии. Рационализация производства, образования, быта и частной жизни, о которой тогда много говорили, понималась как приведение жизни к общему знаменателю, как «подгонка человеческого материала» под новые способы организации. Колоссальную человеческую массу предполагали «пропустить через гигантские лаборатории», подвергнуть «тренажу миллионы, обучить все взрослое человечество, устроив из земного шара куль- турно-трудовой "остров доктора Мора"» [1].
А. Гольцман был не одинок в своих мечтах. А. Богданов считал, что существующие в буржуазном обществе способы преподавания и изложения, непривычная для «человека из низов» форма, лишь усугубляют пропасть между учеными и трудящимися: «рабочему классу нужна наука пролетарская. А это значит, наука, воспринятая, понятая и изложенная с его классовой точки зрения, способная руководить выполнением его жизненных задач» [2]. Упрощенное знание здесь — сила в классовой борьбе.
Даже идея упрощения орфографии обсуждалась с точки зрения классовых ценностей. «Обучение орфографии, оставленной русскому пролетарию его классовыми противниками... обходится пролетарскому государству очень дорого, отнимает у трудящихся миллиарды часов на бессмысленную работу по правописанию... Широкие круги советской общественности... потребовали такой реформы ее, которая сделала бы орфографию вполне доступной самым отсталым в культурном отношении слоям малограмотных» [3].
Таких текстов, где упрощение является словом ключевым, можно привести очень много. «Упрощение культуры» рассматривалось большинством левых теоретиков как исключительно позитивный результат революционных преобразований. Вот, например, точка зрения близкого к Лефу журналиста М. Левидова: уничтожив, подобно старой государственной машине, старую культуру, революция будет создавать новую — посредством организованного упрощения. «Это упрощение есть величайшее завоевание, подлинный прогресс, уверенный и настойчивый знак плюса» [4].
Каковы же источники подобной тенденции? Была ли она полностью навязана, «организована», как часто полагают? Думается, нельзя закрывать глаза и на объективные предпосылки ее возникновения. Идеи упрощения, высказанные тогдашними теоретиками и публицистами, основаны на значимой низовой тенденции. Они — продукт реального и крайне болезненного раскола старого российского общества на людей, «не знавших таблицы умножения», и людей, которые в ней «усомнились» (Н. Бердяев). Первые и вторые —это «они» и «мы», а между — полоса социального отчуждения. Это и заставляло низы мечтать о своей культуре, неотчуждаемой от них и ими же создаваемой, понятной, а значит, «простой».
12
При анализе развития тенденции в послевоенном обществе, нельзя, конечно, не учитывать тектонические сдвиги в социальной структуре, превратившие общество в пластический материал для новых форм. В исторически кратчайший период ранее существовавшая социальная ткань разрушилась, а на ее месте возникла новая, частично сотканная из старого материала. Промышленники и купцы, ремесленники и творческая интеллигенция в основном покинули страну. Пролетариат и крестьянство заняли в обществе господствующее положение. Они впервые почувствовали себя хозяевами в стране, которую воспринимали как самую передовую страну мира. Крестьянство выровнялось по своему уровню, «осереднячилось». Именно оно пополняло уменьшившиеся было ряды рабочего класса. Наиболее значимыми группами городского населения стали рабочие и служащие, в их число влилось и низшее чиновничество старой России. Гражданская война изменила состав рабочего класса, часть которого погибла в войнах, часть ушла в управленческий аппарат, а часть деклассировалась, обосновавшись в деревне. В городе деклассированные слои заняли большее, чем ранее, место в социальной структуре: хозяева уехали, слуги остались. Нанесен был урон культурному слою, представленному главным образом «буржуазными специалистами». Существенно изменилась и демографическая структура общества, где значительно увеличилась доля молодежи. Значительная часть населения не вернулась с войны, и его место заняло новое поколение. Старой России оно уже не помнило, зато понятия «комсомол» и «линия партии» были знакомы с детства, а «царь», «генерал», «урядник», «фабрикант», «помещик» казались уже далекими, чуть ли не мифическими персонажами. Результатом этих перемен явилось упрощение структуры общества, которое стало более единообразным, что послужило одной из предпосылок рассматриваемой здесь тенденции.
Процессы изменения социальной структуры города часто характеризуют как «окрестьянивание». Но люди, заселявшие города, были скорее «раскрестьяненными», «разрабоченными», вырванными с корнем из старого образа жизни. На развалинах прежних социальных структур появилось множество «людей на обочине»; они не были уже крестьянами, но и рабочими еще не стали. Однако составляли «массу», строившую всякого рода «котлованы». Процесс реструктурирования общества как бы лишал классы их формы, что в дальнейшем и создало свободное поле для неограниченного роста государственных начал. Свою роль сыграл и темп перемен. Важнейший объективный источник маргинализации — спрессованность перестроек разного рода во времени, когда то, на что могли уйти десятилетия, свершалось за годы [5].
Нет никакого сомнения, что в старой России народ являлся удобной почвой для деспотического режима. Однако политический деспотизм не охватывал все общество снизу доверху. Сочетаясь с волей и широтой, многообразием нравов и стилей жизни, а также своего рода преимуществом, которое давало отсутствие давящего нормативизма (такого, как при сталинском режиме), старое общество было многообразным, богатым и уж никак не простым.
Жизненно важные функции в нем выполняла влиятельная прослойка интеллигенции, при отчуждении масс от политической жизни и культуры выступившая носителем общечеловеческих ценностей и универсальных начал. Эти функции были бы незаменимыми, когда в процессе индустриализации органическая народная культура разрушалась. Прослойка интеллигенции имела возможность самовыражения в прессе, влиявшей как на
13
общественное мнение, так и на власть. Важно и то, что это единственная социальная группа, для которой ценностью была свобода. Происшедшее в дальнейшем физическое уничтожение части интеллигенции и лишение ее в целом общественного влияния имело пагубные итоги.
Столь же глубинные сдвиги происходили в культуре. В процесс послереволюционной модернизации вступили люди, значительная часть которых жила еще общественными связями личного типа, характерными для доиндустриальных обществ. На первый план вышли массы неграмотных, пребывавших в мире устной культуры. Такой результат, вероятно, был неизбежным, естественным, и следствия его нельзя не учитывать при анализе социокультурной истории советского общества. Люди старой культуры, принимавшие участие в просветительских кампаниях 20-х годов, ощущали явную смену культурных парадигм. Л. Я. Гинзбург, которая преподавала тогда на рабфаке, замечала: «Нельзя было бесследным для культуры образом подвергнуть первоначальной обработке всю эту массу новых людей. Культура ослабела наверху потому, что массы оттянули к себе ее соки. Я вовсе не думаю, что нужно и социально полезно упрощаться, я думаю, что снижение культурного качества — не вина правительства и не ошибка интеллигенции, что снижение качества на данном отрезке времени — закономерность» [6]. Размышляя над этим феноменом, она пытается более конкретно охарактеризовать людей, отличающихся по своему мировосприятию от тех, кто принадлежал к старой русской книжной культуре. Сравнивая сознание старого гимназиста с сознанием рабфаковца, который только входит в область русской литературы, она указывает: «Литературное восприятие требует либо сочувствия, либо чувства истории. Это чувство истории хотя бы в самом первобытном виде имелось у дореволюционного гимназиста. У рабфаковца его нет. Пушкин, Лермонтов, Гоголь не только не входят в состав его наличной культуры, но и потенциальной, той, которую он получит в меру требований, предъявленных ему государством» [7].
Л. Я. Гинзбург фиксирует здесь интереснейший феномен — так называемого «свежего человека» на дорогах истории (он же — человек как бы без истории!). В его сознание исторический опыт не входит, но зато этот человек лишен исторической усталости, свойственной старым слоям
иклассам. Существует большая социологическая, историческая и литературная традиция, описывающая «свежего буржуа». Но существовал еще
и«свежий пролетариат», о котором, например, писал Б. Пильняк: «Если русский мужик и русский дворянин проживали и традициях и быте, до них созданных, где они были только подтверждением быта,— русским пролетариям конца девятнадцатого века всегда приходилось ломать этот быт, и в лучшем большинстве своем, ломать во имя лучшего...» [8]. Нельзя не вспомнить и о „свежих интеллигентах". Речь идет о людях, не прошедших школу культуры, только выходящих „из Пятисобачьих переулков" и с экзальтацией и жадностью устремившихся „к печатным страницам", к Ломброзо и Геккелю, к геометрии Киселева, к какой-то неслыханной, небывалой науке... Они уже не народ, но еще не интеллигенция» [9]. В то время, как интеллигенция «элитарная» увлекалась А. Блоком и Вл. Соловьевым, они интересовались вегетарианством, эсперанто и гимнастикой по Мюллеру. Интеллигенция культивирует скептицизм, они же — бодры и полны энтузиазма.
Просыпайся, страна. Слышишьзовк прогрессу?
И рабу зацвесть пора! [Там же],- взывают они. 14

В масштабах многомиллионной России «свежих интеллигентов» было не так много. Значительно более распространенным стал тип «совсем свежего» человека, как бы вышедшего из углов, мимо которых веками проносилась история и которых ветер революции вымел на поверхность исторической жизни. Это мог быть безобидный зощенковский персонаж, который жил как трава, а думал только о чем-нибудь «конкретном», например, о фруктах или ливерной колбасе, и платоновский усомнившийся Макар с его «порожней емкой головой» и умными руками, одержимый энтузиаст перемен и строительства новой жизни. Как можно судить по самым ранним произведениям А. Платонова, он сам на заре юности выглядел таким человеком — свежим и простым. В дальнейшем, описывая своих героев, в определенной степени живописал собственный «портрет художника в юности» '.
Итак, эти новые люди «свежи», неграмотны или полуграмотны. Но ведь неграмотность — это не просто неумение читать и писать. Это — и недостаточное развитие самосознания и критического мышления, преобладание аффективного над рефлексивным. Это — отсутствие индивидуальности. Ю. М. Лотман справедливо говорит, что когда человек пишет письмо или читает книгу, он себя самого понимать начинает. Действительно, сочетание письма с чтением позволяет выйти за пределы некритического восприятия коллективного опыта, дает индивиду возможность сличать и сопоставлять разные индивидуальные опыты, а личные выводы переводить в общественные. Индивидуальность, способная к рефлексии, складывается, конечно, отнюдь не только с помощью средств коммуникации, но всей системой общественных отношений, в которой человек живет, и которая составляет горизонт его сознания и деятельности. Но, тем не менее, степень приобщенности к средствам коммуникации имеет весьма существенное значение в формировании субъективности.
Что происходит, если человек неграмотен, но тем не менее живет в обществе, находящемся в состоянии модернизации? Преобладание неграмотных и малограмотных накладывало отпечаток на формы бытия послереволюционной культуры. Напомним о неслыханном по масштабу отряде устных агитаторов, несших в массы слово партии, новую культуру и новые ценности2. Большая часть их работала добровольно, а главное, контактируя «лицом к лицу».
Переход из мира устного слова (или даже мира письма) к культуре печати — это своего рода переход Рубикона. Результатом его может быть обретение новой, более сложной картины мира, а может быть и упрощение имеющейся. В условиях преобладания в обществе связей традиционного типа, неразвитости индивидуального начала послереволюционное приобщение к грамоте имело, мягко говоря, неоднозначные последствия. Ведь грамотой овладевали большей частью те, кого Зощенко называл «неописуемыми людьми», что до революции жили как «ходячие растения», умея только «копошиться и умирать». При характеристике результатов культурных преобразований, как правило, указывают на ликвидацию неграмотности. Но действительно ли люди попали в «Галактику Гу-
1 Крайнеинтересносэтойточкизренияперечестьегокороткиезаметки1920 г., например, «Обучение управлению», «Культура пролетариата», «Ремонтземли» идр. [10].
2 Можно, кстати, задатьсявопросом: неявляетсялинынешняяармияпрепода- вателей-обществоведов, лекторовобщества«Знание», деятельностькоторыхсейчас явнобезрезультатна, прямойнаследницейпослереволюционныхагитаторов, работавшихкакразвысокоэффективно, ибобылихорошоприспособленыиксоциальной структуре, икгосподствующемутипукоммуникации?
15
тенберга» или она пронеслась мимо них? Откуда всеобщее неумение написать письмо, составить деловую бумагу? Почему большая часть населения пишет с ужасающими грамматическими ошибками? Явно к «средству» коммуникации как таковому они не очень-то приспособились. Печатный текст у нас вечно — то ли фетиш, то ли источник скуки. На фетишистское отношение к печатной продукции обращал внимание, кстати, С. Цвейг, посетивший СССР в 20-е годы: «В студенческих общежитиях подходили татары, монголы важно показывали книги: „Дарвин",— говорил один, „Маркс",— вторил другой с такой гордостью, точно они сами написали эти книги» [11].
Так или иначе в результате приобщения к грамоте уровень культуры масс вроде бы повысился, но естественным результатом этого процесса явилось «упрощение культуры». Сами же люди, будучи полуграмотными, стали прекрасной почвой для индоктринации. Канадский исследователь Ф. Эйдлин отмечает, что «люди, на самом деле находящиеся во власти официального языка, воспринимаются всеми как простодушные и глуповатые» [12]. Но те люди, о ком идет речь, действительно были просты. Реальное многообразие мира сведено к крайностям: белый—черный, хороший—плохой, друг—враг. Общество кажется понятной, легко объясняемой и подвергающейся любым изменениям системой. Здесь нет места осознанию индивидуальности — и собственной, и другого, я отношений между людьми. Иллюзия простоты создает иллюзию всемогущества. Стоит только захотеть и отдать правильный приказ. Люди верили, что путь к счастью короток.
Этот тип человека, как известно, мог предстать и в страшном обличьи. Напомним эпизод из повести «Софья Петровна». Машинистка сделала ошибку: вместо «Красная армия» — «Крысная армия». Для человека культурного ясно, что это — обычная опечатка. Героиня повести так и объясняет. Ей ответили: «Документы, против документов не пойдешь...
Крысная или крысиная — это значения не имеет. Классовая враждебная вылазка со стороны гражданки Фроленко налицо» [13]. Опечатка превращается в основание для политического обвинения.
Откуда возник зловещий облик? Только ли дело в неграмотности? Или «свежий человек» по природе своей носитель зла? Именно «зловещие» проявления бинарного сознания позволили Л. Гозману и А. Эткинду считать его сознанием тоталитарным [14]. Так ли? Сознание этого типа можно обнаружить в любом обществе. Оно имеет древнее, архаическое происхождение. Мучительная проблема современной его судьбы всплывает, как только речь заходит о «массе». В противоположность названным исследователям, В. Чаликова справедливо, вероятно, полагает, что тоталитарного сознания попросту не существует [15]. То, что принимают за него — это следствие положения, когда «простое» сознание начинает действовать «по своим правилам в ситуации, требующей уже представлений о мире как о сложной системе. Дело не в качествах человека и его сознания, но в ситуации модернизации как таковой.
Роковую для истории советского общества роль сыграло то, что процесс упрощения протекал не просто «естественноисторически», как результат спонтанного и противоречивого социокультурного развития. Он стимулировался организованной системой духовного производства, имел своих вдохновителей и теоретиков, а осуществлялся под классовым углом зрения, который не был задан самим сознанием, но был «внесен» в него «научной идеологией», а затем перетолкован в терминах бинарного мышления. Теория классовой борьбы переносилась на коммунальную кухню.
16
Исключительно классовый характер носили критерии отбора людей, посылаемых на учебу. «Спецмобилизации» в школы, на рабфаки, в институты, в ряды администрации имели целью «пролетаризацию» общества. Энтузиасты культурной революции понимали ее в самом что ни на есть иконоборческом смысле — как опрокидывание обуржуазившихся реакционеров и бюрократов, как продолжение Октябрьской революции и гражданской войны, в которой многим из них по возрасту не пришлось участвовать. «Культурный фронт» защищался от буржуазных атак, штурмовались крепости, подобные Большому театру и Академии наук, а народную неграмотность ликвидировали с помощью «культармий» и «летучих отрядов».
В результате произошла деградация университетов, многие выпускники не поднялись выше уровня средней школы. Образованию, в лучшем случае, отводилась роль марксистской школы со специальной квалификацией. Часто не получалось ни того, ни другого. Главное, овладеть — раз и навсегда! — правильным принципом, принципом классовым, и применение его гарантирует успех: «Бедняк безграмотен, он не умеет читать и писать, но он уже знает своих классовых врагов, он — безграмотный — начинает все же выходить из области сплетен и слухов в область политики» [16]. «Само собой получившееся» и сделанное, инспирированное накладывались друг на друга.
Нельзя не задаться вопросом: какой облик обретал марксизм в сознании людей, только приобщающихся к грамоте. Ведь задачи-то ставились грандиозные! По мнению известного в 20-е годы историка партии и популяризатора марксизма В. А. Невского, «ликвидация неграмотности и малограмотности в условиях Советской России имеет своей главной целью не сообщение чисто технических навыков чтения, письма и счета, а политическое воспитание самых широких масс населения, вовлечение в политическую жизнь униженных в старое время трудящихся» [17]. Высказывание это симптоматично. Ликвидация неграмотности рассматривалась не столько как введение в русскую и всемирную культуру, сколько как введение в политику. Но представления марксистской теории не могли быть осознаны «простыми людьми» иначе, как через лозунгиидеологемы, задающие матрицу восприятия социального мира: «Мы — не рабы», «Мы несем миру свободу», «Наука Ленина у мужика и бабы» (тексты тогдашних букварей).
«Свежесть» и жажда знания в равной степени отличали этих людей. Но «классовое мировоззрение» имело для них большую общественную ценность, чем сами по себе знания. Вот, например, что писал проф. В. Н. Завадовский, отвечая в молодежном журнале на анкету «Какой бы вы хотели видеть нашу молодежь?»: «Наша молодежь с полным правом может похвастать исключительной зрелостью своей в понимании и знании общественно-исторической жизни, и здесь она, владея марксистским анализом, заткнет за пояс не только сверстника, но и взрослого представителя буржуазных государств» [18]. Профессор, конечно, польстил молодым людям, которые, надо полагать, принимали эту лесть за чистую монету. В действительности часто получалось, что люди брались рассуждать о классовой борьбе во Франции и Германии, не умея показать на карте, где эти страны находятся. Понятно, что усвоение специального знания опять-таки сводилось к овладению идеологемами типа «Бога нет» и «Мировая революция неизбежна». Положение усугублялось недоверием к старым педагогам, новых же только начинали готовить в специальных вузах.
17

Нельзя не заметить, что такая социальная группа, как молодежь, во все времена выступает носителем упрощающих тенденций. Каждое новое поколение - «свежие люди» в истории. У молодежи в силу возраста нет социального и исторического опыта, исторической памяти (если она не культивируется намеренно). Она легко расстается с прошлым, ибо не имеет его. Она склонна потому к поиску облегченных решений жизненных проблем, ибо ей мало свойственны сомнения, легко принимает идеальную реальность за «настоящую», схему — за жизнь.
Изучая эпоху, не перестаешь удивляться, сколь не в чести был обыкновенный профессионализм в любой области — в науке, на заводе,
вкрестьянском труде. Характерно высказывание Е. Преображенского о том, каким должен быть сельский коммунист: «Если он может быть образцовым коммунистом лишь ценой превращения в худого хозяина, то нужно предпочесть этот последний исход» [19]. Или — следующий отрывок из очерка В. Перцова «Город при фабрике»: «Нынешний директор был обследован в тресте со всех сторон и, наконец, был спрошен, понимает ли он что-нибудь в текстильном деле. Демобилизованный воин
вупор ответил: „нет", и его немедленно назначили директором школыфабрики со словами „Такого нам и надобно"» [20].
Подозрительность ко всему «бывшему» как буржуазному вела к деструкции общечеловеческих ценностей. Возникало противоречие между количественным ростом культурных учреждений и невероятным ростом обскурантизма, атакой на сложное, утонченное. Упростительство проявлялось и в том, что всякое оппонирующее начало исключалось: мир должен быть цельным и непротиворечивым! Сомнение и критика приравнивались к измене. Пророческая антиутопия «Мы» Е. Замятина воспринималась как заведомая ложь и клевета, зато «на ура» принимали «Аэлиту», А. Толстого! Только в таких тепличных условиях могло родиться и расцвести представление о советском обществе как обществе без про-
тиворечий. А как поразительно «прост» текст «Краткого курса истории ВКП(б)»!3 Не всегда просто отделить в этих процессах злонамеренность от наивности, подобной той, с которой старушка подкладывала хворост
вкостер Яна Гуса, от наивного страусиного отношения к миру, определяемого господством мировоззрения людей, для которых мир был прост и понятен. Если не называть вслух то или иное неприятное явление, то оно и исчезнет само собой, забудется. Герои Платонова и Булгакова не узнавали самих себя в их текстах, и отталкивали обоих.
Материализм Маркса на практике «интерпретировался» в терминах сознания полуголодного человека, мечтающего о перераспределении всего: «Кто был ничем, тот станет всем». Представления о социализме обретали квазирелигиозный характер, в то время как идеи православного христианства уничтожались вместе с храмами. Люди, думающие только о «конкретном», живущие в мире простого труда и пищи, высшие формы культуры считали барством. Материализм преломлялся в сознании как идея уравнительной справедливости, всеобщей дележки и пайкового распределения вплоть до идей. Различие между сознанием рабочих и крестьян, конечно же, существовало, но основой его единства было единство черного труда, над которым царствует идеологическая власть новых символов.
3 Нельзя не признать, что эта простота была для многих влекущей. Сейчас, вспоминая «старые годы», замечают, что и академик, и медсестра признавались: вот Ленина читать трудно, приходится «продираться», а Сталин легко, ясно пишет.
18
Каковы же результаты процесса тотального упрощения, обусловленного поистине мозаикой факторов? Тенденции в культуре и обществе, описанные здесь, послужили действительной предпосылкой упрощения самой социальной связи, ее предельной централизации, характерной для сталинского тоталитарного режима и охватывающей все вплоть до частной жизни. Отказ от значительной части русской и мировой культуры как «буржуазной» послужил базой формирования того монологического стиля в социуме, последствия которого общество испытывает по сей день и которые только сейчас начинает осознавать. Давно ли слова «общечеловеческая мораль» стали употребляться без кавычек?
Старая социальность при этом сохранялась, бессознательно воспроизводилась. Модернизация имела место, но при условии сохранения отношений личного типа. Эта связь, однако, лишалась прежней, характерной для нее культурно-стилистической окраски, что способствовало ее консервации, превращению в своего рода формально-бюрократическую рациональность (ничем, правда, не напоминающую рациональность западного типа!). Новые структуры возникали при опоре на старые типы социальности и старые типы сознания. Пытаясь проанализировать механизмы и результаты этого превращения социальной связи, самого способа объединения людей в общество, нельзя не признать, что оно также носило характер упрощения.
Персонифицированной, личностно окрашенной нормы здесь уже не существует. Новая формально-бюрократическая рациональность является органическим элементом внеэкономической системы управления обществом, которая не только не нуждается в развитой индивидуальности, но, напротив, стремится к устранению личностного начала. Ей не нужен живой человек, богатое в культурном отношении плюралистическое общество.
Результатом стала немыслимая степень атомизации общества. Инди- вид-атом остался наедине с государством, ибо посредствующие структуры оказались уничтоженными. Причем, человек, живущий в условиях господства административно-бюрократической системы, не обретя индивидуальности, лишался своего рода «уютности» существования, обладаемой ранее в общине. Не отсюда ли возможность попятных движений, вечное топтание на месте, стремление «утеплить» общественную связь, придать личностный характер надличностной норме?
Наложение властных отношений на все типы общественной связи было тем фоном, на котором возникла тоталитарная система. Общественные связи максимально «коммунализируются», огосударствливаются и упрощаются, сводятся к связи «центр—периферия».
Этот результат свидетельствует, сколь трагично отозвалась незрелость стадиальных предпосылок исторического развития — экономических, социальных, культурных. Великая Октябрьская социалистическая революция отвечала интересам основной массы населения страны. Однако цели и потенции этой революции реализовались лишь частично.
Оппонент может возразить. Полноте, да ведь не была жизнь такой! И «свежий» человек А. Платонов превратился в гениального писателя, и, вообще, люди были разные, не только «упрощенные». И наука развивалась, и философия не была окончательно убита. Существовали и высокая культура, и слои, ее потребляющие. Искусствовед М. Туровская вспоминает о культурной жизни 30-х годов, очерчивая хорошо известный ей срез культуры: «Не пропустить премьеру балета, простоять ночь за билетами „на Качалова" или Остужева... или Коонен... Было и еще много замечательных мест, куда ходили постоянно. Музей нового западного ис-
19
кусства.., Третьяковка, где „еще", а не „уже", висели и Борисов-Мусатов, и Сомов, и Шагал, и Малевич. Летом Троице-Сергиевская лавра (некоторое время там был антирелигиозный музей). Большой зал консерватории с концертами Софроницкого, Марии Юдиной, Гилельса, с гастролями Курта Зандерлинга или Мравинского, с первыми исполнениями симфоний Шостаковича» [21].
Действительно, общество и культура сопротивлялись упрощению. Но все сложное, утонченное отчасти утрачивало почву, отчасти уходило в «катакомбы», в «андеграунд», становилось маргинальной тенденцией. Люди же, которых называют маргиналами, как раз в советском обществе таковыми не являлись, заняв в нем центральное положение [22]. Но так или иначе неупрощенное начало жило, иначе не были бы возможны ни оттепель 60-х, ни нынешняя перестройка.
И последний по порядку, но отнюдь не по значимости вопрос. Является ли рассмотренный процесс упрощения уникальным, свойственным лишь советскому обществу в определенный период? Действительно, с одной стороны, он вроде бы неповторим. Именно поэтому автор посредством большого числа ссылок стремился воспроизвести неповторимый голос эпохи. Но не оставляет мысль, что упрощение есть некая универсальная характеристика, закономерно проявляющаяся в эпохи радикальных социальных перемен, в переходные периоды. Упрощение может стать не только условием той тупиковой ситуации, когда, как у пас, позитивные черты «корпоративности» (т. е. связи личного типа) использованы не были, и одновременно не были открыты пути свободному развитию то- варно-денежных отношений. Результатом упрощения, как показано выше, стало общество, не похожее на старое. Но вместе с тем — это общество с немыслимой степенью атомизации и отчуждения человека от всего: от собственности, от культуры, от самого себя. На фоне упрощения, как свидетельствует история, рождались и новые общества. В свое время тенденцию упрощения как предпосылку рождения нового порядка отмечал Л. де Токвиль. Великая Французская революция, писал он, водворила на месте феодальных учреждений более однообразный и простой политический и общественный порядок, основанный на равенстве сословий [23]. Из этой тенденции родилось общество, совершенно изменившее облик Европы и мира.
Тенденция упрощения — признак альтернативности ситуации, выходы из которой могут быть разными. Анализ современной ситуации в нашей стране под этим углом зрения требует другого места и времени. Ясно, однако, что нынешнее время радикальных социальных перемен также сопровождается упрощающими тенденциями, видными и невооруженным глазом. Это — и заметное распространение черно-белого мышления, и засилье упрощающих идеологий. Распад административно-бюрократи- ческой системы сопровождается и новой атомизацией и маргинализацией. Исторический опыт подсказывает, что результатом выхода из сложившейся ситуации может стать не только окончательное расставание с тоталитарными структурами, но и повторное попадание в тоталитарное общество. Такую опасность нельзя не учитывать. И хотя история никого ничему не учит...
ЛИТЕРАТУРА
1. ГолъцманА. Реорганизациячеловека. М.: Центральныйинституттруда, 1924.
С. 20.
2. Богданов А. Социализм науки (научные задачи пролетариата). М: Пролетарская культура, 1918. С. 16.
20
