
Тестелец, Введение в общий синтаксис
.pdfГлава X. Объяснение в лингвистике, или что такое грамматическая теория
го языка, и факты, являющиеся свойствами всех языков, или человеческого Языка вообще. Может ли носитель язы ка, опираясь на свою интуицию, разграничивать эти две группы фактов, и если да, то до какой степени?
Вообще говоря, такой способностью носитель языка не обладает. Интуиция, т. е. способность оценивать правиль ность или неправильность речевых отрезков без размышле ния и анализа, не включает в себя способность понимать, какие предложения устроены неправильно относительно родного языка, а какие относительно Языка вообще. Одна ко похоже, что до определенной степени интуиция все-таки может решать последнюю задачу.
Рассмотрим предложение (1) *Коля и Саша пришел, в котором нарушены правила согласования, или предложение
(2) ^Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа, в котором неправильно построена деепричастная конструкция, или предложение (3) *Девочка хочет мать купить ей куклу, в ко тором инфинитивный оборот, в нарушение правил русско го синтаксиса, обладает формально выраженным подлежа щим в им. п. Ясно, что неправильность этих предложений вызвана тем, что их структура противоречит правилам грам матики русского языка. Мы не будем особенно удив лены, если узнаем, что в других языках аналогичные предложения грамматичны. И в самом деле, существуют языки, которые разрешают согласование сочиненной имен ной группы по единственному числу (в них некоторые предложения, похожие на (1), будут правильными, напри мер, словенский [Corbett 1988: 24], да и в русском языке об наруживаются такие случаи: был-а в ней и скромность, и изя щество, и достоинство [Граудина и др. 1976: 31]). В других языках (например, восточнокавказских) не требуется кореферентности подлежащих в деепричастном обороте и в главной клаузе (в этих языках грамматичны предложения типа (2)), или допускается наличие собственного выражен ного подлежащего в инфинитивном обороте при матричных глаголах (в этих языках грамматичны предложения типа (3)) и т. п.
Рассмотрим теперь пример (4) *Я отдал книгу Ивану га зету, имея в виду значение 'Я отдал книгу и газету Ивану'. Носитель русского языка оценит (4) как неправильно по строенное предложение. В предложении не может быть од новременно двух прямых дополнений в вин. п., если только
475

Часть 2. Синтаксические теории
они не образуют сочиненной ИГ; но сочинения в (4) быть не может, так как дополнения не соположены. Однако не правильность (4) - как кажется, не совсем того же рода, что неправильность предложений (1— 3).
Можно предположить, что неграмматичность предло жения (4) — не факт русского языка, а скорее всего, факт Языка вообще. При одном предикате не может быть двух или более актантов, выполняющих одну и ту же роль, и не кий внутренний голос может говорить лингвисту (или даже неискушенному носителю), что так обстоит дело во всех языках, — хотя никто не проверял этого утверждения на ма териале всех языков, да это и невозможно было бы сделать.
Обратимся теперь к некоторым фактам эллиптическо го сокращения. Формы применения этой операции могут быть весьма различны. Например, в предложении (5) Маша читает книгу, и Саша читает книгу может быть сокращена цепочка читает книгу в первом предложении (с изменением числового согласования в глаголе): (6) а. Маша и Саша чи- та-ют книгу, ИЛИ ВО втором предложении б. Маша читает книгу, и Саша. Мы можем, далее, частично сократить совпа дающий материал во втором предложении: в. Маша читает книгу, и Саша читает, или г. Маша читает книгу, и Саша книгу. Хуже будет оцениваться носителями языка предложе ния с удалением части совпадающего материала в первом предложении: д. ? Маша читает, и Саша читает книгу и е. ?? Маша книгу, и Саша читает книгу. Однако мы, по-види мому, готовы признать, что в каких-то языках сокращения типа (6д—е), в отличие от русского языка, безоговорочно до пустимы. Суммируем эти примеры в виде следующей пара дигмы:
(6) ю а. Маша читрёт^Снигу, и Саша читает книгу.
476
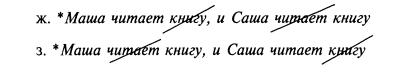
Глава X. Объяснение в лингвистике, или что такое грамматическая теория
Теперь попробуем осуществить перекрестное опущение,
т. е. часть совпадающего материала удалить в первом, а часть — во втором предложении: ж. *Маша читает, и Саша книгу, з. *Маша книгу, и Саша читает:
Предложения (бжз) не просто «хуже» или менее прие млемы, чем (6а—е). Интуиция подсказывает, что неграмматичность этих двух предложений, вероятно, не обычный факт русской грамматики. Можно предполагать, что невоз можность такого перекрестного опущения есть свойство (или следствие каких-то более общих свойств) Языка вооб ще, факт у н и в е р с а л ь н о й грамматики, и мы были бы, наверное, крайне удивлены, если бы нашелся какой-то язык, в котором предложения типа (бжз) оказались допусти мы.
Вспомним теперь о различиях между способностью во просительных групп к выдвижению из сентенциальных ак тантов и из сентенциальных сирконстантов. Воспроизведем следующую простую парадигму (гл. III, (51—52)):
(7) а. Ты хочешь, чтобы тебе заплатили пятьсот тысяч. б. Сколько ты хочешь, чтобы тебе заплатили?
в. Ты приходишь, чтобы тебе заплатили пятьсот тыся г. * Сколько ты приходишь, чтобы тебе заплатили?
Тот факт, что предложение (7г) неграмматично, следу ет из известного «островного» ограничения — «непроницае мости» сентенциальных сирконстантов для выдвижения. Интуиция может подсказать нам гипотезу, что предложения типа (7г) запрещены в грамматике любого языка, какими бы «экзотическими» формальными средствами ни был выражен в этом языке сентенциальный сирконстант.
Еще один пример - вопросительная инверсия в роман ских и германских языках: англ. (8) а. Не has finished his work 'Он закончил свою работу'; б. Has he finished his work? 'За кончил ли он свою работу?'. В английском языке действует следующее правило:
(9) для выражения вопроса вспомогательный глагол главного предложения перемещается левее подлежащего.
477
Часть 2. Синтаксические теории
В немецком и французском языках сходное правило применяется и к другим глаголам в финитной форме (не только к вспомогательным). Зададим теперь вопрос, не могли ли правило (9) иметь не немного отличный, как в немецком или французском, а п р и н ц и п и а л ь н о другой вид, например:
(10) для выражения вопроса третье с начала слово пе ремещается в начало предложения.
Интуиция подсказывает, что ни в одном языке прави ло образования вопросительной конструкции не может иметь вид, сходный с (10). По какой-то причине выражение «вспомогательный глагол» или «финитный глагол» кажется нам осмысленным, а выражение «третье с начала слово» - бессмыслицей. Дело в том, что выражение «слово, третье с начала» имеет смысл относительно цепочки слов. Между тем интуитивно ясно, что последовательность слов в предложе нии любого естественного языка не есть только цепочка. Понятие «третье слово с начала» значительно проще поня тия «вспомогательный глагол» или «финитный глагол». Во прос о том, что такое финитный глагол, весьма сложен, и, казалось бы, для языка «невыгодно» использовать в прави лах такие сложные для усвоения понятия. Однако язык ис пользует именно их. Следовательно, существует какой-то универсальный принцип, в силу которого грамматическое правило ориентируется на гораздо более сложную иерархи ческую структуру, чем простая цепочка. Сложная иерархиче ская структура дает, вероятно, некий выигрыш перед про стейшей цепочечной иерархией - выигрыш настолько важ ный, что для него стоит пренебречь сложностью используе мых понятий. Именно поэтому нас не удивляют сложные правила вида (9), зато простые правила типа (10) по интуи тивным соображениям кажутся абсолютно невероятными — каким-то образом мы точно знаем, что грамматики естест венных языков не считают слов.
Интуитивные суждения об универсальности или не универсальности того или иного факта могут быть эвристи чески полезными при разработке лингвистической теории. Однако невозможно принять их в качестве полноценных фа ктов: наши интуитивные представления о том, что может быть и чего не может быть в языке, слишком зависят от свойств знакомых нам языков. Например, интуиция может говорить, что в любом языке местоимение в роли дополне-
478
Глава X. Объяснение в лингвистике, или что такое грамматическая теория
ния должно либо обязательно быть (11), либо обязательно не быть (12) кореферентно подлежащему; в первом случае это рефлексивное местоимение (11) Иван видит себя, а во вто ром — личное (12) Иван видит его. Рефлексивное местоиме ние себя в (11) не может обозначать никого другого, кроме референта, обозначенного подлежащим (Иван), а личное ме стоимение его (ее, их) в (12), наоборот, может, в принципе, обозначать что угодно, кроме референта подлежащего.
Знакомство с другими языками на первый взгляд под тверждает это обобщение. Приблизительно так же ведет се бя подавляющее большинство местоимений не только в сла вянских и индоевропейских, но и в алтайских и уральских языках, в большинстве кавказских и во многих других язы ковых семьях: различаются личные местоимения 3-го л. и отличные от них рефлексивные местоимения, которые в конструкциях типа (11-12) ведут себя так же, как и в рус ском.
Однако в некоторых языках, например в турецком [Нилсон 1987 (1978); Iatridou 1986], цахурском (восточнокавказская семья, Дагестан [Тестелец, Толдова 1998]), бамана (семья манде, западная Африка [Выдрин 1999]), малайском (австронезийская семья [Cole, Hermon 1998]), обнаружены такие местоимения, которые в позиции дополнения могут быть, а могут и не быть кореферентны подлежащему; ср. в цахурском языке предложение (13) gade $uqa ЩаЫ, которое может означать 'мальчик на него посмотрел' или 'мальчик на себя посмотрел', где iuqa 'на него; на себя' объединяет свойства личного местоимения и рефлексива. Интуиция, та ким образом, отражает ограниченный опыт, который при расширении круга исследуемых языков может оказаться не достаточным.
3. Эмпирические универсалии
Проверить универсальную гипотезу (например, «во всех языках есть явление X») на материале всех человеческих языков - принципиально неосуществимая задача: подавля ющее большинство языков человечества или их историче ских форм бесследно исчезло - от них не осталось ни жи вых носителей, ни письменных памятников. Проверить уни версальную гипотезу на материале всех ныне существующих
479
Часть 2. Синтаксические теории
языков Земли теоретически возможно, но практически не выполнимо. Из всего множества в 5000—7000 языков, на ко торых говорит население земного шара, современный линг вист может получить в свое распоряжение лишь данные о некоторой их выборке - в 100, 200, даже 800 и более язы ков, в зависимости от характера запрашиваемой информа ции и доступности источников.
Именно на таких данных устанавливаются эмпириче ские, или индуктивные, универсалии — утверждения о свойст вах Языка, проверенные на материале некоторой представи тельной случайной выборки, состоящей из отдельных язы ков. Выборка считается представительной, если в ней более или менее равномерно представлены различные языковые семьи и географические ареалы. Перекос в выборке, когда в нее попадает слишком много представителей одной и той же семьи или одного и того же ареала, затрудняет проверку универсалий, так как за универсальное явление в ней мож но принять явление ареального или генетического сходства. Эмпирические универсалии - несравненно более надежный источник материала для грамматической теории, чем данные интуиции.
Эмпирические универсалии устанавливаются на срав нительно небольших случайных выборках языков, и поэто му они все являются неполными, статистическими утвер ждениями, и математическая статистика позволяет вычис лить вероятность ошибки для всякой эмпирической универ салии, исходя из данных выборки.
«Пусть у нас имеется считающаяся вполне репрезентативной вы борка из 100 языков. Во всех из них обнаружен некоторый лингвистиче ский признак X. Формулируем универсалию вида: "Во всех языках есть X". Какова вероятность того, что это утверждение истинно?
Оно будет истинным только в том случае, если не существу ет ни одного языка без признака X. Оценим объем всего множества, или, как выражаются в статистике, генеральной совокупности языков в 5000 (будь эта цифра втрое больше или меньше — на выводы это существенно не повлияет). Допустим, что хотя бы один язык-исключение (без признака X) все-таки существует. Какова вероятность, что он попа дет в нашу выборку из 100 языков? Эта вероятность равна 100 : 5000=0,02! Это и есть вероятность того, что существуй хоть один язык-исключение, мы бы его обнаружили, то есть надежность нашей универсалии (в такой формулировке) равна всего 2%! Легко видеть, что получить мало-мальски приемлемую надежность в 90% для подобной универсалии можно только включением в выборку 90% всех языков — задача явно утопическая.
480
Глава X. Объяснение в лингвистике, или что такое грамматическая теория
Таким образом, утверждать на основании выборки разумного объема о том, что некоторый лингвистический признак существует во всех языках, невозможно. Что же означает тот факт, что в выборке из 100 языков нам не попалось ни одного без признака X? Не утомляя читателя громоздкими расчетами, приведу только конечный результат: это означает, что с вероят ностью 0,95 в генеральной совокупности имеется не более 3% языков-ис ключений, или с вероятностью 0,99, что таких исключений не более 4,5%.
Отсюда видно, что единственным правильным обобщением на основа нии нашей выборки было бы такое: "в подавляющем большинстве языков есть X". Правда, здесь возникает вопрос, что же считать "подавляющим боль шинством"? Это можно определить только соглашением. Представляется, что 90% всех языков - это достаточный уровень для понятия "подавляющее большинство". Даже если бы в выборке попалось до четырех языков без при знака X, вывод о том, что X существует в подавляющем большинстве языков, остался бы правильным с достаточно малой вероятностью ошибки (вероетностью ошибки в статистике называют вероятность того, что эмпирическое обоб щение ложно, надежностью - вероятность того, что оно истинно; сумма этих двух величин, понятно, равна единице). С другой стороны для достоверного утверждения о том, что число исключений в генеральной совокупности не превышает 10%, достаточно, чтобы таких исключений не встретилось в 30 произвольно взятых языках (надежность 0,95)» [Козинский 1979: 5-9].
Наибольший интерес представляют, однако, не уни версалии существования (называемые экзистенциальными) вида «во всех языках есть X», например, (14) «во всех язы ках есть фонемы», или (15) «во всех языках есть сочинитель ные конструкции» и подобные им, а универсалии более сложной логической природы — эквиваленции, например:
(16) предлоги существуют в тех и только в тех языках, в которых генитивное определение (или его аналог) следует за определяемым существительным («универсалия 2» Дж. Гринберга [1970 (1966): 120])
или импликации, например:
(17)если местоименное дополнение следует за глаго лом, то за глаголом следует также и именное дополнение («универсалия 25» Дж. Гринберга [там же: 136];
(18)если инкорпорированное (=морфологически включенное в состав глагола-сказуемого) прямое дополне ние предшествует глагольному корню, то в данном языке са мостоятельное подлежащее предшествует глаголу-сказуемо му [Козинский 1979: 189];
(19)если относительная клауза предшествует опреде ляемому существительному, то прямое дополнение предше ствует глаголу [Dryer 1988].
481

Часть 2. Синтаксические теории
Эмпирические универсалии сами по себе не могут за менить лингвистическую теорию. Они лишь представляют для нее ценный «питательный материал». В качестве приме ра приведем эмпирически установленную универсальную классификацию языков по типу линейного порядка состав ляющих на языки левого ветвления и языки правого ветвле ния. В классификации утверждается, что в любом языке вет вящиеся зависимые всегда располагаются либо слева, либо справа от вершины, н е з а в и с и м о от той фразовой кате гории, в которую они входят. Под ветвящимися зависимыми имеются в виду такие, которые легко могут быть распростра нены; к их числу относятся, например, зависимые, выра женные ИГ, ПГ или клаузами, например, дополнения или посессивные определения. Неветвящимися зависимыми на зываются, наоборот, такие, которые не распространяются или распространяются редко; к ним относятся группы при лагательного (в положительной степени), числительные, ар тикли, указательные местоимения и нек. др. [Dryer 1988, 1992].
Для наглядности приведем по два примера лево- и правоветвящихся языков.
Русский и английский языки — правое ветвление (вет вящееся зависимое следует за вершиной; символом ГГ отме чена относительная клауза, ССл — союзное слово или: его аналог):
Аварский язык (восточнокавказская семья) и японский язык (алтайская семья) — левое ветвление (ветвящееся зави-
482

Глава X. Объяснение в лингвистике, или что такое грамматическая
симое предшествует вершине; Поел — послелог, служебное слово, по функции одинаковое с предлогом, но располагаю щееся не до, а после управляемой им ИГ):
Как объяснить это поразительное сходство между язы ками, принадлежащими к одному типу, и не менее порази тельную симметрию, которая наблюдается между обоими типами? Ответ на подобные вопросы призвана дать грамма тическая теория.
4. Объяснительная база
Большинство существующих ныне подходов к грамма тике (и к языку в целом) можно разделить на два больших теоретических лагеря - функционализм и формализм. Взгля ды функционалистов и формалистов различаются главным образом тем, в чем они усматривают объяснительную базу лингвистической теории. Объяснительной базой называется группа факторов, которая, как предполагают сторонники той или иной теории, определяет наиболее важные черты ес тественного языка.
Исходное предположение функционализма заключает ся в том, что с т р о е н и е я з ы к а о п р е д е л я е т с я его и с п о л ь з о в а н и е м . Язык и грамматика языка таковы, ка-
483
Часть 2. Синтаксические теории
ковы они есть, потому что они отвечают определенным и довольно жестким требованиям, накладываемым на них ус ловиями использования языка. «Если... язык в речевой дея тельности — это корабль, ходовые качества которого можно определить только в море, на плаву, логично согласиться с тем, что эти качества в большой степени заложены в проект ном бюро, на верфи, обусловлены его конструкцией» [Золотова 1986: 503].
Язык - средство мышления; следовательно, языковые структуры должны быть «приспособлены» к решению мыс лительных задач - восприятия, переработки, хранения и по иска информации. Язык — средство коммуникации; значит, устройство языка должно максимально облегчать общение коммуникантов и быть оптимальным с точки зрения пара метров этого процесса (включая не только механизм переда чи информации, но и социальные, культурные, психологи ческие и другие сопутствующие факторы). Строение языка также определяется свойствами тех отделов мозга, в которых локализуется языковая способность человека. Наконец, язы ковая деятельность осуществляется посредством артикуляторных и перцептивных механизмов (зрения, слуха, произ носительных органов). Возможности этих механизмов огра ниченны, и структура языка должна свести к минимуму тру дности и помехи в их работе.
Исходное предположение формализма прямо противо положное. Формалисты полагают, что наиболее важные и фундаментальные свойства языка не зависят от способов и условий его использования. «Человеческий язык есть систе ма, предназначенная для свободного [т. е. не ограниченного никакими внешними обстоятельствами. - Я.Т.] выражения мысли, по своему существу не зависящая ни от контроля со стороны внешних стимулов, ни от удовлетворения человече ских нужд, ни от инструментальных целей» [Chomsky 19806: 239]. Язык - особенность человеческого мышления, в своей основе врожденная. Врожденными являются, разумеется, не конкретные морфемы, слова, конструкции или правила того или иного языка, но некие абстрактные схемы и принципы, определяющие структуру этих грамматических единиц. Уни версальный врожденный компонент знания языка не есть непознаваемая «вещь в себе» — он может быть выявлен в ре зультате исследовательской работы лингвиста и представлен в виде абстрактной модели на метаязыке формальной грам-
484
