
- •1. Разработан модифицированный вариант методики "Стержень и рамка", позволяющий учитывать роль функциональной асимметрии полушарий в оценке стиля пз/пнз.
- •Часть I
- •2) Нарушения функционирования семьи (хронические конфликты между родителями, дезадаптивные стили родительского воспитания, особенности коммуникации с матерью, асоциальные семьи);
- •3) Наличие психопатологической симптоматики у
- •I. Исследование целенаправленной активности у тугоухих и слышащих подростков
- •8 Ос-испытуемые - ориентированные на состояние испытуемые.
- •II. Исследование эмоциональной активности у тугоухих и слышащих подростков
- •9 У взрослых слышащих людей 2лт эмоций в этой методике - 58 ± 13%.
- •1. Для тугоухих подростков характерна боязнь социальных последствий неуспеха, избегание его, снижение непроизвольного контроля над ним в целенаправленной активности.
- •1) Изучить характерологические особенности носителей интернет-культуры, определяющие их отношение к агрессии;
- •2) Проанализировать особенности реагирования на ситуацию с негарантированным успехом и фрустрацию;
- •3) Оценить склонность к физической агрессии в реальном поведении;
- •4) Исследовать отношения носителей интернет-культуры к легитимным формам насилия в определенных сферах общественной жизни.
- •3 Термин введен нами в [11]; ср. "netizen" - неологизм, образованный в результате соединения слов citizen и net, который предлагается понимать как "гражданин сети Интернет" [6].
- •I. I. Gracheva, post-graduate student, suhs, Psychological Institute of ras, Moscow
- •1. Гуревич к. М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы. М.,1970.
- •XI симпозиум "психологические проблемы смысла жизни и акме"
- •V всероссийская научно-практическая конференция "дружининские чтения"
Психологический журнал, No.006 Vol.27, 2006
СОДЕРЖАНИЕ
|
ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО | ||
|
5 |
Г. У. Солдатова |
Психологические механизмы ксенофобии |
|
КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ | ||
|
18 |
А. В. Карпов |
Закономерности структурной организации рефлексивных процессов |
|
29 |
Е. Г. Удачина, С. В. Квасовец |
Полезависимость/поленезависимость и межполушарная асимметрия |
|
37 |
Е. А. Никитина |
Опознавание пола в зависимости от способа предъявления изображения лица |
|
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | ||
|
45 |
Е. С. Калмыкова, М. А. Гагарина, М. А. Падун |
Роль типа привязанности в генезе аддиктивного поведения: постановка проблемы. Часть I |
|
54 |
Я.С. Курек |
Особенности целенаправленной и эмоциональной активности подростков с нарушениями слуха |
|
ПСИХОЛОГИЯ И ИНТЕРНЕТ | ||
|
65 |
С. Н. Ениколопов, Ю. М. Кузнецова, Н. П. Цибульский, Н. В. Чудова |
Специфика агрессии в интернет-среде |
|
РАБОТЫ МОЛОДЫХ ПСИХОЛОГОВ | ||
|
73 |
И. И. Грачева |
Адаптация методики "Многомерная шкала перфекционизма" П. Хьюитта и Г. Флетта |
|
81 |
К. Р. Сидоров |
"Триада риска" и ее связь с состоянием психосоматического здоровья в юности |
|
К 100-ЛЕТИЮ К. М. ГУРЕВИЧА | ||
|
90 |
Т. Д. Абдурасулова, М. К. Акимова, Е. И. Горбачёва, В. Г. Зархин, В. Т. Козлова, Н. А. Ференс, С. В. Ярошевская |
К. М. Гуревич - психолог, эрудит, выдающийся ученый |
|
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ | ||
|
100 |
Е. А. Спиркина |
З. Фрейд - основатель психоанализа (к 150-летию со дня рождения) |
|
104 |
А. С. Чернышев |
Памяти Л. И. Уманского (к 85-летию со дня рождения) |
стр. 1
![]()
|
105 |
М. А. Красников, Н. М. Лебедева, Т. А. Нестик, В. А. Соснин,Л. М. Соснина |
П. Н. Шихирев: ученый и наставник (к 70-летию со дня рождения) |
|
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ | ||
|
111 |
Г. А. Вайзер |
XI симпозиум "Психологические проблемы смысла жизни и акме" |
|
114 |
А. А. Алексапольский, А. А. Никифорова |
V Всероссийская научно-практическая конференция "Дружининские чтения" |
|
НАШИ ЮБИЛЯРЫ | ||
|
117 |
|
Алексею Сергеевичу Чернышеву - 70 лет |
|
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ | ||
|
119 |
Е. Т. Соколова |
Рецензия на книгу Н. Рауш де Траубенберг "Тест Роршаха. Практическое руководство". Пер. с франц. М.: Когито-центр, 2005. 255 с. |
|
124 |
Хроника | |
|
125 |
|
Указатель статей, опубликованных в "Психологическом журнале" в 2006 г., том 27 |
стр. 2
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ КСЕНОФОБИИ
Автор: Г. У. СОЛДАТОВА
Г. У. СОЛДАТОВА,доктор психологических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва
Дается психологический анализ феномена ксенофобии. Рассматриваются механизмы формирования образа врага и ксенофобических установок личности и группы. Анализируются психологические функции ксенофобии, системы чужеродности, особенности формирования ксенофобического мышления.
Ключевые слова:ксенофобия, психологическая альтернативаМы-Они, Свои-Чужие,социальная идентичность, системы чужеродности, стигма, конфликт, продуктивная конкуренция, образ врага, ксенофобическое мышление.
Одновременно с процессами глобализации, унифицирующими многие стороны жизни, все большую ценность для человечества приобретают культурные и индивидуальные особенности. Мы стремимся сохранить уникальность и преисполнены решимости защищать тот знакомый, комфортный и безопасный мир, который называем своим. В наши дни человек так же, как он это делал всегда, продолжает упорно проводить видимые и невидимые границы, отделяя себя от чужих миров и людей и таким образом справляясь с порождаемыми ими страхами.
В концентрированной форме эти страхи выражает слово "чужой", испокон веков пугающее человечество. Смысл, вкладываемый в это слово, не всегда однозначен. Если вместе с настороженностью Чужойвызывает также интерес и любопытство, порождая амбивалентные чувства, то в этом случаеЧужой -это скорееДругой.Он нас одновременно и притягивает, и отталкивает. Сама по себе такая эмоциональная двойственность не несет негативного значения, и уЧужого-Другоговсегда есть шансы статьСвоим.
Однако гораздо чаще в отношении к Чужомуначинает доминировать страх. Ведь исторически так сложилось, что люди всегда опасались непонятного, непознанного и незнакомого. Э. Фромм в своей известной книге "Анатомия человеческой деструктивности" писал, что все чужое, представляя некоторый интерес, в то же время вызывает страх, подозрительность и отрицание, ибо требует неординарных решений [21]. В этом случаеЧужойприобретает негативную окраску, так как, будучи помещенным в нашу собственную систему координат, не поддается испытанным способам восприятия, интерпретации и поведения [22].Чужойнаполняется особой конкретностью, отличаясь привычками, ценностями, взглядами, и таким образом становится неДругим,аЧуждым,а это значит - далеким, не имеющим ничего общего с кем-нибудь или чем-нибудь, инородным [19]. ПоэтомуЧужих-Чуждыхобычно сторонятся, отвергают, их считают виновниками проблем и бедствий, нередко принимают за врагов и ненавидят. И если такой стороной оборачивается рациональное чувство страха человека перед неведомым, то это не что иное, как ксенофобия - страх, который вызывают чужаки, неприязнь и враждебность по отношению кЧуждым,непохожим на нас отдельным людям и целым группам.
В современной научной литературе проблемам ксенофобии уделяется непростительно мало внимания. В нашей стране авторами подавляющего числа публицистических статей по этой теме являются журналисты. Вместе с тем именно эта проблема (хотя она и не обозначается как проблема ксенофобии) является ключевой при изучении предубеждений, предрассудков, негативных установок и стереотипов по отношению к различным этническим, религиозным и социальным группам, а также при обсуждении вопросов войны и мира, формировании образа врага и т.д. Опираясь на такие исследования, мы в данной статье ставим перед собой следующую задачу:провести психологический анализ феномена ксенофобии, ее функций, социально-психологических закономерностей формирования ксенофобических установок и ксенофобического мышления.
ФЕНОМЕН КСЕНОФОБИИ
В словаре Вэбстера ксенофобия определяется как страх или ненависть к незнакомцам, иностранцам или к тому, что странно и чуждо. Литературное значение слова предполагает, что ксе-
стр. 5
![]()
нофобы - это люди, которые не любят всех чужестранцев, их "инаковость". Такие определения показывают, что главным объектом ксенофобии всегда были незнакомцы и чужестранцы (xenos-посторонние, иностранцы). Причины здесь просты: исторически складывалось так, что появление чужаков, как правило, не предвещало ничего хорошего. В худшем случае они претендовали на поля и пастбища, на имущество, на жен. В лучшем случае - внедрялись в общество, принося с собой перемены. Хорошие или плохие, глобальные или незначительные - это другой вопрос, но в любом случае чужаки представляли реальную угрозу сложившемуся образу жизни.
В современном обществе ксенофобия распространяется на очень широкий круг объектов, в соответствии с которыми выделяют следующие ее виды:
- расовые и этнические фобии (этнофобии), определяющие предубеждение и дискриминацию по отношению к лицам другой расы или этнической группы (например, белый и черный расизм, антисемитизм, синофобия и др.);
- религиозные фобии, определяющие страх и предубеждение по отношению к приверженцам определенных религиозных ориентации (например, исламофобия, фобии по отношению к представителям различных религиозных культов);
- фобии по отношению к группам, отличающимся от большинства по некоторым признакам - культурным, физическим, возрастным и т.д.
В последнюю группу входит широкий круг социальных фобий, многие из которых давно находятся в сфере внимания ученых и поэтому получили специальные и уже хорошо известные названия. Это, например, мигрантофобия - предубеждение и дискриминация против беженцев, вынужденных переселенцев, лиц, ищущих убежище; гандикапизм - фобия и предубеждение против индивидуумов с физическими ограничениями (недостатками, увечьями и др.); эйджизм - предубеждения и дискриминация, вызванные возрастом человека; сексизм - предубежденность и дискриминация на основе половой принадлежности и многие другие. Число таких предубеждений значительно расширяется в кризисных социальных ситуациях, когда ксенофобия приобретает массовый характер.
Стремление человечества разделять мир на СвоихиЧужихнеистребимо. Эта особенность человека может быть использована в разных целях: для захвата территории, усиления власти, умножения капитала и материальных ценностей. Как правило, цели остаются за кадром. А вот поводы, которые изобретаются для их реализации и даются на откуп массовому сознанию, часто не отличаются особой аргументированностью. Нелепые и абсурдные, они тем не менее могут поднять на мятеж толпы людей, спровоцировать кровопролитные войны. В изобилии такие примеры представлены в художественной литературе. С детских лет мы все помним истории фантастического противостояния "тупоконечников" и "остроконечников" Свифта ("Приключения Гулливера") или "долговязов" (худых и трудоголиков) и "толстопузов" (упитанных и релаксирующих) Моруа ("Долговязы и толстопузы"). Множество похожих примеров можно найти и в реальной истории; все они свидетельствуют, что ксенофобия не нуждается в основаниях - ей достаточно поводов.
Психологи пытаются дать свой ответ на вопрос, почему так происходит, и находят его в природе человека. Социальный порядок, определяющий взаимоотношения людей в нашем мире, вне зависимости от разнообразных культурных обычаев и традиций, испокон веков задавался универсальной психологической альтернативой Мы-Они.Залогом выживания становилось создание замкнутыхМы-групп и настороженное или враждебное отношение ко всем чужимОни-группам. Стремление человека делить мир наМыиОни -одна из базовых особенностей человеческой природы и центральный психологический механизм ксенофобии.
В современной психологии альтернатива Мы-Онирассматривается на основе концепта социальной идентичности - базового психологического конструкта, концентрированно выражающего сущность человека. Идентичность состоит из представлений, эмоций, мотивов, знаний, ценностей, стереотипов, поведенческих схем, норм и стандартов, а также бессознательных образований. Это концентрированный сгусток опыта и ныне живущих поколений, и всего человечества, преломленный сквозь призму существования в группе. В процессе формирования идентичности индивид осознает свою групповую принадлежность и свое положение в обществе, непрерывность собственного существования в системе поколений и в контексте истории, принимает определенный образ жизни и подчиняется ему, научаясь соотносить свою индивидуальность с групповой системой ценностей и норм. Индивид ищет своеЯи почти всегда находит его в какой-либо группе. Идентичность - это, с одной стороны, объединение, тождественность, общность, а с другой - отделение, противопоставление, конфронтация:ЯиДругой, МыиОни.
На протяжении всего жизненного пути индивид пребывает в процессе осознания и переживания своего личностного Яи групповогоМы.В нормальной жизненной ситуации у большинства людей доминирует личностный уровень. В переходных или кризисных жизненных ситуациях, а также в условиях повышенной напряженности в обществе человеку становится все труднее полагаться только на себя. И он в поисках опоры и за-
стр. 6
![]()
щиты стремится к расширению своих социальных и психологических границ. Он выходит за пределы Я,сознательно декларируя свою неразрывную связь с какой-либо общностью или группой. К. Юнг называл этот процесс психической инфляцией (от лат.inflation- раздувание, расширение) [39]. Через расширение индивидуальных границ личность ищет защиту, устойчивость и возможности развития в группе, в групповой идентичности. Например, в условиях кризисной ситуации 1990-х гг. такой групповой идентичностью для большинства россиян стала этническая принадлежность, что привело к резкому повышению межэтнической напряженности в нашем обществе.
Одним из значительных психологических эффектов действия механизма Мы-Ониявляется феномен ингруппового фаворитизма, экспериментально выявленный английским социальным психологом Г. Тэджфелом. Его суть заключается в том, что даже символическая отнесенность человеком себя к той или иной группе, как правило, предполагает ее предпочтение и более позитивную оценку по сравнению с другими группами [38]. Таким образом, идентичность выполняет свои функции отождествления и отделения, основанные на естественном предпочтении собственных культурных ценностей. Феномен ингруппового фаворитизма выражает стремление человека к позитивной идентичности - ведь чем выше статус и престиж своей группы, тем выше собственная самооценка и наше положение в обществе. Позитивная групповая идентичность членов группы - важное психологическое условие не только самого существования группы, но и поддержания ее стабильности и самостоятельности. Поэтому, защищая свою идентичность, человек защищает свою группу; защищая свою группу, он защищает свою идентичность.
Понятие позитивной идентичности включает в себя отношение не только к собственной группе, но и к другим группам. Примем позитивную идентичность за психологическую "норму" многообразия, которая помимо условия самостоятельного и устойчивого существования собственной группы выступает также как условие мирного социокультурного взаимодействия в многополярном мире. В данном случае в структуре этой идентичности должны соотноситься позитивный и относительно предпочитаемый образ своей группы с позитивным ценностным отношением к другим группам. Человек, обладающий такой идентичностью, не воспринимает мир как угрожающий, он толерантен по отношению к другим группам, и для него не характерны ксенофобические установки.
Выход за пределы индивидуальных границ и гипертрофированное стремление человека отождествить себя исключительно с одной группой приводит к формированию групповой гиперидентичности, для структуры которой характерен выраженный дисбаланс в пользу позитивного образа своей группы. Индивид, обладающий гиперидентичностью, воспринимает мир как угрожающий и готов к обороне. Главную угрозу своей идентичности он видит в чужаках - тех, кто обладает другой идентичностью. Ведь именно поэтому чужак может поставить под сомнение чуть ли не все, что безоговорочно принимается всеми членами другой группы [22]. Этот путь ведет к развитию ксенофобии как социально опасного психологического феномена.
Основой гиперидентичности является этноцентризм именно в том понимании, которое идет еще от П. Гумпловича и У. Самнера и выступает одним из ключевых понятий в известной книге Т. Адорно и его коллег "Авторитарная личность" [26]. Оно предполагает жесткое разделение на СвоихиЧужих,порождает негативные образыЧужихи враждебные установки по отношению к ним, а также иерархическую авторитарную точку зрения на групповое взаимодействие, в котором всегда предпочтительнее, когда "своя" группа доминирует, а "чужие" группы являются подчиненными.
В современных исследованиях этноцентризм уже давно не рассматривается как однозначно негативное явление. Также показано, что рост ингруппового фаворитизма вовсе не всегда порождает враждебность по отношению к внешним группам [35], а ксенофобия и этноцентризм не имеют жесткой однозначной связи [13, 30, 40]. Р. Левайн и Д. Кэмпбелл, рассматривая этноцентризм как производное от реакции на конфликт и угрозу со стороны других групп, выделили его основные симптомы: увеличивающуюся плотность групповых границ, уменьшение числа "отступников" в группе, усиление их "наказания" или даже отвержение их как "дезертиров" [34]. Групповые границы превращаются в трудно преодолимые барьеры, а для членов группы все более характерными становятся ксенофобические установки.
СИСТЕМЫ ЧУЖЕРОДНОСТИ
Если ученые уделяют относительно мало внимания собственно проблеме ксенофобии, то писатели-фантасты традиционно озабочены значимостью этой темы. Решая этические проблемы ксенофобии, они строят иерархии чужеродности, в которых взаимоотношения с Чужимирассматриваются сквозь призму перспективы мирного и конструктивного сосуществования между человечеством и иными мирами. Вольно или невольно такую иерархию чужеродности в своей повседневной жизни строит практически каждый человек: в зависимости от оценки воспринимаемой угрозы и чуждости мы регламентируем степень
стр. 7
![]()
открытости/закрытости, которая позволяет нам сохранить свое Я,защитить себя и границы между собой и другими.
У разных индивидов и групп существуют свои системы чужеродности. Но в основе каждой такой системы лежит единый универсальный психологический механизм - альтернатива Мы-Они, Свои-Чужие,определяющая социальный порядок в различных контекстах человеческих взаимоотношений. Опираясь на выделенные критерии, отражающие три важных аспекта альтернативыМы-Они- культурно-психологическую дистанцию, величину воспринимаемой угрозы и оценку перспектив взаимодействия, - рассмотрим четыре группыЧужих,обычно включаемых людьми в свои системы чужеродности.
Свои Чужие.На первый взгляд эту форму чужеродности - "ЧужойсредиСвоих" -трудно отнести к ксенофобии. Но именно непреодолимое стремление разделять мир наСвоихиЧужихзаставляет нас настойчиво дифференцировать даже ближайшее окружение: родственников, друзей, соседей, коллег и знакомых.
Критерии Чужихна этом уровне могут быть очень жесткими, ведь именноСвоихмы нередко судим особенно безапелляционно и пристрастно, выдвигая завышенные требования и часто необоснованные претензии. Уже здесь критерии чужеродности во многом определяются общим контекстом и ситуацией. Так, женившись или выйдя замуж за человека другого круга, мужчина или женщина нередко начинают стыдиться и избегать своих родственников. Или же школьный друг может оказаться несовместимым с университетским, так как в одной ситуации это член определенной группы, т.е.Свой,а в другой - нет.
Не свои Чужие.Этот достаточно абстрактный образ - продукт психологической альтернативыМы-Они.Как заметил Б. Ф. Поршев, всякое объединение противопоставляет, всякое противопоставление объединяет [11]. Здесь начинают в полной мере действовать универсальные социально-психологические закономерности, связанные с групповой принадлежностью и формированием социальной идентичности (социальная категоризация, межгрупповое сравнение, закономерности стереотипизации).
На этом уровне особое значение приобретает феномен неизвестного, в основе которого лежит недостаточное знание об объекте, определяющее формирование неофобии - боязни всего нового, а также феномен неиспытанного (непознанного), когда имеющихся знаний недостаточно. Именно через сочетание этих аспектов с одновременно воспринимаемым расхождением со стандартами собственной идентичности (например, расхождения в представлениях о том, что правильно или неправильно, хорошо или плохо) немецкие исследователи Б. Шефер, М. Скарабис и Б. Шледер рассматривают феномен Чужого[23].
Не свои Чужие- "неНаши",потому что из другого мира. Но этот мир не обязательно враждебен, возможно, он даже дружественен, особенно если его интересы не пересекаются с интересами "нашего" мира. В силу непонятности и непознанности такиеЧужиевыпадают из привычного разделения на "врагов" и "друзей". Это абстрактныйЧужой- некий обобщенный образ незнакомца. Такие люди просто существуют, мы знаем о них, но они не имеют к нам прямого отношения. В то же время это значительная часть населения Земли, самое многочисленноеОни.Отношение к ним может складываться на основе либо равнодушия, либо отстраненного нейтрального интереса, либо естественного любопытства, соединенного с чувством некоторого опасения.
Опасение как частично осознаваемый страх существенно влияет на наше восприятие. Исследования психологов показывают, что контакты с незнакомыми людьми чаще повышают негативную эмоциональную активацию. Например, представители разных культур во взаимодействии с незнакомцами более часто, чем со знакомыми, испытывают страх и в меньшей степени контролируют гнев [29]. Поэтому при восприятии Чужогокак неизвестного, незнакомого, несмотря на характерную амбивалентность чувств, сдвиг эмоционального восприятия гораздо легче происходит в негативную, чем в позитивную сторону.
Стигматизированные Чужие.Слово "стигма" (с греч. - укол, ожог, клеймо) со второй половины XIX в. стало употребляться в переносном смысле как "метка, позорное клеймо". Под стигматизацией в современном социально-психологическом значении понимается выделение или приписывание кому-либо определенных черт, признаваемых обществом отрицательными, и выделение кого-либо посредством дискриминации. Социальные стигмы - это характеристики человека "отклоняющегося, ущербного, ограниченного, дефективного и в целом нежелательного" [32]. Стигматизации подвергаются люди с определенными физическими, психическими и социальными особенностями, которые отличают их от большинства. Это те, кто говорит, одевается, выглядит, молится и думает иначе, чем большинство других людей. Выделяя "инаких" на основе характерных признаков и различий и отчуждаясь от них, "нормальные" таким образом поддерживают свою социальную идентичность [20]. Люди обычно стремятся "уложиться" в параметры большинства, чтобы не стать объектом насмешек или даже изгоями своей группы.
Известный американский социолог и социальный психолог Э. Гоффман выделил три типа стигмы:
стр. 8
![]()
1. Физические и психические недостатки (инвалиды, калеки, слабоумные, психически больные, люди с избыточным весом и др.).
2. Индивидуальные недостатки характера, воспринимаемые как слабость воли (преступники, наркоманы, пьяницы, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, бомжи, безработные, радикально инакомыслящие и др.).
3. Родовые стигмы расы, национальности и религии, передаваемые от одного поколения другому и распространяемые на всех членов семьи (расовые предубеждения, предубеждения против этнических меньшинств, членов сект и определенных религиозных общин) [31].
По мнению Гоффмана, многие в действительности считают тех, кто отмечен стигмой, в чем-то не совсем людьми - поэтому мы дискриминируем их и действенно, хотя часто и без злого умысла лишаем жизненных шансов [31]. Стигматизированные Чужие- это отклонения от "нормы", выделяющиеся и вызывающие сомнение, поэтому они нежелательны, их следует клеймить, изолировать, изгонять. Возникающие на этом уровне ксенофобические установки, в основе которых лежит психологический механизмМы-Они,связаны с особой чувствительностью к выходу за пределы среднего и привычного. Они определяют соответствующее социальное поведение, основанное на жестком представлении о норме.
Враждебные Чужие. Чужойкак враг - это путь конфронтации и враждебности. Образ врага - это крайнее выражение психологической альтернативыМы-Они,когдаОнипопадают в категорию "нелюдей", "дикарей". В этом случаеЧужойрисуется черными красками, вызывает отвращение, презрение и гнев. Этот аффективный комплекс, названный американским психологом К. Изардом триадой враждебности [4], определяет эмоциональную основу категоричного разделенияСвоихиЧужих.Наличие врага объединяет, поэтому сам процесс формирования его образа Л. Гудков рассматривает как механизм социокультурной интеграции [3].
С. Кин на материале не имеющей аналогов коллекции военных плакатов, пропагандистских роликов, карикатур из различных стран и исторических эпох наглядно показал, что образ врага в определенном смысле универсален - это общий стереотип с минимальной культурной спецификой. Кин исходил из положения Юнга о том, что создаваемые образы врага - это проекции вытесненных и неосознаваемых теневых сторон нашего бессознательного. Он подразделил эти образы на несколько архетипических категорий в соответствии с преобладающими в них характерными признаками: "Чужак", "Захватчик", "Варвар", "Преступник", "Насильник", "Враг Бога", "Безликий", "Достойный противник", "Мучитель", "Смерть". Обычно говорят, что страх усыпляет разум; по словам же Ф. Гойи, сон разума порождает чудовищ. Поэтому враг у любого народа приобретает облик чудовища [33].
Психологи, проводя разнообразные эксперименты, пришли к выводу, что вражду провоцирует конкуренция. Конкуренция - одна из основных форм взаимодействия между людьми в мире ограниченных ресурсов и возможностей. Люди соперничают за территорию, власть, работу, материальные возможности. Но все же развитие такого взаимодействия может идти двумя путями: через конфликт и продуктивную конкуренцию.
Термин "продуктивная конкуренция" введен А. Шмелевым для обозначения такого частного случая конкурентного взаимодействия, при котором происходит обогащение среды и рост собственного потенциала не только у победителей, но и у значительной части конкурентов. Путь продуктивной конкуренции - это не антагонистическая борьба за выживание, которая связана с дискриминацией, подавлением или даже уничтожением. Психологический механизм Мы-Онив этом случае подвергается моральному и правовому регулированию, что определяет распространение гражданских прав на иноплеменников, иноверцев, конкурентов и соперников. Концепция продуктивной конкуренции основывается на убеждении в том, что новые уровни материального и культурного прогресса достигались человечеством не путем истребления сильными субъектами слабых, а в процессе создания все более масштабных и разнообразных по форме коалиций, в рамках которых сильные имеют возможность справляться с возникающими в условиях альтернативыСвой-Чужойчувствами страха, недоверия и враждебности и добровольно ограничивают свою власть над слабыми. В терминах концепции продуктивной конкуренции сильные принимают самоограничение на рост своего потенциала ради сохранения права слабых на полноценное существование [24].
КСЕНОФОБИЯ КАК СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ ФЕНОМЕН
Возраст ксенофобии - это возраст человечества. Она превращается в социально опасный психологический феномен в том случае, когда различия между людьми сами по себе начинают восприниматься как проблема, когда различий боятся. ЧужиеизДругихпревращаются вЧуждых,вызывают страх и воспринимаются как угроза нашей позитивной идентичности и привычному образу жизни. Страх порождает неприязнь, которая может перейти в ненависть и враждебность. Объекты ксенофобии меняются от эпохи к эпохе, от страны к стране, но ее психологический механизм - альтернативаМы-Они -
стр. 9
![]()
остается универсальным и, похоже, продолжает работать по доисторическим примитивным схемам. В то же время этологическая и социобиологическая основа этой альтернативы сегодня уже в значительной степени утрачена. Современное человеческое общество трудно и драматично приходит к очевидному, но тем не менее всего лишь постепенно осознаваемому представлению о том, что все человеческие расы, народы и племена состоят из существ одного вида. Это вселяет в нас оптимизм, когда мы говорим о возможности преодоления ксенофобии.
Именно осознание ксенофобии как социально опасного феномена определило ее место в ряду наиболее актуальных проблем современного мира. Международные общественные организации пытаются привлечь внимание ученых и мировой общественности к проблеме роста ксенофобских установок1. Одним из последних документов международного уровня, прямо затрагивающим эту тему, является Декларация о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятая в 2001 г. в Дурбане (Южная Африка) на Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. В этом документе ксенофобия рассматривается в ее различных проявлениях как один из основных источников современного расизма и одна из форм дискриминации. В Декларации констатируется, что, несмотря на усилия международного сообщества, главные цели трех десятилетий борьбы против расизма и расовой дискриминации не были достигнуты, и бесчисленное множество людей поныне остаются жертвами различных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними интолерантности.
Ксенофобия действует и на уровне личности и групп, и на уровне обществ и целых государств. Это важный психологический мотив конфликтов и войн, а также удобное орудие манипуляции, которым успешно пользуются националистические движения. Ее психологическая функция - защита от других, которая может выражаться в стремлении к полной или частичной изоляции, в предрассудках, дискриминации, насилии.
Ксенофобия, как ржавчина, разъедает межличностные отношения. Чувство страха, лежащее в основе ксенофобии, негативно влияет на личность. Неприязнь, которую оно порождает по отношению к чужакам, имеет тенденцию к генерализации - распространению на представителей других групп. Социальными психологами открыта одна из закономерностей межгруппового восприятия: существование негативных стереотипов по отношению к какой-либо группе значительно повышает вероятность формирования негативных стереотипов и по отношению к другим группам.
Чтобы попытаться ответить на вопрос о том, какова доля людей в обществе, о которых можно сказать, что они предрасположены к ксенофобии, обратимся к сфере межэтнических отношений. Именно здесь ксенофобия обретает наиболее законченное и нередко драматическое выражение, в связи с чем и является одной из центральных тем эмпирических исследований. Представим некоторые результаты проведенных нами в середине 1990-х гг. в различных регионах Российской Федерации исследований этнической идентичности, включающих изучение ксенофобических установок в межэтнических отношениях у представителей различных национальностей [14]. На первый взгляд, они достаточно оптимистичны: число людей, позитивно настроенных на межэтническое взаимодействие в разных этнических группах, практически не опускалось ниже 70%, а в группе русских превышало 80%. Но отметим, что значительная часть этих людей была настроена амбивалентно, т. е. одновременно с позитивными установками они продемонстрировали также и негативные.
Что касается оставшейся части респондентов -20 - 30% от всей выборки, то, по нашим данным, число интолерантных этнофобов с отчетливой негативной установкой на межэтническое взаимодействие (не стремящихся к развитию позитивных отношений с Чужими,отличающихся этнической нетерпимостью и убежденностью в превосходстве своего народа над другими, являющихся ревностными хранителями своей культуры, готовыми любыми способами отстаивать права своего народа) в разных этнических группах колебалось в пределах 5 - 10%. История свидетельствует, что десятой или даже двадцатой части общества достаточно, чтобы "раскачать лодку". Ведь эта часть населения демонстрирует активные поведенческие установки и оказывает значительное
![]()
1 С 1946 по 2001 гг. было принято более 20 деклараций, касающихся дискриминации, ксенофобии и защиты прав человека. Так, был принят ряд документов, защищающих права отдельных социально уязвимых групп, например, в 1959 г. была принята Декларация прав ребенка, в 1971 г. - Декларации о правах умственно отсталых лиц, в 1975 г. -Декларация о правах инвалидов, в 1985 г. - Декларация в отношении прав лиц, не являющихся гражданами страны их проживания в данный момент, в 1992 г. - Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам. Среди документов, касающихся борьбы с ксенофобией и ее последствиями, можно отметить следующие: Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1963), Декларация о расе и расовых предрассудках (1978), Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений (1981), Декларация о праве народов на мир (1984), Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами (1987).
стр. 10
![]()
влияние на группу так называемых "пассивных националов-этнофобов" - лиц, демонстрирующих высокую подверженность ксенофобской идеологии. В наших исследованиях их число в разных этнических группах колебалось от 12 до 28%. В условиях конфликтной социальной ситуации большинство представителей этой группы скорее всего поддержат "активных этнофобов". Кроме того, существует закономерность: число таких лиц растет в зависимости от уровня социальной напряженности в обществе [13]. Если объединить "активных" и "пассивных" этнофобов, то в целом можно говорить как минимум о пятой части общества, которая, несмотря на диктат социальной желательности, не постеснялась открыто выразить свои негативные установки на межэтническое взаимодействие. Негативного влияния таких групп людей на отношения в обществе уже нельзя недооценивать: ненависть, враждебность, предрассудки, оказавшись присущими определенному числу конкретных личностей, выступают питательной средой для таких опасных социальных явлений, как национализм, шовинизм, фашизм. Чтобы разобраться в феномене ксенофобии, необходимо понимать, что он сложен, противоречив и является результатом многих факторов: биологического, психологического, культурного, социально-политического, экономического. Поэтому, рассматривая возможности профилактической работы по преодолению ксенофобии, важно учитывать самые различные аспекты и факторы, помимо психологических. Для разработки эффективных психологических технологий по профилактике ксенофобии необходим как междисциплинарный подход, так и сочетание различных уровней и направлений психологической науки.
Понимая ксенофобию как социальный феномен, необходимо иметь в виду также, что это одна из форм психологической защиты индивида и группы в непредсказуемом и опасном мире, вписанная в формулу выживания человечества и на протяжении его истории неоднократно подтверждавшая свою эволюционную значимость. Поэтому нельзя забывать о том минимуме закрытости по отношению к Другим,который жизненно необходим каждому для сохранения своего Я и не позволяет человеку раствориться в окружающем мире.
Важно также помнить, что идеология СвоегоиЧужого- это образ нашей жизни. Она всепроникающа и привычна. Очевидно, что чужое - обязательное и необходимое условие своего. В. Каган справедливо считает, что отмирание альтернативыМы-Они, Свое-Чужоепоставит человечество в крайне затруднительное положение - "свое" без "чужого" умирает. Исчезновение альтернативы невозможно, но возможно ее смещение на другихОни,например, если у человечества появится общий враг (инопланетяне, вышедшие из-под контроля машины и т.д.) [5]. Кроме того, важно осознавать, что диалектикаСвоегоиЧужогоможет быть конфликтна, а может обладать той необходимой степенью напряженности, без которой невозможно развитие. Поэтому разработка технологий должна опираться на непростую диалектику процессов идентификации и дифференциации с миром и с другими, имеющими свои закономерности и особенности как на личностном, так и на групповом уровне.
Анализ инцидентов, связанных с ксенофобией, и исследования этого феномена показали, что он, как правило, избирателен и конкретен. Поэтому ксенофобия - это страх и неприязнь по отношению к определенным группам людей. Объекты ксенофобии зависят от исторического времени и культурного пространства. В каждой стране можно отыскать любимый объект ксенофобии, причем представители отвергаемой группы не обязательно резко отличаются своими культурными особенностями или принадлежат другой расе. Например, в Южно-Африканской Республике, где проживает более 70% африканцев, ксенофобия главным образом "черного цвета". Анализ ситуаций, связанных с ксенофобией и описанных в средствах массовой информации этой страны, показал, что она направлена против темнокожих мигрантов и беженцев из других африканских стран.
Социальная ситуация меняет объекты ксенофобии, но пока еще не было случая, чтобы она отменила их вовсе. В запасе у человечества всегда есть всеобщие "дежурные" ксенофобические объекты, например, люди другой расы, евреи, мигранты. Поэтому очень важно учитывать взаимосвязь универсальных психологических механизмов ксенофобии и конкретность ее объектов, т. е. работу и трансформацию этих механизмов в социально-историческом контексте и в актуальной жизненной ситуации.
Противоречивость и сложность феномена ксенофобии определяется также непростой сутью чувства страха, лежащего в его основе. Известно, что страх - одна из базовых эмоций, определившая выживание человека в мире, полном опасностей, мобилизующая его на защиту от внешней угрозы. Страх нельзя всегда оценивать негативно. Это не изъян, а проявление ценной душевной способности, которая перерастает в болезнь, лишь сбившись с пути [6]. Страх, как правило, основан на реальной опасности или угрозе и этим отличается от фобий.
Термин "фобия" происходит от имени греческого бога страха Фобоса, которого древние греки изображали на своих щитах для устрашения врагов. Фобия - это скрытый, неосознанный страх, возникающий в результате иррациональ-
стр. 11
![]()
ных импульсов. Ксенофобия относится к числу социальных фобий, для которых характерен иррациональный страх при взаимодействии с другими людьми (иррациональный потому, что он всегда несоразмерно больше, чем существующая реальная опасность).
Для ксенофоба фактор угрозы имеет первостепенное значение: мир опасен, он населен враждебными странами, народами, группами и людьми. В нашем исследовании мы обнаружили, что чем в большей безопасности ощущают себя люди, тем меньше чуждых и опасных групп они находят в окружающем их мире. А рост ощущения угрозы существенно сжимает безопасное социальное пространство человека, в лучшем случае - до размеров его семьи [17].
Понятию угрозы придавал большое значение Р. Лазарус, рассматривая ее как предвосхищение человеком возможных опасных последствий воздействующей на него ситуации [7]. У. Стефан и К. Стефан описали страх и тревогу как основу возникновения предубеждений и предложили комплексную теорию угрозы, объясняющую многие проблемы межгрупповых отношений. Они выделили три вида страха: 1) страх утраты физического или материального благополучия группы или ее членов (возникает в результате реалистичных угроз со стороны Они-групп: конфликты, захват территории, война, репрессии); 2) страх разрушения ценностей, норм, стандартов, традиций, убеждений, установок (возникает в результате символических угроз со стороныОни-групп); 3) страх негативных последствий и ожиданий для личности и группы (возникает в результате угроз в форме межгрупповой тревожности и в форме негативных стереотипов) [37]. По мнению этих авторов, сильная идентификация с группой повышает чувствительность к названным типам угроз. В свою очередь угроза порождает защитные действия, реакции и импульсы, обладающие теми же характеристиками, которые обычно приписываются эмоциональным состояниям.
Определенность ксенофобии, о которой говорилось выше, выражается в персонификации объектов страха - ими становятся конкретные люди или группы. Это происходит потому, что "страх жаждет воплотиться", как писал Ю. М. Лотман, анализируя "охоту на ведьм" в средние века [8]. Трудно не согласиться с В. Каганом, что психологически это предельно точно, ибо "свободно плавающие" страх и тревога часто непереносимы для человека. Воплощенный страх становится понятным, и легче искать способы борьбы с ним. А защитой от него становится ксенофобическая агрессия на разных уровнях - индивидуальном, групповом, культурном, политическом [6]. В результате ксенофобия персонифицируется: объектами страха становятся конкретные люди или группы.
Посредством персонификации страх рационализируется, а агрессия канализируется: всегда находятся враги и "козлы отпущения". В средние века, а также в начале Нового времени поиск "козлов отпущения" приобрел чудовищный размах в форме печально известной охоты на ведьм, длившейся несколько столетий - с середины XVI в. до XVIII в. Самыми известными знатоками ведьмовского мира были признаны монахи-доминиканцы Я. Шпренгер и Г. Инститорис, написавшие в 1487 г. по поручению папы Иннокентия VIII знаменитый трактат "Молот ведьм" [25].
В современном обществе "козлами отпущения" часто становятся мигранты, пытающиеся адаптироваться в чужом городе. На них обыватель сваливает свои беды и неудачи. Ритуалы очистительной и искупительной жертвы и смещения агрессии давно изменились, но психологическая суть осталась прежней - мы ищем виновных, чтобы справиться со страхами, чувством неудовлетворенности и собственной неполноценности. А тот, кто виноват, и есть враг. В расчете на безнаказанность за поведение, обычно осуждаемое в обществе, "козлами отпущения", как правило, выбирают слабых, тех, кто не может за себя постоять и дать отпор.
В период советской власти существование ксенофобии санкционировалось официальной идеологией. Советский Союз и советское общество были провозглашены высшим достижением человеческой мысли и практики, носителями идеалов, к которым должны стремиться все народы и культуры [9, 12].
Несовершенство российского общества продолжает стимулировать существование ксенофобий. Проводимый нами мониторинг толерантности, социального доверия и ксенофобии позволяет получить некоторые ответы на вопросы о том, кого опасается и в ком видит врага современный россиянин. В частности, оказалось, что помимо этнических и религиозных групп, причем значительно обгоняя их, на первый план выходят "стигматизированные Чужие":больные, обездоленные, уязвимые группы населения. Лидируют в этом списке наркоманы, бомжи, гомосексуалисты, проститутки, больные СПИДом, психически неполноценные. Эти результаты говорят, в частности, о том, что отсутствие или неактуальность реалистичных угроз со стороныОни-группне отменяет социальные фобии как таковые, но переносит акценты на символические угрозы и актуализирует экзистенциальные и символические страхи.
Может быть, дело в самой человеческой природе? Американский антрополог Э. Бекер пытается объяснить отталкивающую страсть челове-
стр. 12
![]()
чества к жестокости и агрессии в отношении Чужих, Других, Иных на основе своей теории "преодоления ужаса" [28]. Разрабатывая ее, он опирался на психоанализ З. Фрейда, а также на работы его ученика, известного американского психолога О. Ранка. Ранк считал, что все функционирование человека выражает одновременно две тенденции: с одной стороны, минимизация страха жизни, вызванного неизбежной сепарацией и индивидуализацией, начинающейся с самого рождения и продолжающейся на всех жизненных этапах, и с другой - минимизация страха смерти, связанного с внутренним стремлением к единению, слиянию и зависимости.
Бекер исходит также из работ С. Кьеркегора, представителя европейской постклассической философии, основоположника диалектической теологии экзистенциализма, который считал, что высокоразвитое самосознание человека основано на благоговении перед чудом быть живым и ужасе из-за осознания неизбежности смерти. Кроме того, автор использует известную идею о том, что человечество было бы поражено постоянным ужасом, если бы не культура и определенные верования и убеждения, призванные уменьшить страх смерти. Опираясь на эти теории, он считает, что люди "покупают" психологическую стабильность в обмен на коллективный отказ от восприятия хрупкости своего существования и фатальной неизбежности грядущего финала [27,28].
В рамках своей теории Бекер раскрывает психологические механизмы, лежащие в основе взаимодействия с Чужими. Один из них базируется на убеждении в том, что Чужие испокон веков представляют угрозу. Существование иных верований и взглядов ставит под вопрос собственную концепцию реальности, которая в данной культуре поддерживается неким социальным соглашением. Угроза, о которой говорит Бекер, есть не что иное, как угроза собственной идентичности человека. Пошатнувшаяся вера в свою идентичность, в казавшуюся незыблемой концепцию реальности может освободить весь ужас осознания неизбежности смерти, обычно сдерживаемый культурой. Следовательно, наличие Чужих угрожает психологическому спокойствию человека и требует принятия срочных мер для стабилизации концепции. А убежденность в бесконечной истории конфликта, взаимной ненависти и жестокости между Своими и Чужими и предопределенности таких отношений и в будущем оставляет очень мало места для сомнений в необходимости защиты от инородцев, иноверцев и всех иных.
На основе своей теории Бекер объясняет также психологический механизм "козла отпущения". Поскольку смерть неизбежна и мучительный страх перед ней всегда существует, то он подавляется или проецируется на внешние группы, которые становятся как бы воплощением всемирного зла и несчастий. Возникает убеждение, что исправление, избавление или уничтожение этих групп способно основательно улучшить жизнь в целом [27]. Концепция Бекера позволяет также понять психологическую подоплеку выбора физически и психически неполноценных, больных, социально уязвимых групп населения в качестве чуждых групп. Встречи с физическим уродством, с тяжело болеющим человеком, психически больным, как правило, пугают нас. Чаще всего мы избегаем таких встреч, как будто боимся заразиться. Таким образом мы пытаемся справиться с лежащим в основе стигматизации иррациональным страхом потери смысла жизни, с ужасом перед смертью, который тщательно прячем даже от самих себя.
ОСОБЕННОСТИ КСЕНОФОБИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Страх по отношению к стигматизированным Чужим и враждебным Чужим - это именно те формы ксенофобии, когда различия между людьми воспринимаются как проблема и определяют вектор развития отношений в сторону дискриминации, насилия, конфликта. И именно в этих случаях можно говорить о ксенофобе как носителе ксенофобического мышления. В качестве его главных особенностей мы выделим следующие: негомогенность, подчиненность логике угрозы, фанатизм и проективность. Рассмотрим эти характеристики подробнее.
1. Ксенофобическое мышление опирается на логику повседневного мышления и поэтому, согласно мнению А. Шютца, негомогенно [22]. Во-первых, это означает, что знания об окружающем мире у отдельного человека лишь частично организованы и систематизированы, поэтому некогерентны ко всей существующей системе знаний. Это динамическая характеристика, которая изменяется вместе с развитием личности и с ситуацией.
Во-вторых, эти знания лишь частично ясны, так как редкий человек стремится к полному пониманию отношений в своем мире и общих принципов, им управляющих. Обычно различные сегменты знаний отличаются разной степенью ясности. Естественно, наибольшее понимание достигается человеком в отношении той группы, к которой он принадлежит. В-третьих, это знание не свободно от противоречий и поэтому непоследовательно. Нередко одинаково значимыми считаются утверждения, фактически несовместимые друг с другом, и люди не замечают модификаций, осуществляемых при переходе из одной сферы отношений в другую.
стр. 13
![]()
Образование позволяет в той или иной степени снять недостатки повседневного мышления, и это одна из существенных причин, определяющих мощное позитивное влияние фактора образования на профилактику и преодоление ксенофобического мышления. Так, в наших исследованиях респонденты с высшим образованием по сравнению с малообразованными людьми оказались существенно менее предрасположенными к формированию ксенофобских установок [18].
2. Ксенофобическое мышление подчиняется логике угрозы и законам страха. Ксенофоб не чувствует себя в безопасности, он живет с ощущением угрозы. Но его страхи основаны не на реальных причинах, а на иррациональных импульсах. Ощущение угрозы и страх деформируют его восприятие реальности. Ксенофоб опирается не на факты и доказательства, а на подозрения, на собственные проекции тревог и страхов, на приписывание мотивов злого умысла, враждебности и разрушения. Поэтому, рационализируя окружающий мир, ксенофоб объясняет и структурирует его в рамках железной логики Своих и Чужих, которая неизбежно приводит к поискам врага. Ксенофоб обычно считает, что в возникающих проблемах виноваты отдельные люди, группы или внешние обстоятельства. В этом смысле ксенофобическое мышление можно назвать конкретным.
Психопатологическое состояние общества, в котором широко распространена ксенофобия, получило название социальной паранойи. Психолог Дж. Сорвер-Фонер считает, что при определенной интенсивности психопатологических процессов на бессознательном уровне отбираются личности или группы, на которые проецируется все то, что социальный параноик считает для себя нежелательным. Его заблуждения направлены в первую очередь на тех, кого легко идентифицировать как чужаков [36]. В этом случае неконтролируемый страх выступает причиной утраты связей с реальностью, люди становятся неспособными воспринимать и анализировать то, что не подтверждает их проекций.
3. Ксенофобическое мышление фанатично. Ксенофоба можно отнести к типу людей, которых А. Асмолов выделил в категорию "обыкновенных фанатиков". У этих людей предрассудок превращается в стержневой мотив личности, в жизненную программу поведения. Они воспринимают себя как орудие неких высших сил, избранное для противодействия Чужим, инакомыслящим, которых оценивают как причину всех зол человечества и как виновников своих личных катастроф [1].
Для ксенофоба характерны двухполюсное восприятие мира и глубокая убежденность в своей правоте, единственности разделяемой картины мира или ситуации. Противоречащие этому данные либо игнорируются, либо объявляются подделкой, либо воспринимаются как ложные, измышленные противниками. Субъективно это состояние переживается как борьба истины с ложью, в эмоциональной сфере доминируют чувство высокой собственной значимости, подозрительность, тревога, страх, злоба.
Ксенофоб видит четкую границу между нормой и патологией. Он стремится к "норме", к усредненному представлению о человеке, когда все выходящее за пределы привычного вызывает чувство неприятия, протеста, отвращения. Усредняя окружающий мир, ксенофоб обкрадывает себя. Э. Фромм называл это патологией нормальности, когда человек усиленно старается быть таким, как большинство, т.е. соответствовать общепринятым нормам. По мнению Фромма, такая позиция патологична, ибо жестко ограничивает социокультурное пространство человека и мешает его самореализации [21].
Известный американский фантаст У. Тенн в одном из своих рассказов с юмором, но драматически описал, что может стать с обществом, в котором политическая власть достается не достойнейшим или просто лучшим, а самым "средним" людям. В рассказе Тенна царство "человека среднего" длилось достаточно долго. В конце концов, оно пало, покоренное собаками ньюфаундлендами, которые построили свою великую собачью цивилизацию и сначала поработили, а затем приручили человечество. Вот один из ответов на заданный вопрос: общество, стремящееся к среднему арифметическому, имеет нулевой потенциал [18]. Не менее пессимистичны фантазии на эту тему К. Воннегута. Он в сатирическом ключе описывает общество, где исповедуется закрепленный законом культ равенства между людьми, причем равенства не только и не столько их прав и возможностей, сколько равенства способностей [2].
4. Ксенофобическое мышление проективно. Это означает, что ксенофоб, для того чтобы справиться с тревогой и неопределенностью, возникающими в результате постоянного ощущения угрозы и опасности, будет подсознательно стремиться избавиться от собственных недостатков, неконтролируемого страха, негативных переживаний посредством перенесения (проекции) их на других людей или группы. Механизм проекции - это один из центральных защитных механизмов психики. Но проекции могут быть позитивными и негативными. И именно последние - главная психологическая защита ксенофоба. Известно, что они помогают избежать прямого внутреннего контакта с нежелательными или вызывающими беспокойство психическими содержаниями, с тем, что К. Юнг называл Тенью. Это понятие в соответствии с одним из своих значений в концентриро-
стр. 14
![]()
ванном виде вмещает все отрицательное, неприемлемое, отвергаемое для собственной личности или группы. Реализация механизма негативной проекции - способ защититься от теневых аспектов своего Я: в этом случае можно быть совершенно уверенным, что причина бед находится вовне, а не в нас самих [39].
Наши исследования онтогенеза альтернативы Мы-Они дают некоторые ответы на вопросы о том, в каком возрасте закладываются основы ксенофобического мышления и когда человек наиболее чувствителен к восприятию ксенофобической идеологии. Полученные данные показали, что категория Мы для детей в возрасте от 5 до 15 лет выступает аутентичной точкой отсчета. В дошкольном возрасте в нее попадает все известное, знакомое, испытанное, причем объекты Мы окрашены не только позитивно, но и негативно. Они - это весь остальной незнакомый мир, про который дошкольнику трудно сказать что-то конкретное и эмоционально определенное. По мере расширения "известной" части мира некоторые объекты из Они переходят в Мы, категория Мы увеличивается, включая в себя все то новое, с чем ребенок сталкивается в процессе познания мира.
Расширение категории Мы продолжается на протяжении младшего и среднего школьного возраста. В среднем школьном возрасте к Своим ребенок относит максимальное количество объектов. Соответственно Они значительно сокращается в объеме. Именно в этом возрасте категории Мы и Они начинают приобретать когнитивную структурированность и эмоциональную определенность: категории содержательно наполнены и уже эмоционально противопоставлены друг другу: Мы главным образом окрашена позитивно, Они - чаще негативно.
У старших школьников категория Мы еще больше сужается и приобретает "элитарный" характер. Подросток активно ищет Своих. Происходит "отсортировка", и теперь в Мы входят главным образом люди и социальные группы, которые являются для подростка референтными. Они, напротив, начинает увеличиваться в размерах. Но если у дошкольников понятие "Они" всеобъемлюще, то у подростков это содержательно и эмоционально очень определенная категория. Они - уже не тайна за семью печатями. Это сложный, интересный и небезопасный мир. Эмоциональный дисбаланс между категориями достигает в этом возрасте своего пика. В соответствии со свойственным подросткам максимализмом Мы превращается у них в однозначно позитивную категорию, Они - в негативную и частично амбивалентную [16]. Это также подтверждают данные нашего мониторинга толерантности, социального доверия и ксенофобии, в соответствии с результатами которого старшие школьники - наименее толерантная и наиболее склонная к ксенофобическим установкам часть нашего общества [17].
Психологический анализ ксенофобии показал, что в условиях роста социальной напряженности и в кризисных ситуациях ксенофобия становится социально опасным феноменом, так как является психологической основой развития в обществе дискриминации, отчуждения, изоляции, конфронтации, насилия и конфликтов. Профилактику ксенофобии необходимо и эволюционно выигрышно для человечества начинать на самых ранних этапах развития ребенка, но особое внимание следует уделять детям среднего и старшего школьного возраста. Согласно результатам исследований, это тот период в развитии подростка, когда усиливается эмоциональный дисбаланс между ведущими категориями, определяющими социальный порядок в мире, происходит фиксация альтернативы Мы-Они и вырабатываются стратегии поведения с Чужими. Именно в этом возрасте определяется социальный вектор мышления и формируются или не формируются ксенофобические установки личности. Таким образом, средний и старший подростковый возраст обозначают ту демаркационную линию, перейдя которую часть наших сограждан так или иначе попадает во власть жесткой альтернативы Мы-Они и ксенофобических установок.
Опыт разных стран показывает, что соответствующим образом построенное образование - важнейший фактор, который позволяет направить большую часть подростков по пути непредубежденности и открытости миру и снизить риск формирования ксенофобических установок. Развитие мировоззрения, в основе которого лежит осознание общности человечества и формирование отношения к Другому не как к Чуждому, а как к Ближнему - главный шаг по пути преодоления ксенофобии и насилия в нашем обществе. Эффективными инструментами профилактики ксенофобии и ее преодоления являются гуманитарные психологические технологии, построенные на основе учета особенностей формирования ксенофобических установок и с опорой на модель транскультурной социализации подростков, предполагающей их развитие на перекрестках культур [15]. Это позволяет преодолеть замкнутость культурных традиций и ценностных детерминант, снижает социальные риски развития ксенофобического мышления и раздвигает поле возможностей человека.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Асмолов А. Г. Психология обыкновенного фанатизма // Век толерантности: научно-публицистический вестник. М., 2002.
стр. 15
![]()
2. Воннегут К. Гаррисон Бержерон // Фантастика века / Сост. В. Гаков. М.: Полифакт, 1999. С. 469 - 472.
3. Гудков Л. Идеологема "врага": "Враги как массовый синдром и механизм социокультурной интеграции" // Образ врага. М.: ОГИ, 2005. С. 7 - 80.
4. Изард К. Эмоции человека. М.: МГУ, 1980.
5. Каган В. Homo xenophobicus: психология "своего" и "чужого" // Век толерантности: научно-публицистический вестник. М.: МГУ, 2004. Вып. 7.
6. Келер Х. Загадка страха. М., 2003.
7. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования // Эмоциональный стресс. Л.: Медицина, 1970.
8. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб.: Искусство, 1994.
9. Малашенко А. Ксенофобия в постсоветском пространстве // Нетерпимость в России. М., 1999.
10. Моруа А. Толстопузы и долговязы. М., 2000.
11. Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М., 1966.
12. Простой советский человек / Под ред. Ю. А. Левады. М., 1998.
13. Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998.
14. Солдатова Г. У. Практическая психология толерантности или как сделать так, чтобы зазвучали лучшие струны человеческой души // Век толерантности: научно-публицистический вестник. М.: МГУ, 2003. Вып. 6.
15. Солдатова Г., Макарчук А. Может ли "другой" стать другом? Тренинг по профилактике ксенофобии. М., Генезис, 2006.
16. Солдатова Г. У., Макарчук А. В., Семенова И. А. Кросскультурный анализ формирования психологической альтернативы "Мы-Они" у детей разных возрастов // Мигранты из дальнего зарубежья: информационно-аналитический бюллетень. М., 2004. N 15.
17. Солдатова Г., Кричевец А., Филилеева Е. Мониторинг толерантности, социального доверия и ксенофобии. Бюллетень N 1. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2004.
18. Тенн У. Нулевой потенциал // Балдежный критерий. М.: ЭКСМО, 2003.
19. Ожегов С. И., Шведова С. И. Толковый словарь русского языка. М., 1997.
20. Финзен А. Психоз и стигма. М., 2001.
21. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1999.
22. Шютц А. Смысловая структура повседневного мира. М., 2003.
23. Шефер Б., Скарабис М., Шледер Б. Социально-психологическая модель восприятия чужого: идентичность, знание, амбивалентность // Психология. М.: ГУ ВШЭ, 2004. Т. 1.N 1.
24. Шмелев А. Г. Продуктивная конкуренция: опыт конструирования объединительной концепции. М., 1997.
25. Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. М., 2001.
26. Adorno T. W., Frenkel-Brunswik E., Levinson D. J., San-ford R. N. The Authoritarian Personality. N. Y.: Harper and Row, 1950.
27. Becker E. The denial of death. N. Y.: Free Press, 1973.
28. Becker E. Escape from the evil. N. Y.: Free Press, 1975.
29. Bobad E., Wollbott H. The effects of social factors on emotional reactions // Experiencing emotions: a cross-cultural study. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
30. Cashdan E. Ethnocentrism and Xenophobia: A cross-cultural study // Current Anthropology. December, 2001. V. 42. N 5. P. 760 - 765.
31. Goffman E. Stigma: Notes on the management of spoiled identity Englewood Cliffs. N.Y.: Prentice-Hall, 1963.
32. Jones E. E., Farina A., Hastorf A. N., Marcus H. et al. Social Stigma: The Psychology of marked relationship. N. Y.: W. N. Freeman, 1984.
33. Keen S. Faces of Enemy: Reflections of the Hostile Imagination. San-Francisko: Harper, 1948.
34. Levine R. A., Campbell D. T. Ethnocentrism: Theories of Conflict, Ethnic Attitudes and Group Behavior. N. Y.: Willey, 1972.
35. Rabbier J. M. The effects of intragroup cooperation and intergroup competition on in-group cohesion and out-group hostility // Coalitions and alliances in humans and other animals / Ed. by A. H. Harcourt, F. B. M. de Waal. Oxford: Oxford University Press, 1992. P. 175 - 205.
36. Sarwer-Foner G. J. On social paranoia: The psychotic fear of the stranger and that which is alien // Psychiatric Journal of the University of Ottawa. Mar. 1979. V. 4 (1). P. 21 - 34.
37. Stephan W. G., Stephan C. W. An Integrated Threat Theory of Prejudice // Reducing Prejudice and Discrimination / Ed. by S. Oskamp. Mahwah, N.J., L.: Lawrence Erlbaum Associates, 2000. P. 25 - 42.
38. Tajfel H. Social Stereotypes and Social Groups // Intergroup behavior. Oxford, 1982.
39. Yung C. G. The Fight with the Shadow // Civilization in Transition. The collected works. Bollingen Series XX. Princeton University Press, 1977. V. 10.
40. Van den Berghe P. L. Racism, ethnocentrism and xenophobia: In our genes or in our memes? // In-group/out-group behavior in modem societies: An evolutionary perspective / Ed. by K.Thienpont, R.Cliquet. Brussels: NIDI CBGS Publications, 1999.
стр. 16
![]()
PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF XENOPHOBIA
G. U. Soldatova Sc.D. (psychology), professor, deputy head of personality psychology chair, department of psychology, State University after M.V. Lomonosov, Moscow
The psychological analysis of xenophobia phenomenon is presented. Mechanisms of enemy's image and person's and group's xenophobic attitudes formation are reviewed. Xenophobia psychological functions, foreign-ness systems, peculiarities of xenophobic thinking formation are analyzed.
Key words: xenophobia, psychological alternative We-They, Own-Foreign, social identity, foreignness systems, stigma, conflict, productive competition, enemy's image, xenophobic thinking.
стр. 17
ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
Автор: А. В. КАРПОВ
А. В. КАРПОВ, доктор психологических наук, профессор, декан факультета психологииЯрославского государственного университета им. П. Г. Демидова,заслуженный работник высшей школы РФ
Коллеги, сотрудники, ученики, Институт психологии РАН и "Психологический журнал"поздравляют Анатолия Викторовича Карпова с юбилеем и желают ему здоровья, творческих успехов в научной и педагогической деятельности.
Обосновывается и реализуется новый полипроцессуальный подход к изучению рефлексии. Установлено существование специфических закономерностей структурной организации рефлексии, показана их ведущая роль в детерминации ее содержания и уровня развития. Представлены новые экспериментальные данные, позволяющие объяснить ряд особенностей и закономерностей организации рефлексивных процессов. Обнаружено, что общий уровень рефлексии принципиально не редуцируется к аддитивной совокупности входящих в ее состав отдельных метапроцессов, а детерминируется синергетическими эффектами их интеграции. В структуре рефлексии выявлены "общий" и "специфические" факторы, рассмотрено присущее рефлексии свойство парциальности.
Ключевые слова:рефлексия, метакогнитивные процессы, "вторичные" психические процессы, структура рефлексии, интеграция метапроцессов, дифференциация метапроцессов, уровень развития, полипроцессуальная организация, когнитивная рефлексия, регулятивная рефлексия.
Проблема рефлексии, являясь комплексной, междисциплинарной и, по существу, общенаучной, одновременно выступает как фундаментальная и традиционная психологическая проблема. Вместе с тем, многие ключевые ееаспекты остаются недостаточно изученными - это, на наш взгляд, следствие недостатка экспериментальных исследований в этой области, а также неопределенности представлений о процессуальном содержании рефлексии. Одним из них является трудность теоретической интерпретации высокойгетерогенностиее процессуальных форм (видов, типов, средств, модусов рефлексии). В связи с этим встает принципиальный вопрос: является ли рефлексия, несмотря на сложность и многоаспектность, все жеунитарнымпроцессом; или же термин "рефлексия" собирательный, и существует некотораясистемарефлексивных процессов, образующих специфический класс,уровеньв общей организации всей системы психических процессов.
Действительно, мера неоднородности рефлексивных процессов велика - от элементарного смутного "самоощущения" до предельно развернутых, утонченных форм самопознания. На наш взгляд, именно в этой чрезвычайной гетерогенности рефлексии как раз и заключается ключ к разгадке ее природы и решению проблемы ее процессуального статуса. В терминологическом аппарате психологии, а также в естественном языке сложился целый ряд понятий и выражений, фиксирующих различные процессуальные проявления рефлексии. Это, прежде всего, следующие: самоощущение, самовосприятие, аутопредставления, "самонаправленное" внимание, "память о памяти" - метапамять, "мышление о мышлении" - метамышление [9, 11,12, 13, 14]. Обратим внимание на то, что все эти процессы, согласно современной трактовке, относятся к категории метако-гнитивных, т.е. рефлексивных, процессов и в своей совокупности составляют ее важнейшую часть. Нетрудно увидеть, что в этих (а также и иных - более дифференцированных) понятиях зафиксированы не просто процессуальные проявления рефлексии, а ее разные уровни,соотносящиеся с различными видамиосновных когнитивных процессов.Отсюда следует достаточно значимый, на наш взгляд, вывод: рефлексия как процесс (точнее - как макропроцесс) построена по уровневому принципу; она воспроизводит в своем строении основные уровникогнитивной иерархиив целом. Каждый подуровень рефлексии полно, точно и непосредственно соотносится с тем или иным ее базовым уровнем.
Вместе с тем, важной закономерностью организации рефлексии является то, что среди всех процессов, входящих в ее состав (начиная от самоощущения и заканчивая метамышлением) в
стр. 18
![]()
принципенельзя выделить какой-либо "наиболее важный" и потому находящийся "на вершине" ее иерархии процесс. Для рефлексии как процессуального средства сознания (и для сознания в целом) самоощущение психикой самой себя не менее, а быть может, и более значимо, нежели, например, способность "помыслить о себе" (то есть - метамышление). Благодаря рефлексии достигается ощущениеполнотыи как быисчерпанностирепрезентации внутреннего мира во всем многообразии его проявлений, в том числе и процессуальных. Эта репрезентация предполагает одновременную опору на все когнитивные процессы, взятые в их "вторичной", метапроцессуальной форме обращенности на самих себя. В системе рефлексивных процессов ее уровни (отдельные процессы) оказываются равнозначными (или, по крайней мере, однопорядковыми), а полнота осознания себя предполагает опору на все эти уровни одновременно и в равной степени. Тем самым по отношению к собственно когнитивной рефлексии (как ее исходному модусу) более адекватен уже не иерархический, агетерархическийпринцип организации.
При анализе содержания и состава рефлексивных процессов необходимо учитывать еще одно важное обстоятельство. Наряду с собственно когнитивной рефлексией, не только возможна, но и объективно необходима дифференциация многих иных ее типов, классов, форм, модусов, что было показано представителями метакогнитивизма -одного из направлений современной когнитивной психологии, а также нами в разработанной ранее концепцииинтегральных процессовпсихической регуляции деятельности [2 - 5,11,13,15]. Они существенно отличаются от когнитивной рефлексии. Здесь следует отметить такие широко исследуемые в метакогнитивизме конструкты, как "метакогнитивная включенность в деятельность", понятие когнитивного мониторинга и уровней его обеспечения, понятия метапланирования и метарешений и многие другие, фиксирующие уже не собственно когнитивное измерение рефлексивности, а еерегулятивноеизмерение. Имеет место и дифференциация рефлексии на так называемуюауто-исоциорефлексию(М. Грант [15]). Очевидно, что первая синтезирует в себе когнитивную и регулятивную рефлексию, а вторая соотносится с обеспечением еще одной базовой подсистемы психики -коммуникативной.Традиционным является и выделение трех типов рефлексии похронологическомукритерию - ретроспективной, актуальной и перспективной, а также типов рефлексии на основе критерия принадлежности к определенному виду деятельности ("педагогическая рефлексия", "управленческая рефлексия" и пр.). Наконец, необходимо отметить и понятиеэмоциональнойрефлексии, связанное с исследованиями по проблеме эмоционального интеллекта.
Итак, проведенный анализ вскрывает необходимость существенного переосмысления самого понятия рефлексии как процесса. Рефлексия, на наш взгляд, не является унитарным процессом; в то же время, она не может быть сведена к ее традиционной трактовке - когнитивной рефлексии, хотя последняя образует основу, ядро всех рефлексивных феноменов. Рефлексия принципиально гетерогеннапо своему процессуальному содержанию и образует целое "семейство", точнее - систему, а еще точнее - уровень метапроцессов (метакогнитивных, метарегулятивных и иных) в общей организации психики. Последние же, на наш взгляд, могут и должны быть поняты как операционные средства реализации рефлексии. Поэтому она не может быть проинтерпретирована ни как унитарный процесс, ни какмонопараметрическое(и, следовательно, монометрическое) свойство. Включая в себя целую систему операционных средств, рефлексия предстает как определенная структура этих процессов. Логично допустить поэтому, что основные содержательные и динамические ее характеристики определяются не только (а, быть может, и не столько) ее компонентами, то есть метапроцессами по отдельности, сколько особенностями ихструктурной организации.
Современная ситуация требует перехода к новой парадигме исследования рефлексии - структурно-полипроцессуальной.Вместе с тем, недопустимо "растворение" в этой полипроцессуальности очевидной специфичности всех рефлексивных процессов (например, атрибута их самопрезентированности, непосредственной данности личности), а также их столь же реальной целостности. Будучи процессуально гетерогенной, рефлексия вместе с тем предстает как единство разнообразного, поскольку входящие в нее метапроцессы репрезентированы субъективно и организованы объективно (онтологически) именно как целостность, как система. И как таковая эта система должна, по-видимому, обладатьинвариантными закономерностямисвоей собственноструктурной организации,которые обусловливают не только ее специфичность, но и целостность. Это предположение требует экспериментальной верификации, чему и было посвящено наше исследование.
Проверка сформулированного предположения сопряжена с существенными сложностями, которые могут быть сведены к двум основным обстоятельствам. Во-первых, по сравнению с традиционно изучающимися психическими процессами и свойствами, категория метапроцессов (метакогнитивных, метарегулятивных и иных) в методическом и особенно в психодиагностическом
стр. 19
![]()
планах разработана несопоставимо слабее. В настоящее время лишь только начали появляться надежные, валидные и прошедшие необходимую исследовательскую апробацию психодиагностические методики такого плана. Во-вторых, существующие методики определяют не столько уровень развития метакогнитивных или метарегулятивных процессовнепосредственно, сколько уровень техкачеств,которые им релевантны. Вместе с тем, руководствуясь методологическим принципом единства результативного и процессуального аспектов исследования и положением о том, что любой психический процесс находит свое результативное выражение в соответствующем ему психическом свойстве, можно обоснованно допустить возможность изучения собственно процессуального аспекта через его результативные проявления, то есть опосредствованно - через диагностику релевантных ему свойств1.
МЕТОДИКА
Процедура исследованиясостояла из трех основных этапов. Напервомиз них определялась индивидуальная мера развития тех метапроцессов, по отношению к которым в настоящее время существуют методики такого рода. При этом мы старались охватить исследованием возможно больший круг метапроцессов - не только метакогнитивные, но и метарегулятивные. В этих целях была использована батарея психодиагностических и исследовательскихметодик(как авторские, так и разработанные в русле метакогнитивизма).
1. Методика Дж. Кагана [10] для диагностики когнитивного стиля"рефлективность-импульсивность", являющаяся наиболее известной в настоящее время и которая часто неправомерно трактуется в качестве методики диагностики рефлексивности как таковой [1].
2. Методика Р. Диксона-С. Халтча, направленная на диагностику уровня развития метапамяти (Metamemory in Adult -MIA) [9].
3. Авторская методика диагностики уровня развития метамышления,определяющая его посредством диагностики двух параметров - широты и разнообразия репертуара метамыслительных стратегий, разработанная совместно с В. В. Пономаревой и И. М. Скитяевой [5, 6].
4. Шкала ауторефлексииметодики М. Гранта [15].
5. Субшкалы методики, разработанной нами совместно с В. В. Пономаревой [5] для диагностики ретроспективной, актуальной и перспективной рефлексии.
Таким образом, перечисленные методики направлены, на определение ряда основных процессуальных проявлений собственно когнитивнойрефлексии.
6. Методика Д. Эверсон для диагностики уровня развития метапланирования(по [7]).
7. Методика Г. С. Никифорова, позволяющая диагностировать индивидуальную меру развития процессов самоконтроля[8].
8. Авторская методика диагностики "прогностического комплекса", то есть уровня развития процессов прогнозирования[2].
9. Методика диагностики метакогнитивной включенности в деятельность (Metacognitive Awareness Inventory- MAI) (no [7]).
10. Методика оценки эффективности метакогнитивного поведенияД. Ла Коста, направленная на диагностику уровня развития процессов контроля и метаконтроля за поведением (по [7]).
11. Разработанная нами методика диагностики способности к метарешениям[2].
Указанные методики диагносцируют не когнитивное, а собственно регулятивноеизмерение рефлексии - рефлексивно-регулятивные, то есть саморегулятивные процессы, входящие в ее состав.
12. Субшкала диагностики коммуникативной рефлексиииз разработанной нами совместно с В. В. Пономаревой методики [5].
13. Шкала социорефлексииметодики М. Гранта [15].
Две последние методики направлены на установление собственно коммуникативногоизмерения рефлексии.
14. Определялся также интегральный показатель общей мерыразвития рефлексивных процессов.
Как следует из сформулированного нами в первом разделе подхода, рефлексия в принципе не может быть понята и объяснена, раскрыта и продиагносцирована как монопроцесс(пусть и предельно сложный); она по своему содержанию являетсяполипроцессуальнымобразованием психики, синтезирующем в себе целую систему метапроцессов. Ни один из них, однако, не тождественен рефлексии в целом, хотя и репрезентирует ее в той или иной степени. Поэтому ни одна из существующих в настоящее время методик не может обеспечить реальную - многомерную диагностику уровня развития рефлексии. Каждая из нихпарциальнодиагностирует тот или иной "срез" процессуального содержания рефлексии. Достаточное приближение к ее диагностической экспликации может обеспечить лишьсинтезих дан-
![]()
1 Подобная ситуация является типичной для исследовательской практики: заключения о характере, мере развернутости и степени развитости того или иного компонента процессуального содержания психики делаются на основе диагностики релевантного ему качества.
стр. 20
![]()
ных2. Это означает, что общий - интегральный показатель уровня развития рефлексивных процессов должен быть представлен как функция от меры развития всех отмеченных выше метапроцессов и метакачеств. Кроме того, для обеспечения возможно большей диагностической базы, методика, разработанная нами совместно с В. В. Пономаревой [5], использовалась в целом, а не только пошкально для диагностики тех или иных проявлений рефлексии.
Далее "первичные" оценки по всем методикам нормировались и переводились в стеновые оценки; затем они суммировались для каждого испытуемого, что давало общую, интегральную оценку индивидуальной меры развития рефлексии. Подчеркнем, что такой полипроцессуальный и, следовательно, полиметрическийподход к диагностике уровня развития рефлексивности осуществлен в данном исследовании впервые.
Таким образом, в результате реализации всех указанных методик каждый испытуемый (п =330) получал характеристику в аспекте семи показателей когнитивной рефлексии, шести показателей регулятивной рефлексии, двух показателей коммуникативной рефлексии и одного интегрального показателя общего уровня развития рефлексии.
На второмэтапе результаты подвергалисьструктурному анализуметодом нахожденияматриц интеркорреляцийпроцессуальных компонентов рефлексии, а также последующего исследования полученных на их основекоррелограммпосредством специально разработанной нами системы структурных индексов (см. далее). При этом матрицы и, соответственно, коррелограммы определялись дифференцированно для разных групп испытуемых, характеризующихся значимо различающимся уровнем развития рефлексии. Эти группы выделялись на основе известного метода полярных (контрастных) групп (Д. Фланаган), согласно которому общая выборка "расслаивается" по тому или иному параметру (в нашем случае - по уровню развития рефлексии) на три группы - низко-, средне - и высокорефлексивных индивидов. Полученные в каждой группе матрицы сопоставлялись по гомогенности-гетерогенности, для чего использовался методx2.Тем самым была определена степень существенностиразличийвструктурной организациирефлексивных процессов у представителей трех групп, значимо отличающихся по интегральному уровню развития рефлексии.
На третьемэтапе для исследования закономерностей структурной организации рефлексивных процессов была реализована предложенная нами системаиндексов[2 - 4], на основе которых строились коррелограммы. Так, индекскогерентностиструктуры (ИКС) определялся как функцияположительныхзначимых связей в структуре, а также меры их значимости; индексдивергентности(дифференцированности) структуры (ИДС) - как функция числа и значимостиотрицательныхсвязей в структуре; индексорганизованностиструктуры (ИОС) как разница "весов" положительных и отрицательных связей. При этом учитывались связи, значимые на уровне α = 0.99 и α = 0.95; первым приписывался весовой коэффициент в 2 балла, вторым - 1 балл. Полученные по всей структуре "веса" связей суммировались, и это давало значения указанных индексов.
Таким образом, используемые методики и методические приемы создают адекватную основу для решения сформулированных выше задач. Они позволяют перейти с аналитическогоуровня изучения рефлексивных процессов на уровень ихструктурногоизучения, главным предметом которого является исследованиеорганизацииотдельных процессуальных составляющих рефлексии (то есть отдельных метапроцессов), а также тех эффектов и закономерностей, к которым приводит эта организация.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Главный вопрос, на который предстояло дать экспериментальный ответ, состоял в следующем. Является ли рефлексия закономерно организованным полипроцессуальным образованием и имеет ли свою собственную психологическую "архитектонику", то есть развернутую систему закономерных связеймежду отдельными процессуальными компонентами, или же выступает как аддитивная суперпозиция совокупности метапроцессов, как их агрегативное объединение? Если справедлив второй вариант ответа, то общий (интегральный) уровень развития рефлексии должен, в основном, определяться совокупностью аддитивных "вкладов" отдельных метапроцессов. Если же справедлив первый вариант, то в составе рефлексии именно структура связей метапроцессов должна быть отчетливо представлена и игратьведущуюроль в ее организации.
В результате обработки массива экспериментальных данных были выявлены следующие основные закономерности. Во-первых, несмотря на то, что в трех экспериментальных группах имели место определенные количественныеразличия в
![]()
2 Аналогичный - полипроцессуальный подход традиционно реализуется при диагностике другого важнейшего интегративного образования - интеллекта, поскольку его общий уровень определяется на основе "батареи" разнородных субтестов. И это вполне естественно, поскольку рефлексия по своей сложности и гетерогенности вполне сопоставима с интеллектом, а потому ее диагностика должна базироваться на сходных с ним принципах.
стр. 21
![]()

Рис.1. Коррелограмма метапроцессов в группе низкорефлексивных испытуемых.
Обозначения:ММ - метамышление, МП - метапамять, РФр - ретроспективная рефлексия, РФа - актуальная рефлексия, РФп - перспективная рефлексия, а-РФ - "ауто-рефлексия", РФкс - рефлексивность как когнитивный стиль, РФк - коммуникативная рефлексия, с-РФ - "социорефлексия", МПР - процессы метарешений, МК - метаконтроль, СК - самоконтроль, МПл - метапланирование, МПр - метапрогнозирование, MAI - метакогнитивная включенность в деятельность;
- - связи, значимые на уровне α = 0.99,
- - связи, значимые на уровне α = 0.95.
Сплошные линии отображают положительные связи, а пунктирные - отрицательные.

Рис.2. Коррелограмма метапроцессов в группе высокорефлексивных испытуемых. Обозначения те же, что и на рисунке 1.
уровне развития отдельныхметапроцессов, они совершенно несопоставимы скачественнымиразличиямиобщегоуровня развития рефлексии в этих группах (поскольку метод полярных групп дифференцирует общую выборку на статистически значимо различные гетерогенные группы по уровню выраженности какого-либо свойства, параметра). Иначе говоря, обнаружено отсутствие существенных и систематических различий в уровне развития отдельных метапроцессов в группах, дифференцированных по интегральному показателю развития рефлексии.
Во-вторых, не было выявлено систематических значимых корреляций уровня развития отдельных метапроцессов с интегральным показателем рефлексивности (в первой группе 4 из 15 возможных, во второй - 2, в третьей - 3). Это означает, что степень развития рефлексии в целом не может быть сведена к аддитивной совокупности вкладов отдельных метапроцессов. То есть общая детерминация уровня развития рефлексии не является по своей природе аналитической - агрегативной, суммативной.
В-третьих, во всех группах выявлена развернутая система значимых связей(как положительных, так и отрицательных) между метапроцессами, что указывает на существование и ведущую роль интегративных, организационных, то есть структурных механизмов и закономерностей в общей "архитектонике" процесса рефлексии (но мера их сравнительной выраженности различна в трех обследованных группах). Системы - паттерны такого рода значимых (и потому закономерных) связей представлены в форме коррелограмм уровней развития метапроцессов, в группах низко-и высокорефлексивных индивидов (рисунки 1 и 2).
Перечисленные результаты в своей совокупности свидетельствуют о том, что рефлексия как макропроцесс внутренне гетерогенна и полипроцессуальна по содержанию, что мера ее индивидуальной выраженности определяется не столько суммативными вкладами отдельных операционных средств, в качестве которых выступают метапроцессы, сколько именно их структурой.
Данный вывод подтверждается еще одним, ключевым для решения основных задач этого экспериментального цикла, результатом. Срав-
стр. 22
![]()
нение матриц интеркорреляции степени развития метапроцессов в трех исследованных группах показало, что они статистически достоверно разнородныпо критериюх2на α = 0.95. Это указывает накачественную гетерогенностьматриц и, соответственно, вскрывает достаточно глубокие качественные различия целостных структур метапроцессов в этих группах.
Тем самым обнаруживается новая структурная закономерность: изменение уровня рефлексивности сопровождается качественными перестройками всей структурывходящих в нее метапроцессов. Именно структурные (а не локальные, количественные) изменения в своей совокупности определяют различия в самом уровне рефлексивности, поскольку найденные структурограммы дифференцированы по критерию различий в индивидуальной мере общего развития рефлексивных процессов. Это вновь указывает на то, чтоструктурные эффектыи интегративные средства играют в рефлексивных процессах не просто значимую, но во многом определяющую роль. Рефлексивные процессы не могут быть сведены к аддитивной совокупности ряда метапроцессов (как когнитивных, так и метарегулятивных), и не могут быть исчерпаны их агрегативным содержанием. Реализующаяся в рефлексивых процессах интеграция всей совокупности метапроцессов, как любая иная интеграция (в силу объективно присущих ей генеративно-порождающих свойств), приводит к возникновению новых качественных особенностей и характеристик, что делает недопустимым редукцию интегративного целого (рефлексии) к сумме входящих в него компонентов (отдельных метапроцессов). Данный вывод подтверждают полученные нами ранее результаты, имеющие непосредственное отношение к анализируемой здесь проблеме [4]. Реализация метода многофакторного дисперсионного анализа по отношению к массиву данных, характеризующему уровни развития метапроцессов (как для выборки в целом, так и для отдельных подгрупп с разной степенью развития рефлексии), показала, что доля суммыавтономныхвкладов отдельных метапроцессов в детерминации общего уровня рефлексии составляет менее половины всей дисперсионной нагрузки (45.1%). При этом, на долю дисперсиивзаимодействияэтих процессов приходится 27.8%, что является не только статистически значимым, но и очень высоким показателем. Это прямое, непосредственное экспериментальное доказательство того, что макропроцесс рефлексии впринципене сводим к аддитивной совокупности входящих в него метапроцессов. Суть рефлексии в том и состоит, что в ней имеют место значимые и очень существенные эффекты взаимодействия этих процессов - их интеграция и дифференциация, организация и структурирование, в результате чего формируется специфическое для нееновое процессуальное содержание.
Поскольку именно интегративные- "организационные", структурные закономерности и эффекты являются определяющими для общей "архитектоники" рефлексии как макропроцесса, необходимо специально исследоватьсравнительную степеньвыраженности этих эффектов в зависимости от меры общего развития данного процесса. Эта задача решалась на втором этапе общего цикла экспериментальных исследований. Сравнительному анализу и интерпретации подвергались основные индексы, характеризующие меру организованности структуры метапроцессов на разных уровнях развития рефлексии. В этих целях был использован модифицированный вариант метода полярных групп. Модификация заключалась в том, что общая выборка разбивалась не на три, а начетыреподгруппы - в зависимости от уровня развития рефлексии. Тем самым обеспечивалась большая чувствительность данного метода, его большая разрешающая способность. Для каждой из этих четырех подгрупп были определены значения индексов когерентности, дивергентности и организованности структур метакогнитивных и метарегулятивных процессов. В результате оказалось возможным определить зависимость изменения этих индексов от общего уровня развития рефлексии (см. рисунок 3).
Анализ данных позволил сделать следующие заключения. Во-первых, при увеличении рефлек-

Рис. 3.Динамика индексов когерентности и дивергентности структур метапроцессов в зависимости от уровня развития рефлексии.
Обозначения:ИКС - индекс когерентности структур; ИДС - индекс дивергентности структур; N гр. - номера экспериментальных групп, различающихся по уровню развития рефлексии (от низшего к высшему).
стр. 23
![]()

Рис. 4.Динамика индекса организованности структуры (ИОС) метапроцессов в зависимости от уровня развития рефлексии.
Обозначения:ИОС - индекс организованности структуры; N гр. - номера экспериментальных групп, различающихся по уровню развития рефлексии (от низшего к высшему).
сивности возрастаеткак степень интегрированности, так и степень дифференцированности структур метапроцессов, что выступает проявлением общей - организационной - функции рефлексии по отношению к входящим в ее состав метапроцессам.
Во-вторых, темпы динамикииндексов когерентности и дивергентностисущественно различнына общем континууме рефлексивности. Так, индекс когерентности, быстро возрастая в начале этого континуума, затем существенно замедляет темпы своего роста. Индекс дивергентности, наоборот, характеризуется медленными изменениями на значительном интервале континуума рефлексивности, но дает заметный скачок при высоком ее значении.
В-третьих, динамика максимально обобщенного структурного индекса - индекса организованностиструктуры (вычисляемого путем определения разницы величин индексов когерентности и дивергентности), в зависимости от уровня рефлексивности, также является закономерной и показательной. Как можно видеть из данных, представленных на рисунке 4, при широком диапазоне различий в мере рефлексивности, общая степень организованности метапроцессов остается относительно постоянной (резистентной) по отношению к различиям в самой рефлексивности. Причиной данной закономерности является то, что темпы роста и когерентности и дивергентности структуры метапроцессов приблизительно одинаковы на срединных значениях общего континуума рефлексивности. И, наоборот, на начальном и завершающем его интервале они существенно различаются: на первом преобладает доминирование интегративной тенденции, а на втором - дифференцирующей тенденции.
Сопоставление результатов, представленных на рисунках 3 и 4, позволяет сделать ряд дополнительных заключений и обобщений. Так, общая конфигурация кривых на рисунке 3 весьма напоминает параллелограмм, что отражает не просто различную, а "симметрично различную" динамику степени интегрированности и дифференцированности структур метапроцессов на общем континууме рефлексивности. Далее, можно видеть, что представленная на рисунке 4 зависимость близка к так называемым зависимостям с плоским оптимумом(термин Г. Саймона). Их смысл состоит в том, что значения функции (в данном случае - индекса организованности) являются наибольшими и мало изменяющимися на достаточно большом интервале значений аргумента (в данном случае - уровня развития рефлексии). Функция при этом устойчива (резистентна) к изменениям аргумента; общая организованность системы метапроцессов инвариантна при существенных вариациях уровня развития рефлексии. И лишь при низких и высоких ее значениях индекс организованности существенно снижается.
Таким образом, и "рефлексивный параллелограмм", и зависимость типа плоского оптимума фиксируют в итоге важную, на наш взгляд, обобщенную закономерность. При увеличении рефлексивности возрастает и интегрированность и дифференцированность метапроцессов в ее структуре. Однако их сравнительная динамика различна, а при высоких и очень высоких значениях рефлексивности явно доминирует дифференцирующая тенденция.
Анализ зависимости, представленной на рисунке 4, позволил установить, что величина индекса организованности структуры приобретает максимальноезначение на том уровне развития рефлексии, который присущ третьей экспериментальной группе. Она включает лиц с уровнем развития рефлексии, хотя и выше среднего, но не максимального. При интерпретации данного результата следует учитывать то, что именно этот индекс является наиболее общим и надежным индикатором степени совершенства систем, степени их общей структурированности и меры их функциональных возможностей [2, 3]. Отсюда следует, что общая структура метапроцесов, образующая содержание рефлексии, является наиболее совершенной именно на том уровне ее развития, который можно охарактеризовать как уровень выше среднего (но не максимальный и не мини-
стр. 24
![]()
мальный). Последнее достигается за счет достаточно высокой интегрированности структуры метапроцессов в сочетании с их умеренной дифференцированностью, что в итоге дает высокие значения индекса организованности. Напротив, в первой и второй группах степень интегрированности метапроцессов существенно ниже, что обусловливает их еще недостаточную организованность. В четвертой группе - с максимальными значениями рефлексивности - высокая интегрированность сочетается с практически столь же высокой дивергентностью, что в итоге обусловливает уже недостаточную организованность (т.е. произошедшую здесь дезорганизациюструктуры под влиянием мощной дивергентной (разобщающей) тенденции). Этот же результат можно сформулировать и несколько иначе. Общая организованность всей структуры метапроцессов в составе рефлексии максимальна при некотором, хотя и достаточно высоком, но не максимальном, уровне ее развития. Общий уровень рефлексивности и степень ее структурной организованности связаны, следовательно, не отношениеммаксимума,а отношениемоптимума.Низкая рефлексивность, равно как, впрочем, и слишком высокая рефлексивность, характеризуется меньшей организованностью, меньшим "совершенством" структуры метапроцессов, являющихся ее операционными средствами.
Данный результат позволяет по-новому объяснить ряд общих вопросов и установленных ранее закономерностей. Прежде всего, речь идет о выявленных нами общих закономерностях, связывающих уровень развития рефлексивности с результативнымипараметрами и стилевыми, стратегиальными (т.е.процессуальными)характеристиками деятельности. Так, было установлено, что результативные параметры деятельности (в частности, управленческого типа) связаны с уровнем рефлексивности именно отношением оптимума: эффективность деятельности максимальна на некотором, хотя и достаточно высоком, но не предельном его значении [5,6]. Аналогично этому, мера разнообразия, широта репертуара стилевых и стратегиальных средств деятельности, а также их динамичность и лабильность при изменении условий ее реализации также максимальны именно на данном уровне рефлексивности [3].
Сопоставление этих закономерностей с рассмотренной зависимостью делает их совершенно понятными, объяснимыми и даже необходимыми, естественными. Действительно, и результативные, и процессуальные характеристики деятельности достигают своего максимума именно тогда, когда структурированность и организованность рефлексии как одна из важнейших ее детерминант является наибольшей, то есть на уровне выше среднего, но не минимальном и не максимальном. Отсюда следует, что наиболее важной, хотя и достаточно имплицитной "рефлексивной детерминантой" результативных и процессуальных характеристик деятельности является не общий уровеньее развития непосредственно, а мера организованности и структурированности данного свойства - структурированности метапроцессов, которая его обеспечивает (и которая в значительной мере определяет общий уровень развития рефлексии по типу оптимума). Тем самым полученная закономерность может (и, на наш взгляд, должна) рассматриваться как конкретный механизм, объясняющий установленные ранее общие закономерности, связывающие результативные и процессуальные характеристики деятельности с уровнем развития рефлексии. Относительно низкий уровень развития рефлексии, не обеспечивающий должной интегрированности и, следовательно, организованности метапроцессов как ее операционных средств, является непродуктивным в плане обеспечения результативных и процессуальных параметров деятельности. Однако и очень высокий уровень рефлексии также начинает оказыватьконтрпродуктивноевлияние на последние, но уже не за счет низкой интегрированности, а за счет высокой дивергентности, разобщенности и, следовательно, недостаточной общей организованности структуры метапроцессов.
Таким образом, общая организованность и структурированность рефлексии как макропроцесса, а также ее влияние на итоговые и содержательные (стратегиальные) характеристики деятельности максимальны на оптимальном уровне ее развития. Он характеризуется сочетаниемвысокой интегрированности метапроцессов с достаточной (но не максимальной) степенью их дифференцированности. Когда последняя становится высоко выраженной, снижается и общая организованность, структурированность рефлексии. Вместе с тем, оптимальный уровень рефлексии локализован не строго в середине ее общего континуума, а соотносится с ее значениями выше среднего. Поэтому можно говорить о своеобразномэффекте правого смещения -смещения оптимума организованности в сторону высоких значений рефлексивности. Напомним, что аналогичный по смыслу, но противоположный по направленности эффект установлен в исследованиях интеллекта: его распределение по общей выборке также характеризуется смещением, но не вправо, а влево - относительно большая часть испытуемых характеризуется, как правило, интеллектом, несколько ниже среднего психометрического уровня.
По нашему мнению эффект правого смещения имеет объяснимый общеадаптационный смысл. Наиболее сильное, продуктивное влияние рефлексии на деятельность, а также наибольшая организованность и интегрированность данного процесса имеют место на том его уровне, который сочетает достаточно высокую степень инте-
стр. 25
![]()
грированностивходящих в него операционных средств с их относительной самостоятельностью, с сохранением ихавтономногопозитивного влияния на организацию деятельности. То есть, эффективность рефлексии как детерминанты деятельности и мера ее общей организованности наиболее высоки при наличии высокого уровня общего развития и позитивной роли одного из свойств интегральных психических образований - ихпарциальности3.На этих значениях эффективно функционируют и рефлексия в целом, и ее отдельные составляющие одновременно, что обеспечивает ее высокий общий потенциал.
Охарактеризованная выше закономерность получает свое дополнительное подтверждение и углубление при обработке экспериментальных результатов посредством метода факторного анализа. Для каждой из четырех экспериментальных групп в отдельности была произведена факторизация матриц интеркорреляций исследуемых метапроцессов, образующих операциональный состав рефлексии (использовался косоугольный метод факторизации). Результаты факторизации показали, что в первых трех группах отчетливо дифференцируется одинбазовый, основной фактор, объединяющий в себе большинство первичных факторизируемых метапроцесов. В первой группе в него со значимыми весами вошли 7 из 15 метапроцессов, во второй - 10, в третьей -12 метапроцессов. Вместе с тем, степень его выраженности наиболее высока именно в третьей группе - факторный вес от общей суммы весов всех факторов составляет 49.3%, в первой группе -27.8%; во второй - 38.6%. В третьей группе достаточно выражена также парциальность отдельных метапроцессов, их автономность, что проявляется в достаточно высоких значениях индекса дивергентности. В четвертой группе (с максимальным уровнем развития рефлексии) рельефно дифференцируютсядваосновных фактора, один из которых объединяет в себе преимущественно метакогнитивные процессы, а второй - метарегулятивные процессы (металланирование, самоконтроль, "метакогнитивную включенность в деятельность"). При этом их факторные веса близки по величине: первый составляет 32.8%, а второй - 27.8% от суммы весов всех факторов.
Таким образом, на основе синтеза результатов можно высказать экспериментально обоснованное предположение, согласно которому в общей структуре рефлексии как макропроцесса (и рефлексивности как способности) необходимо дифференцировать общий факторрефлексивности, с одной стороны, и частные,специальныефакторы, связанные с уровнем развития отдельных метапроцессов или их сочетаний (например, факторы метакогнитивного и метарегурятивного планов). Преобладающий до сих пор монопроцессуальный подход к исследованию рефлексии и трактовка рефлексивности как монометрического свойства мешают распознать и зафиксировать важнейший, по нашему мнению, факт, что она, подобно интеллекту, имеет иерархическую структуру и включает в себяобщий факторрефлексивности (своеобразный аналогG-фактора интеллекта) и системуспецифических факторов(аналоговS-факторов интеллекта).
Наличие и относительная самостоятельность последних позволяет считать также, что рефлексивность обладает и свойством парциальности. Наиболее продуктивным и эффективным является тот уровень развития рефлексивности (в нашем исследовании характеризующий третью группу), на котором оптимальным образом сочетается высокая функциональная роль общего фактора с сохранением роли специфических факторов. И, наоборот, на низком уровне рефлексивности общий фактор еще не выражен в полной мере, а на очень высоком ее значении - уже не выражен в этой мере, поскольку здесь начинает доминировать дифференцирующая, дезорганизующая тенденция.
Данный вывод допускает и более обобщенную формулировку: функциональная роль какого-либо процесса (например, рефлексии) в обеспечении того или иного результата (например, результативных параметров деятельности) максимальна тогда, когда он реализует ее одновременнои как системав целом- с присущими ей интегративными, синергетическими эффектами, и черезотдельные компонентысистемы, через их автономное влияние. В этом плане становится более понятной парциальность как таковая - как свойство, присущее многим интегральным психическим образованиям - и ее общеадаптационный смысл. Наличие парциальности обеспечивает не только функционирование этих образований как целостностей, но и сохранение автономных влияний отдельных компонентов этой целостности на тот или иной внешний результат. Соотношение степени выраженности интегральной и парциальной детерминации может быть существенно разным: по отношению к рефлексии оно оптимально на тех ее уровнях, которые располагаются выше среднего (что проявляется в эффекте правого смещения).
Итак, представленные результаты вскрывают достаточно сложную картину структурной организации рефлексии, наличие вполне определенной системы закономерностей этой организации,
![]()
3 Достаточно показательным проявлением данного свойства, обнаруженным в результате данного цикла экспериментов, выступает, в частности, отсутствие значимых положительных корреляционных связей между уровнем развития когнитивной и регулятивной рефлексии, а также наличие значимой отрицательной связи между уровнем развития ауто- и социорефлексии (по М. Гранту).
стр. 26
![]()
а в целом - раскрывают ее не как монопроцесс, а как интегральное, полипроцессуальное образование, как единстворазнообразного.
ВЫВОДЫ
1. В настоящее время сложились предпосылки, не только позволяющие, но и требующие преобразования общей парадигмы разработки проблемы рефлексии в психологии. Монопроцессуальная трактовка рефлексии - ее интерпретация как и сложнейшего, но все же унитарного процесса - должна быть преобразована в полипроцессуальный подход к ее изучению. С этих позиций рефлексия раскрывается как закономерно организованная и внутренне гетерогенная система многих процессов, обозначаемых в метакогнитивизме понятием "вторичных процессов". Они, равно как и метарегулятивные процессы, являются операционными средствами реализации макропроцесса рефлексии.
2. Все эмпирически зафиксированные виды и типы, классы и проявления рефлексии, а также установленные сегодня метапроцессы и соответствующие им метакачества раскрываются в рамках полипроцессуальной парадигмы уже не только как феноменологические проявления этого свойства, а как процессуальные компоненты единого по своей качественной определенности, но внутренне гетерогенного процесса.
3. Существует инвариантная система закономерностей структурной организации метапроцессов в составе рефлексии. Они играют важную и определяющую роль в детерминации содержательных характеристик рефлексии и уровня ее общего развития. Повышение этого уровня не может быть сведено к изменениям меры развития отдельных метапроцессов, а также их аддитивной совокупности; оно в большей мере определяется интегративными, синергетическими эффектами, возникающими в результате соорганизации метапроцессов в составе рефлексии. За фиксируемыми психометрически различиями меры развития рефлексии стоят перестройки ее общей структуры.
4. Ведущими факторами структурной организации рефлексии являются механизмы интегративного и дифференцирующего типов. При этом их сравнительная выраженность и функциональная роль на общем континууме рефлексии существенно различна, а оптимальное сочетание позволяет дать непротиворечивое объяснение полученным ранее многочисленным данным. Согласно этим данным, практически все результативные параметры и процессуальные характеристики деятельности являются максимальными при средних (точнее - несколько выше средних) значениях уровня развития рефлексии.
5. Важной закономерностью структурной организации рефлексивных процессов является наличие в ее составе общего и специфических факторов. Степень оптимальности их сочетания максимальна также не на предельных (минимальном и максимальном) значениях рефлексии, а на определенном ее уровне (выше среднего).
6. Рефлексиия обладает свойством парциальности. Оно заключается в том, что отдельные метапроцессы (и их комплексы), входящие в состав рефлексии, могут иметь разную меру индивидуальной выраженности и не обнаруживать значимых корреляций, как между собой, так и с интегральным показателем рефлексивности.
7. Ведущим принципом организации собственно когнитивной рефлексии является структурноуровневый принцип, а сама когнитивная рефлексия является гетерархией метакогнитивных процессов. Точно так же регулятивная рефлексия может и должна быть проинтерпретирована как гетерархия метарегулятивных процессов.
8. Рефлексия раскрывается как единстворазнородного, то есть как определенная, структурированная, организованная и потому целостная процессуальная система. Она не сводима к аддитивной совокупности, к агрегативной сумме составляющих ее компонентов, так как здесь имеют место генеративные, синергетические, продуктивные эффекты.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Азаров Н. Н.Стиль действования: рефлексивность-импульсивность // Вопросы психологии. 1982. N 3.
2. Карпов А. В.Психология принятия управленческих решений. М.: Юристъ, 1998.
3. Карпов А. В.Психология рефлексивных механизмов деятельности. М.: Институт психологии РАН, 2004.
4. Карпов А. В.Метасистемная организация уровневых структур психики. М.: Институт психологии РАН, 2004.
5. Карпов А. В., Пономарева В. В.Психология рефлексивных механизмов управления. М.: Институт психологии РАН, 2000.
6. Карпов А. В., Скитяева И. М.Психология рефлексии. М.: Институт психологии РАН, 2002.
7. Карпов А. В., Скитяева И. М.Психология метакогнитивных процессов личности. М.: Институт психологии РАН, 2005.
8. Никифоров Г. С.Самоконтроль человека. Л.: ЛГУ, 1988.157 с.
9. Dixon R. A. Structure and development of metamemory in adulthad // Journ. of Gerontology. 1983. V. 38. P. 682 - 688.
стр. 27
![]()
10. Kagan J. Reflection-impulsivity: The generality and dynamics of conceptual tempo // Journ. of Abnorm. Psychology, 1966. V. 71. P. 17 - 24.
11. Metacognition: Cognitive and Social Dimensions / Ed. by V. Yzerbyt et al. SAGE Publications, 2002.
12. Metacognition: Core Readings / Ed. Т. О. Nelson. Boston: Allyn and Bacon, 1992.
13. Metacognition: Knowing about Knowing / Eds. J. Metcalfe, A.P. Shimamura. Cambridge, MA: MIT Press, 1994.
14. Wellman H. M. Metamemory revised // Contributions to human development. 1983. V. 9. P. 31 - 51.
15. URL: http://www.essex.univ.psy.com.
ORGANIZATION'S REGULARITIES OF REFLEXIVE PROCESSES STRUCTURE
A. V. Karpov ScD. (psychology), professor, psychology department dean, Yaroslavl State university after P.G. Demidov, Higher School ofRF honored worker
New polyprocessual approach to reflexion study is based and realized. From its stand reflexion is considered as polyprocessual formation essence and specificity of which are determined by the organization of metacognitive and metaregulative processes' system. The existence of specific structural regularities of reflexion organization is established; their leading role in determination of its essence and development level is shown. New experimental data which permit to explain some peculiarities and regularities of reflexive processes organization are presented. It is shown that overall reflexion level in principle can't be reduced to additive totality of belonging to it separate metaprocesses, but is determined by synergetic effects of its integration. "Common" and "specific" factors were revealed in reflexion structure; peculiar to reflexion partial property was examined.
Key words:reflexion, metacognitive processes, secondary psychic processes, reflexion structure, integration and differentiation of metaprocesses, development level, polyprocessual organization, cognitive and regulatory reflexion.
стр. 28
ПОЛЕЗАВИСИМОСТЬ/ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТЬ И МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ
Автор: Е. Г. УДАЧИНА, С. В. КВАСОВЕЦ
Е. Г. УДАЧИНА,кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории психологии посттравматического стресса, Институт психологии РАН, Москва
С. В. КВАСОВЕЦ, кандидат психологических наук, зав. лабораторией психофизиологических исследований Государственного межотраслевого научно-технологического центра "Наука" Министерства образования и науки РФ, Москва
Исследовалась связь полезависимости-поленезависимости с функциональной асимметрией полушарий. Использовались модифицированная компьютерная методика "Стержень и рамка" и методика "Включенные фигуры". Показано, что в случае перцептивной задачи по установлению вертикали полезависимость определяется, как минимум, тремя факторами. Во-первых, это предпочтение левого поля зрения, связанное со снижением активации левого полушария. Во-вторых, положение элементов фона в левом или правом поле зрения; полезависимость при этом коррелирует с активацией контралатерального полушария. В-третьих, это фактор контроля и коррекции деятельности, связанный с активацией левого полушария. Результаты методики "Включенные фигуры" коррелировали только с доминированием левого полушария. Корреляций между двумя методами оценки полезависимости не обнаружено, что свидетельствует о существенном различии механизмов, участвующих в выполнении этих заданий.
Ключевые слова: полезависимость-поленезависимость, асимметрия полушарий, нейропсихология.
В современной психологии индивидуально-своеобразные способы переработки информации человеком анализируются с точки зрения когнитивных стилей [4]. Когнитивный стиль "полезависимость-поленезависимость" (ПЗ/ПНЗ) привлекает большое внимание исследователей, поскольку он, с одной стороны, проявляется во многих психических процессах, а с другой - соответствует фундаментальным концепциям ряда нейрофизиологических и нейропсихологических направлений, что вызывало особый интерес к изучению связей между ПЗ/ПНЗ и мозговой организацией [13].
Основополагающей в большинстве исследований является дифференциальная теория [14], рассматривающая поленезависимость как дифференциацию субъекта от окружения в связи с увеличением полушарной специализации (латерализации) как дифференциации мозгового субстрата. В рамках этой парадигмы выполнено большое количество работ (см. обзор [13]). Вместе с тем вопрос о связи левого и правого полушарий с ПЗ/ПНЗ до настоящего времени недостаточно изучен.
Ряд исследований проведен в контексте изучения "полушарности" (hemisphericity), понимаемой как индивидуальная тенденция к преимущественному использованию процессов, ассоциируемых с одним или другим полушарием мозга. В работе [7], посвященной изучению связи ПЗ/ПНЗ с латеральными движениями глаз, показано, что латеральные движения глаз являются индикатором полушарной активации. В исследованиях, основанных на использовании этого показателя [10, 12], для оценки ПЗ/ПНЗ применялась методика "Включенные фигуры". Вопреки ожиданиям связанных с "полушарностью" различий в когнитивном стиле обнаружено не было. В то же время в работе [11] установлено, что левосторонние движения глаз (отражающие правополушарное доминирование) связаны с большей полезависимостью.
В других исследованиях использовались иные показатели активности полушарий. Регистрировалась электроэнцефалограмма (ЭЭГ) у полезависимых и поленезависимых испытуемых, сгруппированных на основе результатов, полученных по методикам "Включенные фигуры" и "Стержень и рамка" (Semple et al., 1979; цит. по [13]). Сравнивались ЭЭГ левого и правого полушарий как в покое, так и при выполнении простых заданий. Поленезависимые продемонстрировали большую активацию правого полушария, чем полезависимые, при всех условиях регистрации. В работе [8], в которой использовался опросник на предпочтение действий, связанных с различными полушариями, испытуемые, имевшие правополушарное доминирование, лучше выполняли тест
стр. 29
![]()
"Включенные фигуры". Сравнивались результаты выполнения методики "Стержень и рамка" у пациентов с психическими расстройствами до и после унилатеральной электросудорожной стимуляции (см. [9]). Показано, что при воздействии на левое полушарие полезависимость увеличивалась, а при воздействии на правое - уменьшалась. Таким образом, в этой работе поленезависимость связывается с левым полушарием, а выключение правого полушария, по мнению авторов, ведет к уменьшению влияния перцептивного контекста. В работе [15] показано, что большая зависимость от поля наблюдается у леворуких испытуемых. Анализировалась связь отдельных признаков моторных и сенсорных асимметрий с успешностью выполнения методики "Включенные фигуры" (см. [5]). Установлено, что правостороннее (левополушарное) доминирование, главным образом по мануальным признакам, положительно коррелирует с высокими показателями успешности выполнения методики "Включенные фигуры". Таким образом, имеющиеся данные относительно связи левого и правого полушарий с показателями когнитивного стиля ПЗ/ПНЗ весьма противоречивы.
Широкое распространение получили два метода исследования ПЗ/ПНЗ: "Включенные фигуры" (Embedded Figures Test) и "Стержень и рамка" (Rod and Frame Test) [16, 17]. Предполагается, что эти методики сходным образом оценивают полезависимость-поленезависимость. Однако, согласно ряду данных, они далеко не всегда коррелируют между собой, что объясняется различием психологических механизмов, задействованных при решении этих задач [4]. При выполнении методики "Включенные фигуры" полезависимость определяется по суммарному количеству решенных задач. Стратегии их решения не учитываются. При выполнении методики "Стержень и рамка" (при установке стержня в вертикальное положение в условиях его предъявления на фоне наклонной рамки) обычно учитывается величина отклонения от вертикали. Однако каждая проба (установка стержня в вертикальное положение) представляет собой перцептивную задачу, в которой, как мы предполагаем, определенную роль играют собственно полезависимость, т.е. влияние фона (наклонной рамки), неравнозначность полей зрения, а также компенсаторные механизмы, связанные с контролем и регуляцией деятельности.
Для того чтобы учесть эти факторы, нами была разработана модифицированная методика "Стержень и рамка", реализованная в компьютерном варианте и позволяющая более подробно проанализировать роль различных механизмов в данной методике оценки ПЗ/ПНЗ.
Цель настоящей работы - изучение связи полезависимости-поленезависимости с функциональной асимметрией полушарий.
Гипотеза состояла в том, что различные характеристики ПЗ/ПНЗ связаны с разными аспектами функциональной асимметрии и взаимодействия полушарий мозга.
Задачи исследования:
разработать модификацию методики "Стержень и рамка", позволяющую учитывать роль функциональной асимметрии полушарий в оценке стиля ПЗ/ПНЗ;
изучить различные факторы, влияющие на оценку ПЗ/ПНЗ (предпочтение поля зрения, латеральность предъявления фона, стратегия выполнения задания);
проанализировать связи этих факторов с нейропсихологическими показателями функциональной асимметрии полушарий;
сравнить результаты модифицированной методики "Стержень и рамка" и методики "Включенные фигуры" в контексте функциональной асимметрии полушарий.
МЕТОДИКА
Участники исследования. Обследованы 52 чел., 24 женщины и 28 мужчин - студенты московских вузов в возрасте от 19 до 28 лет, средний возраст 23.5 года.
Использовались две группы методов: нейропсихологические методы оценки межполушарной асимметрии; компьютерная методика, являющаяся модифицированным вариантом методики Виткина "Стержень и рамка", а также методика "Включенные фигуры" (групповой вариант).
Нейропсихологические методы. Для анализа особенностей профиля латеральной организации мозга использовался набор методов, описанных Е. Д. Хомской и соавт. [5]. Перечислим эти методы с сокращенными обозначениями, используемыми далее в таблицах.
Оценка мануальной асимметрии: самооценка обследуемых с помощью опросника Аннет (ANN). Моторные пробы, при которых определяется ведущая рука: "переплетение пальцев кистей" (ZAM); "скрещивание рук, или поза Наполеона" (NAP); "тест на аплодирование" (APL).
Теппинг-тест - оценка темпа движений. Анализировался темп нажатий за 30 с отдельно для правой и левой руки (TPR и TPL). Кроме того, вычислялся коэффициент асимметрии для темпа нажатий по формуле "разность правосторонних и левосторонних показателей, деленная на их сумму" (ТА). Вычислялся коэффициент утомления - отношение числа нажатий за последние 25 с к числу нажатий за первые 5 с (TRU и TLU). Коэф-
стр. 30
![]()

Стимульные конфигурации, использовавшиеся в модифицированной методике "Стержень и рамка". Без скобок - номера ситуаций с начальным положением стержня 45° (сплошная линия). В скобках - номера ситуаций с начальным положением стержня - 45° (пунктирная линия).
фициент утомления отражает величину уменьшения скорости теппинга по сравнению с начальным темпом и, таким образом, снижение активации контралатерального полушария.
Для определения латерализации слухоречевых функций использовался метод дихотического прослушивания с определением "коэффициента правого уха" (DIH).
Для установления ведущего глаза применялись пробы: Розенбаха (ROZ), "Карта с дырой" (KRT).
Модифицированный вариант методики "Стержень и рамка" был реализован в компьютерном виде и позволял анализировать как точность воспроизведения эталона - вертикали - в отсутствие рамки, так и влияние фона - наклонной рамки, которая могла предъявляться целиком и в виде фрагментов, расположенных в левом и правом полях зрения. При создании методики учитывалась необходимость отсутствия каких-либо визуальных ориентиров вертикали и горизонтали. Во-первых, использовались программные средства (антиалиайзинг), исключающие искажения графических изображений стержня и рамки вследствие ограничений, накладываемых дискретным представлением зрительной информации на мониторе. Во-вторых, вертикальные и горизонтальные элементы монитора маскировались (перед дисплеем располагался черный круг с отверстием, внешний диаметр которого равен размеру монитора по диагонали; диаметр отверстия равен высоте рабочей части дисплея). В-третьих, обследование проводилось в полностью затемненном помещении.
Для решения поставленных задач использовались изображения стержня без рамки, стержня с рамкой, а также стержня и элементов рамки, предъявляемых раздельно в левое и правое полуполя зрения (см. рисунок).
Как следует из рисунка, всего предъявлялось 14 ситуаций, различающихся по исходному положению стержня (45° или -45°), направлению наклона рамки, положению фрагментов рамки. Угол наклона рамки равнялся 28° или -28°. Все ситуации были рандомизированы по порядку использования и предъявлялись многократно для повышения надежности получаемых результатов. Количество предъявлений в случае ситуаций 1(8), 2(9) и 3(10) равнялось 10, остальные ситуации предъявлялись по 5 раз. Шаг перемещения (поворота) стержня составлял 1°. Для анализа величины собственно полезависимости из значений наклона стержня в условиях предъявления рамки (или ее фрагментов) вычитались средние значения наклона стержня, полученные в ситуациях, когда стержень предъявлялся без рамки. Отметим, что в отсутствие рамки при установлении стержня в вертикальное положение в случае движения его справа налево, т.е. при начальном положении 45° (см. рисунок, ситуация 1), результаты существенно отличались от тех, которые получались при движении стержня слева направо (см. рисунок, ситуация 8). Поэтому при формировании показателей, характеризующих собственно полезависимость, из значений наклона стержня в условиях предъявления фона вычитались значения, полученные в отсутствие фона именно для этого исходного положения стержня. Анализировались также обобщенные показатели, например, величина полезависимости независимо от направления наклона рамки. В этих случаях при отрицательном угле наклона рамки величина полезависимости учитывалась с обратным знаком. Другими словами, положительные значения полезависимости всегда, независимо от угла наклона рамки, соответствовали тому, что результирующая позиция стержня имела больший наклон в ту же сторону, в которую наклонена рамка, чем в условиях предъявления его без рамки.
Данные, полученные в ситуациях, соответствующих оригинальной методике (см. рисунок, ситуации 2, 3,9 и 10), дополнительно обрабатывались традиционным образом, т.е. в качестве показателя бралась абсолютная величина отклонения стержня от истинной вертикали. В дальнейшем эти данные обозначаются в тексте как показатели методики "Стержень и рамка", в отличие от показателей модифицированного варианта.
При обработке использовались непараметрические критерии Вилкоксона, Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Обработка производилась с помощью статистического пакета Statistica 5.0
стр. 31
![]()
Таблица 1. Средние значения (M) и средние квадратичные отклонения (SD) показателей методик "Включенные фигуры", "Стержень и рамка" и модифицированной методики "Стержень и рамка"
|
|
Показатель |
M |
SD |
|
"Включенные фигуры" и "Стержень и рамка" | |||
|
1 |
Включенные фигуры |
14.56 |
2.93 |
|
2 |
Стержень и рамка |
1.75 |
.75 |
|
Стержень в отсутствие рамки | |||
|
3 |
Независимо от исходного положения |
-.53 |
1.11 |
|
4 |
Исходное положение - наклон вправо (45°) |
-.77 |
1.19 |
|
5 |
Исходное положение - наклон влево (-45°) |
-.28 |
1.15 |
|
Стержень на фоне рамки | |||
|
6 |
Независимо от наклона рамки |
.48 |
.88 |
|
7 |
Рамка наклонена вправо (28°) |
.20 |
.96 |
|
8 |
Рамка наклонена влево (-28°) |
.75 |
1.19 |
|
Стержень на фоне фрагментов рамки | |||
|
9 |
Фрагменты рамки в правом поле зрения |
.42 |
.66 |
|
10 |
Фрагменты рамки в левом поле зрения |
.57 |
.66 |
|
11 |
Фрагмент рамки справа, наклон влево |
.57 |
.94 |
|
12 |
Фрагмент рамки справа, наклон вправо |
.26 |
.77 |
|
13 |
Фрагмент рамки слева, наклон вправо |
.52 |
.72 |
|
14 |
Фрагмент рамки слева, наклон влево |
.61 |
.98 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для обеспечения надежности модифицированной методики "Стержень и рамка" каждая ситуация (исходное положение рамки, исходное положение стержня) повторялась многократно и в качестве результирующего показателя брались средние значения. Кроме того, многократное повторение ситуаций давало возможность оценить дисперсию индивидуальных показателей; о надежности методики свидетельствует тот факт, что внутрииндивидуальная дисперсия каждого регистрируемого показателя была во всех случаях достоверно меньше групповой дисперсии.
Для оценки тест-ретестовой надежности модифицированной методики с интервалом в одну неделю было обследовано 10 чел. Полученные коэффициенты ранговой корреляции для всех показателей находились в диапазоне 0.75 - 0.91, что позволяет говорить о высокой воспроизводимости результатов при повторном обследовании.
Соотношения показателей по модифицированной методике "Стержень и рамка". В табл. 1 представлены средние значения показателей методики "Включенные фигуры", показателей методики "Стержень и рамка", вычисленных традиционным способом, а также модифицированной методики. Можно видеть, что среднее значение наклона стержня в отсутствие рамки отрицательно. При движении стержня справа налево (исходное положение 45°) величина отрицательного наклона существенно больше, чем при движении слева направо (исходное положение -45°). Сравнение этих ситуаций с помощью критерия Вилкоксона показывает, что различия показателей 4 (движение стержня справа налево) и 5 (движение стержня слева направо) достоверны на весьма высоком уровне значимости (T = 213, Z = 4.1, р = 0.00). Эти данные свидетельствуют о неравнозначности левого и правого полуполей зрения: левая половина зрительного поля обладает большей значимостью, поэтому наклон стержня в отсутствие рамки в среднем отрицателен. При движении стержня справа налево (по градиенту значимости) большая значимость левой половины зрительного поля способствует определенной "инерции", ведущей к большим отрицательным значениям, а при движении слева направо (против градиента значимости) большая значимость левой половины зрительного поля препятствует этой "инерции", приводя также к отрицательным, но гораздо меньшим значениям.
Из результатов, представленных в табл. 1, видно, что величина полезависимости при наклоне рамки влево (показатель 8; ситуация 3(10) на рисунке) значительно больше, чем величина поле-зависимости при наклоне рамки вправо (показатель 7; ситуация 2(8) на рисунке). Это различие в высокой степени достоверно (критерий Вилкоксона, р = 0.003). При рассмотрении данных табл. 1 можно отметить также, что величина полезависимости при предъявлении фрагментов рамки в левое поле зрения (показатель 10) больше, чем при предъявлении их в правое поле зрения (показатель 9). Эти различия достоверны (критерий Вилкоксона, р = 0.048). Дальнейший анализ соотношения полезависимости и полей зрения, в которые предъявлялись фрагменты рамки, показывает (см. табл. 1), что существенно меньшие значения полезависимости наблюдаются при предъявлении фрагментов рамки в правую часть поля зрения, при наклоне вправо. Этот показатель (12) по критерию Вилкоксона достоверно меньше показателей предъявления рамки в левое поле зрения (различия с показателем 14 достоверны на уровне р = 0.007, а с показателем 13 достоверны на уровне р = 0.04) и меньше показателя 11 (правое поле зрения, наклон влево, р = 0.05). Полученные данные еще раз подтверждают роль различий в полях зрения и наклоне рамки. В самом деле, ситуация показателя 12 (см. рисунок, ситуации 5, 12) наименее благоприятна для проявления полезависимости: как отмечалось выше, предъявление в правое поле зрения и наклон рамки вправо связаны с меньшей зависимостью от поля. Комбинация этих двух факторов ведет к существенно меньшим значениям полезависимости. Аналогично этому наибольшие значения полезависимости наблюдаются в случае предъявления фрагмента
стр. 32
![]()
Таблица 2. Корреляции (по Спирмену) признаков асимметрии полушарий и показателей методик "Включенные фигуры "Стержень и рамка" и модифицированной методики "Стержень и рамка"
|
N |
Показатели |
ANN |
ZAM |
NAP |
APL |
TPR |
TPL |
TRU |
TLU |
DIH |
ROZ |
KRT |
|
"Включенные фигуры" и "Стержень и рамка" | ||||||||||||
|
1 |
Включенные фигуры |
.57 |
-.12 |
-.10 |
.11 |
.10 |
.11 |
-.16 |
-.23 |
-.25 |
-.26 |
-.03 |
|
2 |
Стержень и рамка |
-.14 |
.03 |
.12 |
-.17 |
-.22 |
.06 |
.33 |
.06 |
-.17 |
-.11 |
.12 |
|
Стержень в отсутствие рамки | ||||||||||||
|
3 |
Независимо от исходного положения |
-.04 |
-.22 |
-.01 |
.01 |
.27 |
.05 |
-.29 |
-.05 |
-.11 |
.05 |
.31 |
|
15 |
Дисперсия установки стержня |
-.04 |
-.24 |
.12 |
-.09 |
-.00 |
-.08 |
.34 |
.03 |
.08 |
-.20 |
-.12 |
|
4 |
Исходное положение - вправо (45°) |
.01 |
-.18 |
-.01 |
.02 |
.22 |
.05 |
-.37 |
-.19 |
-.27 |
.04 |
.22 |
|
5 |
Исходное положение - влево (-45°) |
-.07 |
-.20 |
.00 |
-.01 |
.21 |
.02 |
-.27 |
.04 |
-.01 |
.04 |
.29 |
|
Стержень на фоне рамки | ||||||||||||
|
6 |
Независимо от наклона рамки |
-.24 |
.00 |
.08 |
-.11 |
.31 |
.38 |
-.01 |
-.05 |
.08 |
.04 |
-.19 |
|
7 |
Рамка наклонена вправо (28°) |
-.13 |
.15 |
.07 |
-.09 |
.30 |
.35 |
-.06 |
-.11 |
.00 |
.01 |
-.07 |
|
8 |
Рамка наклонена влево (-28°) |
-.33 |
-.18 |
.12 |
-.18 |
.20 |
.29 |
.03 |
-.01 |
.16 |
.16 |
-.12 |
|
Стержень на фоне фрагментов рамки | ||||||||||||
|
9 |
Рамка в правом поле зрения |
-.02 |
-.20 |
.01 |
-.10 |
.29 |
.11 |
-.11 |
.06 |
-.04 |
.10 |
.01 |
|
10 |
Рамка в левом поле зрения |
-.33 |
.13 |
.04 |
-.19 |
.20 |
.34 |
.01 |
.01 |
-.04 |
-.11 |
-.20 |
|
11 |
Рамка справа, наклон влево |
-.14 |
-.27 |
.15 |
-.08 |
.34 |
.18 |
-.17 |
.00 |
.15 |
.09 |
.05 |
|
12 |
Рамка справа, наклон вправо |
.17 |
.00 |
-.07 |
-.11 |
.20 |
.01 |
-.03 |
-.05 |
-.35 |
.07 |
-.02 |
|
13 |
Рамка слева, наклон вправо |
-.17 |
.36 |
.03 |
-.23 |
.09 |
.16 |
.03 |
-.01 |
-.14 |
-.07 |
-.33 |
|
14 |
Рамка слева, наклон влево |
-.33 |
-.17 |
.08 |
-.11 |
.19 |
.27 |
.03 |
-.08 |
.08 |
.10 |
.05 |
-----
Примечание. Обозначения показателей асимметрии полушарий см. в тексте. Достоверные коэффициенты (р < 0.05) выделены полужирным шрифтом.
рамки в левое поле зрения с наклоном влево (показатель 14).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что влияние фона (наклонной рамки или ее фрагментов) в значительной степени зависит от неравнозначности левой и правой половин перцептивного поля, при этом существенное значение имеют и направление наклона рамки, и исходное положение стержня.
Нейропсихологические корреляты. В табл. 2 приведены коэффициенты ранговой корреляции между показателями методик "Включенные фигуры", "Стержень и рамка", модифицированной методики "Стержень и рамка" и признаками функциональной асимметрии полушарий.
Из результатов, приведенных в табл. 2, видно, что наклон стержня в ситуации, когда он предъявляется без рамки, положительно коррелирует с теппингом (темпом нажатия) правой руки. Поскольку средний наклон стержня отрицателен, то можно говорить о том, что степень его отрицательного наклона (и доминирование левого полу-поля зрения) уменьшается с увеличением темпа нажатия правой руки. Темп правостороннего теп-пинга отражает степень активности левого полушария, поэтому полученный результат свидетельствует о том, что значимость левого полуполя зрения уменьшается с увеличением левополушарного доминирования. Далее, наклон стержня отрицательно связан с коэффициентом утомления для теппинга правой руки, т.е. при быстром утомлении правой руки увеличен отрицательный наклон стержня. Аналогичные корреляции прослеживаются как для наклона стержня при начальном положении 45° (показатель 4), так и для наклона стержня при начальном положении -45° (показатель 5). Эти данные также позволяют говорить о том, что преобладание левого поля зрения связано с уменьшением левополушарного доминирования. В то же время дисперсия установки стержня положительно коррелирует с коэффициентом утомления правой руки, т.е. уменьшение доминирования левого полушария связано с увеличением разброса при установке стержня в вертикальное положение. Далее, наклон стержня при установке его в вертикальное положение положительно коррелирует с показателями пробы "Карта с дырой", а именно - у испытуемых с ведущим правым глазом, что является признаком левополушарного доминирования в зрительной сфере, отрицательный наклон стержня меньше. Такой результат наблюдается как для наклона стержня без учета начального положения, так и для ситуации, когда начальный наклон стержня составлял -45°.
Анализируя связь признаков полушарного доминирования с результатами, полученными в ситуациях, когда стержень предъявляется вместе с наклонной рамкой, можно отметить следующее:
стр. 33
![]()
Таблица 3. Сравнение (критерий Манна-Уитни) группы испытуемых с "гиперкомпенсацией" (группа 2) с остальными испытуемыми (группа 1)
|
|
SUM1 |
SUM2 |
U |
Z |
Р |
п1 |
n2 |
|
ANN |
1138.0 |
240.0 |
57.0 |
-2.32 |
0.02 |
46 |
6 |
|
TAM |
1196.0 |
182.0 |
115.0 |
-0.66 |
0.51 |
46 |
6 |
|
NAP |
1254.0 |
124.0 |
103.0 |
-1.00 |
0.32 |
46 |
6 |
|
APL |
1177.0 |
201.0 |
96.0 |
1.20 |
0.23 |
46 |
6 |
|
TPR |
1331.0 |
47.0 |
26.0 |
3.21 |
0.00 |
46 |
6 |
|
TPL |
1343.5 |
34.5 |
13.5 |
3.57 |
0.00 |
46 |
6 |
|
TRU |
1196.0 |
182.0 |
115.0 |
-0.66 |
0.51 |
46 |
6 |
|
TLU |
1188.0 |
190.0 |
107.0 |
-0.89 |
0.37 |
46 |
6 |
|
TA |
1148.0 |
230.0 |
67.0 |
-2.03 |
0.04 |
46 |
6 |
|
DIH |
1208.0 |
118.0 |
103.0 |
0.38 |
0.70 |
46 |
5 |
|
ROZ |
1170.0 |
105.0 |
90.0 |
0.73 |
0.47 |
45 |
5 |
|
KRT |
1127.5 |
147.5 |
92.5 |
-0.65 |
0.52 |
45 |
5 |
-----
Примечание. Обозначения показателей асимметрии полушарий см. в тексте. Достоверные различия (р < 0.05) выделены полужирным шрифтом. SUM1 - суммарный показатель рангов по группе 1, SUM2 - суммарный показатель рангов по группе 2.
теппинг как левой, так и правой руки коррелирует со значениями полезависимости, определяемой независимо от положения рамки. При повороте наклонной рамки влево с величиной полезависимости коррелирует теппинг левой руки. При повороте наклонной рамки вправо с величиной полезависимости коррелирует теппинг обеих рук. Далее, величина теппинга правой руки коррелирует с полезависимостью при предъявлении фрагментов рамки в правое поле зрения, а величина теппинга левой руки - с полезависимостью при предъявлении фрагментов рамки в левое поле зрения.
Полученные результаты позволяют говорить об определенной "симметрии" отношений поле-зависимости и полушарного доминирования, оцениваемого по показателям теппинга левой и правой руки: левополушарное доминирование коррелирует с полезависимостью в правом поле зрения, а правополушарное - с полезависимостью в левом поле зрения.
Степень доминирования правой руки, определяемая по опроснику Аннет, отрицательно коррелирует с полезависимостью при наклоне рамки влево, а также с полезависимостью при предъявлении фрагментов рамки в левое поле зрения.
Показатель метода дихотического прослушивания - коэффициент правого уха, отражающий доминирование левого полушария в слухоречевой сфере, отрицательно коррелирует с полезависимостью при предъявлении фрагмента рамки в правое полушарие с наклоном вправо (показатель 12), т.е. в ситуации, когда влияние зрительных перцептивных факторов минимально. Этот факт может свидетельствовать о том, что предпочтение левой части пространства как фактора, участвующего в формировании ПЗ/ПНЗ, распространяется и на слуховую сферу, однако в условиях зрительной перцептивной задачи доминирующими являются именно зрительные механизмы.
При суммарной обработке полученных данных, т.е. при анализе ПЗ/ПНЗ независимо от ориентации рамки и стержня, некоторые испытуемые показывают результаты, которые мы назвали "гиперкомпенсацией": отклонение стержня у них наблюдалось в сторону, противоположную наклону рамки, независимо от направления этого наклона, причем в степени, существенно превышающей истинную вертикаль. Мы выделили этих испытуемых в отдельную группу, а затем сравнили показатели полушарной организации в этой группе и в группе остальных испытуемых (табл. 3).
Можно видеть, что испытуемые с "гиперкомпенсацией" характеризуются, во-первых, значительно меньшими показателями теппинга как левой, так и правой руки; во-вторых, у них достоверно более выражены (по сравнению с остальными испытуемыми) признаки левополушарного доминирования по данным опросника Аннет и по показателю асимметрии скорости теппинга правой и левой руки.
При анализе результатов, полученных с помощью методики "Включенные фигуры", было обнаружено, что единственной, хотя и весьма достоверной, корреляцией этого теста с показателями полушарной асимметрии является положительная корреляция с опросником Аннет (коэффициент корреляции Спирмена, R = 0.57, р = 0.0003). Для показателя методики "Стержень и рамка", полученного традиционным методом обработки, также обнаружена единственная достоверная положительная корреляция с коэффициентом утомления при выполнении теппинга правой рукой; иными словами, ослабление активности левого по-
стр. 34
![]()
лушария коррелирует с увеличением полезависимости. Значимые корреляции между показателями методики "Стержень и рамка" и модифицированной методики "Стержень и рамка" с показателем полезависимости методики "Включенные фигуры" отсутствовали. Эти факты говорят о различии механизмов, лежащих в основе выполнения той и другой методик оценки ПЗ/ПНЗ, хотя общие тенденции, связывающие поленезависимость с левым, а полезависимость - с правым полушарием, прослеживаются достаточно отчетливо.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При рассмотрении полученных в исследовании данных можно выделить несколько групп результатов, относящихся к различным аспектам выполнения модифицированной методики "Стержень и рамка".
Первая группа результатов связана с неравнозначностью полей зрения. Большая значимость левого поля зрения по сравнению с правым проявляется при установке стержня в вертикальное положение в ситуации, когда наклонная рамка отсутствует. Неравнозначность полей зрения наблюдается и в разнице результатов, полученных при различных исходных положениях стержня (45° или -45°). В ситуациях, когда установка стержня производилась на фоне наклонной рамки, полезависимость больше при наклоне рамки влево, чем при наклоне вправо.
В работе Н. Н. Николаенко [2] изучалась связь функциональной асимметрии мозга со структурой зрительного поля. Исследования проводились в ходе лечения больных односторонними электросудорожными припадками, сопровождаемыми преходящим угнетением левого или правого полушария мозга. Было показано, что для деятельности правого полушария характерна большая актуальность левой части зрительного поля, а для левого полушария - большая актуальность правой части пространства. Н. Н. Брагина и Т. А. Доброхотова [1] также отмечают преобладание для невербальных стимулов левой части поля зрения.
Полученные в нашем исследовании результаты согласуются с этими данными. Кроме того, следует отметить, что степень наклона стержня в отсутствие рамки коррелирует с показателями теппинга правой руки и не коррелирует с показателями теппинга левой руки, т.е. предпочтение в этих условиях отдается в большей степени левому полю зрения за счет снижения функционального состояния левого полушария.
Вторая группа данных, полученных в нашем исследовании, относится собственно к зависимости-независимости от поля. Было показано, что величина полезависимости при наклоне рамки влево коррелирует с теппингом левой руки. При предъявлении фрагментов рамки раздельно в левое и правое полушария обнаружено, что теппинг левой руки коррелирует с полезависимостью в ситуациях, когда фрагменты рамки расположены в левом поле зрения, а теппинг правой руки - в ситуациях, когда фрагменты рамки расположены в правом поле зрения. Теппинг как правой, так и левой руки коррелирует с полезависимостью при предъявлении рамки независимо от ее ориентации.
Н. Н. Николаенко и Я. А. Меерсон [3] изучали изменения структуры полей зрения при локальной патологии правого и левого полушарий мозга. Оценивалась точность локализации объектов, предъявляемых в различные участки зрительного пространства, при поражениях мозга разной локализации - заднелобных, переднетеменных, теменно-затылочных. Авторы установили, что заднелобные отделы обоих полушарий регулируют избирательную направленность внимания и обеспечивают предпочтение правой или левой части пространства. В этом смысле их функции равноценны. Переднетеменная область правого полушария обеспечивает формирование структуры перцептивного пространства. Если учесть, что такая функциональная проба, как теппинг, адресована в первую очередь именно к заднелобным отделам полушария, то полученные в нашей работе результаты соответствуют парциальным влияниям левого и правого полушарий на избирательное акцентуирование контралатерального поля зрения. В этом контексте левое и правое полушария одинаковым образом связаны с полезависимостью (левое полушарие - при предъявлении фрагментов рамки в правое полуполе, правое полушарие -при предъявлении рамки в левое полуполе).
Третья группа данных, полученных в нашем исследовании, свидетельствует о роли левого полушария в контроле и коррекции деятельности при выполнении методики "Стержень и рамка". Так, дисперсия установки стержня в вертикальное положение при отсутствии рамки увеличивается с увеличением коэффициента утомления при теппинге правой руки. Сравнение испытуемых, проявивших "гиперкомпенсацию" при установке стержня в условиях наклонной рамки, с остальными испытуемыми демонстрирует достоверное преобладание у них признаков доминирования левого полушария. Этот факт вполне соответствует представлениям, сложившимся в нейропсихологии, о контролирующей роли левого полушария в протекании произвольной деятельности [6].
ВЫВОДЫ
1. Разработан модифицированный вариант методики "Стержень и рамка", позволяющий учитывать роль функциональной асимметрии полушарий в оценке стиля пз/пнз.
стр. 35
![]()
2. С использованием модифицированной методики "Стержень и рамка" показано, что оценка полезависимости определяется тремя факторами: предпочтением левого поля зрения; положением элементов фона в левом или правом поле зрения; процессами контроля и коррекции деятельности.
3. Показано, что предпочтение левого поля зрения коррелирует со снижением активации левого полушария. Величина полезависимости, определяемая положением элементов фона в левом или правом поле зрения, коррелирует с активацией контралатерального полушария. Процессы контроля и коррекции деятельности, проявляющиеся при решении перцептивной задачи установления вертикали в условиях помехи, коррелируют с активацией левого полушария.
4. Обнаружено, что степень поленезависимости, определяемая по результатам методики "Включенные фигуры", коррелировала только с доминированием левого полушария, оцениваемого с помощью опросника Аннет. Показатели модифицированной методики "Стержень и рамка" и методики "Включенные фигуры" значимо не коррелируют, что свидетельствует о существенном различии механизмов, участвующих в выполнении этих двух методик.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Брагина Н. Н., Доброхотова Т. А. Функциональные асимметрии человека. М., 1981.
2. Николаенко Н. Н. Функциональная асимметрия мозга и структура зрительного поля // Физиология человека. 1989. Т. 15. N 6. С. 8 - 15.
3. Николаенко Н. Н., Меерсон Я. А. Изменения структуры полей зрения при локальной патологии правого и левого полушарий мозга: Нейропсихология сегодня. М., 1995. С. 70 - 81.
4. Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. М., 2002.
5. Хомская Е. Д., Ефимова Н. В., Будыка Е. В., Ениколопова Е. В. Нейропсихология индивидуальных различий. М., 1997.
6. Хомская Е. Д. Нейропсихология. СПб.: Питер, 2003.
7. Bakan P. The eyes have it // Psychology today. 1971. V. 4 (7). P. 64 - 67.
8. Beer J. Hemispheric dominance inferred from your style of learning and thinking on reports of Necker cube reversals and maze learning // Percept. Motor Skills. 1988. V. 66. P. 887 - 890.
9. Cohen B. D., Berent S., Silverman A J. Field dependence and lateralization of function in the human brain // Archives of General Psychiatry. 1973. V. 28. P. 165 - 167.
10. Hoffman C., Kagan S. Lateral eye movement and field dependence-independence // Percept. Motor Skills. 1977. V. 45. P. 767 - 778.
11. Pierro R. A., Goldberger L. Lateral eye-movements, field dependence and denial // Percept. Motor Skills. 1982. V. 55 (2). P. 371 - 378.
12. Shevrin H., Smokier O. A., Wolf E. Field independence, lateralization and defensive style. // Percept. Motor Skills. 1979. V. 49. P. 195 - 202.
13. Tinajero C., Paramo M. F., Cadaveira F., Rodriguez-Holguin S. Field dependence-independence and brain organization: the confluence of two different ways of describing general forms of cognitive functioning? A theoretical review // Percept. Motor Skills. 1993. Part 1. P. 787 - 802.
14. Within H. A., Dyk R. B., Faterson H. F. et al. Psychological differentiation. N. Y., 1962.
15. Witkin H. A., Lewis H. B., Hertzman M. et al. Personality through perception. N. Y., 1954.
16. Witkin H. A., Asch S. E. Studies in space orientation: IV. Further experiments on perception of the upricht with displaced visual fields // Journ. of Exper. Psychology. 1948. V. 38. P. 762 - 782.
17. Witkin H. A., Oltman P. I., Raskin E. et al. A manual for the Embedded Figures Tests. Consulting Psychol. Press, Inc., 1971.
FIELD DEPENDENCE/FIELD INDEPENDENCE AND HEMISPHERIC ASYMMETRY
E. G. Udachina, PhD, senior research assistant of posttraumatic stress laboratory, Psychological Institute ofRAS, Moscow
S. V. Kvasovets, PhD, head of psychophysiological researches laboratory, State intersectoral scientific and technological center "Science", Ministry of Education and Science ofRF, Moscow
The relationship between field dependence-independence and functional asymmetry of hemispheres was investigated. The modified "Rod-and-frame" computer technique and "Embedded figures" test were used. It is shown, that in case of perceptual task of vertical positioning field dependence is defined, at least, by three factors. The first is the preference of the left field of vision which is connected with the decrease of left hemisphere activation. Second is the position of elements of a background in the left or the right field of vision; thus field dependence correlates with activation of contra-lateral hemispheres. The third is the factor of the control and correction of the activity, connected with activation of the left hemisphere. Results of "Embedded figures" technique correlated only with dominance of the left hemisphere. Correlations between two methods of field dependence estimation were not revealed, that testified essential distinction of the mechanisms participating in performance of these tasks.
Key words: field dependence-independence, hemispheric asymmetry, neuropsychology.
стр. 36
ОПОЗНАВАНИЕ ПОЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИЦА
Автор: Е. А. НИКИТИНА
ОПОЗНАВАНИЕ ПОЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИЦА1
Е. А. НИКИТИНА, кандидат психологических наук, научный сотрудник ИП РАН, Москва
Изучались результаты опознавания пола по лицам в связи с варьированием способов представления стимульных изображений. При предъявлении изображений незнакомых испытуемым лиц на их категоризацию по полу значимо влияют следующие два условия: статическое или динамическое изображение используется в эксперименте, открыты или замаскированы уши на фотографии. Направление поворота лица (на 3/4 вправо или на 3/4 влево) не оказывает воздействия на категоризацию по полу взрослых лиц.
Ключевые слова: восприятие лиц, категоризация, половые различия, способы представления стимульного материала.
Человеческое лицо - это сформировавшееся в процессе эволюции средство коммуникации. Одного короткого взгляда на него достаточно, чтобы узнать очень многое о человеке, стоящем перед нами: определить его расу, возраст, пол, настроение и состояние здоровья. Значимость лица для процессов общения привела к развитию у нас чрезвычайно сложной и эффективной способности к его восприятию. Неслучайно уже в первые часы жизни, несмотря на крайнее несовершенство зрительной системы, младенцы не только демонстрируют способность к восприятию лиц, но и отдают явное предпочтение лицеподобным стимулам по сравнению с другими их видами, например, геометрическими фигурами. Соотношение восприятия, действия и репрезентации в раннем онтогенезе изучены в работах Е. А. Сергиенко [7,8]. Уже в 70-е гг. XX в. опубликованы первые результаты экспериментов Мельтцоффа (A. Meltzoff) [15], в которых показано, что младенцы 2 - 3 недель имитируют мимику взрослого. Позднее аналогичные результаты были получены и в отношении новорожденных.
Исследования Бушнелл (I. Bushnell) [10] подтвердили, что через два дня после рождения ребенок способен отличать лицо матери от других -на свою маму новорожденные смотрят значимо дольше. В дальнейшем способность ребенка к обработке информации, содержащейся в лице, развивается очень быстро, а эффективность этого процесса весьма высока. Исследования, проводившиеся в разных странах с использованием различных изображений лиц, показали, что вероятность правильного распознавания пола по лицам взрослых людей в нормальных условиях превышает 95%.
В то же время восприятие лиц является сложнейшим процессом, чувствительным к множеству внешних условий. Некоторые из них одинаково влияют на восприятие предъявляемых лиц всеми испытуемыми. Так, перевернутые лица обычно опознаются и классифицируются хуже нормально ориентированных. Динамическое изображение знакомых лиц, как правило, помогает их узнаванию.
Однако некоторые экспериментальные факторы влияют на восприятие лиц более сложным способом. Если, например, вероятность правильной категоризации лиц по полу на основании выделенных испытуемыми признаков, а также по лицам как целостным образам практически одинакова для мальчиков, то она значимо различается для изображений девочек [4, 6]. Периодические гормональные изменения в организмах женщин-испытуемых влияют на ту или иную оценку ими привлекательности изображений мужчин [17]. Пикселизация - размывание четкости изображения - как способ манипулирования предъявляемым изображением сильнее влияет на опознавание женских лиц, чем мужских [12].
Эти факты дают основания предполагать, что хотя эффективность восприятия человеческих лиц в целом очень высока, в случаях сложной категоризации неконтролируемое изменение любого экспериментального фактора может существенно исказить результаты исследования. Тем не менее, до сих пор не только нет единого способа предъявления стимульного материала, но ино-
![]()
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант N 05 - 06 - 80358. Автор выражает благодарность выпускнице факультета психологии ГУГН Киреевой Е., принявшей активное участие в подготовке и проведении эксперимента.
стр. 37
![]()
гда даже отсутствует корректное описание экспериментальных условий.
Анализ соответствующей литературы показал, что изображения лиц предъявляются в разных ракурсах и форматах, как рисунки или фотографии, цветные или черно-белые, на бумаге или экране монитора, в статике или динамике, с волосами или без них, с открытыми или закрытыми ушами, на разнообразном фоне и в рамках различной формы. Такая бессистемность не позволяет сопоставлять между собой данные, полученные в разных исследованиях.
В большинстве работ используются фотографии лиц взрослых людей, возраст которых варьирует в широком диапазоне (например, от 20 до 40 лет [14]; иногда возраст даже не указывается), хотя до сих пор никем не установлено, что вероятность опознавания пола по лицам 20-летних и 40-летних людей одинакова. Эксперименты с детскими фотографиями, проведенные Г. Уайлдом (Н. Wild) [19], а также наши недавние работы показывают обратное: опознавание пола по лицам существенно зависит от возраста изображенных людей, особенно если речь идет о категоризации детских лиц. Данные по восприятию лиц пожилых людей в литературе вообще отсутствуют.
Другая проблема состоит в том, что поскольку вероятность правильного опознавания пола по лицам женщин и мужчин весьма высока (>95%), то результаты выполнения задачи не позволяют исследовать различия между испытуемыми. Исследователи усложняют эксперимент, "зашумляя" картинку с помощью гауссовского шумового фильтра или пикселизируя изображение. При этом не всегда учитывается различный вклад подобной обработки в опознавание женских и мужских лиц. Так, А. Селлерино (A. Cellerino) с коллегами показали, что категоризация женских лиц становится случайной уже при снижении разрешения картинки до 1792 пикселей, в то время как мужские лица даже при 112-пиксельных изображениях могут быть опознаваемы с вероятностью, превышающей случайное угадывание [12]. Эти результаты соответствуют представлениям эволюционной психологии о необходимости более надежного опознавания мужских лиц, что связано с большей уязвимостью мужского пола при половой дифференциации и поддержании тендерной идентичности.
Более того, создание стимульных изображений на основе фотографий взрослых лиц также требует ряда дополнительных манипуляций, поскольку необходимо скрыть характерную для каждого пола одежду и прическу, а также макияж. Исследователи решают эту проблему двумя способами: компьютерным редактированием изображений - затиранием конкретных областей картинки (например, волос) или представлением фотографии в стандартной рамке, закрывающей "лишнюю" информацию.
Для эксперимента приходится отбирать изображения женских лиц без макияжа и с естественной линией роста бровей, а также изображения чисто выбритых мужских лиц, а потом тем или иным способом закрывать волосы и одежду.
Даже на этом этапе прослеживается неравноценность обработки фотографий людей разного возраста. При работе с детскими фотографиями требуется замаскировать лишь прическу и попавшую в кадр одежду. Изображения новорожденных могут быть предъявлены в своем естественном, необработанном виде.
Если мы ставим перед собой задачу корректного описания процесса категоризации лиц, например, опознавания пола по лицам, мы должны учесть роль всех внешних параметров, способных оказать влияние на результат исследования.
Ниже приведены имеющиеся на сегодняшний день данные о вкладе различных условий предъявления изображений лиц на их опознавание или категоризацию.
1. Статическое или динамическое изображение. Влияние способа представления изображения - статическое (фото) или динамическое (видео) на опознавание знакомых и незнакомых лиц было исследовано в нескольких экспериментальных работах последних лет. В настоящий момент в литературе высказываются две основные гипотезы о роли движения.
Одна из них - гипотеза дополнительной информации - предполагает, что мы запоминаем характерную мимику индивидуальных лиц в дополнение к неизменным структурам лица, т.е. существует прямое кодирование характерных лицевых движений. Результаты ряда работ, выполненных В. Брюс (V. Brace) с соавторами, показали, что способность испытуемых к опознанию того из актеров, который был им показан в видеофрагменте, оказывается значимо выше при последующем предъявлении изображения этого актера в движении, чем при предъявлении его статического изображения [9].
Сторонники другой гипотезы - усиления репрезентации - считают, что движение лица позволяет более тщательно оценить его трехмерную структуру и этим вносит вклад в процесс декодирования статических характеристик лица (цит. по [16]).
Вышеуказанные подходы не являются взаимоисключающими, а скорее дополняют друг друга. Работы по узнаванию лиц известных или знакомых испытуемым людей последовательно подтверждают гипотезу дополнительной информации. Движение улучшает узнавание знакомых лиц в неоптимальных для восприятия трехмерной структуры условиях (инверсия, пикселизация, за-
стр. 38
![]()
туманивание и т.д.). Чем более естественны движения лица, тем больше их вклад в процесс опознавания изображения. Эксперименты с незнакомыми лицами пока дают противоречивые результаты [16].
Наши исследования прошлых лет с опознаванием пола по изображениям лиц новорожденных детей показали, что в эксперименте с предъявлением видеофрагментов вероятность правильной категоризации была ниже по сравнению с экспериментом с фотографиями тех же младенцев [4 - 6]. Динамическая информация "зашумляла" холистическую репрезентацию лица, снижая эффективность опознавания половой принадлежности. Усиление репрезентации в этом случае привело к появлению избыточной информации, а, следовательно, к осложнению обработки изображения.
2. Влияние ракурса изображения на опознавание пола по лицам. Даже такой параметр, как ракурс изображения, может оказать значимое влияние на вероятность правильной категоризации лиц. Речь идет как о повороте лица слева направо, так и по вертикали.
В статье Э. Кроникла (Е. Р. Chronicle) и М. -И. Чана (M. - Y. Chan) [13] приведены интересные результаты определения пола только по форме носа, предъявляемого испытуемым в различных ракурсах: в фас, профиль и три четверти. Оказалось, что мужские носы лучше распознаются, когда они предъявляются во фронтальном виде или в профиль, а женские - при ракурсе в три четверти. Полученные данные согласуются с хорошо известной информацией о том, что мужские носы больше и шире женских, а также имеют более явно выраженные ноздри. Вероятно, эти характеристики оказываются более явными при рассмотрении в фас и в профиль.
При определении женских носов на фронтальных фотографиях они с вероятностью, превышающей случайное значение, называются мужскими. Причины этого недостаточно ясны, но, возможно, существует связь и с более общей закономерностью, согласно которой лицо, пол которого определить трудно, приписывается мужчине.
Направление поворота лица - влево или вправо - может также оказывать влияние на вероятность правильной категоризации. Выявленная Грюссером двойная асимметрия в восприятии лица [3], предполагающая, что эмоции выражаются и воспринимаются, как правило, на левой половине лица, а идентификация индивида происходит по правой половине, может отразиться в различном вкладе ракурса в восприятие мужского и женского лиц. По-видимому, этот факт и лег в основу исследования Дж. Ширилло (J. Schirillo) [18], построенного на анализе ракурсов женских и мужских живописных портретов.
Первая часть его работы показала, что существуют различия в направлении взглядов, изображаемых на живописных портретах мужчин и женщин: 68% женщин и 56% мужчин нарисованы так, что их левая щека обращена к зрителю. Во второй части эксперимента Ширилло испытуемых просили оценить эмоциональные и социальные характеристики людей, изображенных на 20 портретах Рембрандта. По шкале социальной направленности наименьшее число баллов получили женщины, лица которых на картине обращены влево, а наиболее социально направленными были названы мужчины, изображенные с поворотом головы вправо.
При рассмотрении роли ракурса изображения лица следует обратить внимание на следующие два момента: во-первых, правая и левая половины лица как объекта восприятия могут существенно различаться; во-вторых, нельзя игнорировать возможный вклад предварительной установки испытуемых относительно лиц, повернутых вправо или влево. Оба эти параметра должны быть учтены в эксперименте.
Интересное исследование восприятия психологических характеристик по "разделенному лицу" было предпринято Н. Г. Артемцевой в ее диссертационной работе [1]. Группе испытуемых предъявлялись карточки с изображением левой или правой половины лиц известных деятелей искусства и культуры (Достоевский, Есенин и др.); при этом необходимо было написать первые пришедшие на ум слова, характеризующие изображенного человека. Предположение автора о том, что психологические характеристики разделенного по вертикали изображения лица при восприятии каждой из половин будут различаться, подтвердилось.
Следует однако отметить, что при использовании такой схемы эксперимента вклад разного восприятия объекта в правой и левой половинах зрительного поля с одной стороны и восприятие объективно отличающихся правой и левой половин реального лица с другой могут накладываться друг на друга. Предварительные установки испытуемых, касающиеся легко узнаваемых ими лиц на картинках, также могут осложнить ситуацию.
Р. Кэмпбелл (R. Campbell) с коллегами [11] исследовала ускоренную категоризацию пола по фотографиям женских и мужских лиц. В качестве тендерных ключей были использованы смещение бровей по вертикальной оси и вертикальное движение головы. У мужчин расстояние между веком и бровью меньше, чем у женщин, и оно может быть дополнительно уменьшено при опускании головы вниз и поднимании взгляда вверх на камеру. Эксперимент подтвердил, что мужские лица с опущенными бровями категоризировались более быстро и правильно. Был выявлен и неко-
стр. 39
![]()
торый "феминизирующий" эффект поднятых бровей.
Все приведенные исследования показывают, что иногда бывает достаточно даже небольшого отклонения "стимульного лица" от стандартного ракурса, чтобы результаты сопоставительного анализа перестали быть достоверными.
Цель данной работы состояла в изучении связи условий стимульного предъявления с восприятием пола по изображениям лиц людей различного возраста. Для этого стимульный материал был сформирован таким образом, чтобы при переходе от одного эксперимента к другому изменялся только один параметр изображения при сохранении всех остальных.
Гипотезы исследования:
1. Вероятность правильной категоризации по полу детских лиц меньше, чем вероятность правильной категоризации лиц юношей и девушек, достигших полового созревания.
2. Изменение хотя бы одного из условий предъявления стимульного материала приводит к изменению вероятности правильной категоризации по полу предъявляемых изображений лиц.
МЕТОДИКА
Испытуемые. В исследовании приняли участие 75 человек (34 юноши и 41 девушка) в возрасте от 18 до 25 лет: студенты ГУГН (23 девушки и 16 юношей), МГИЭМ (18 юношей) и Профессионального лицея N 10 (18 девушек).
Стимульный материал представлял собой пять наборов цветных фотографий формата 10 х 15 см с изображениями лиц. Материал был записан с помощью видеокамеры Sony DCR-TRV120E. Затем в программе ULEAD MEDIA STUDIO 7.0 выбирались необходимые кадры лиц в стандартном ракурсе: поворот головы на 3/4 вправо.
Были напечатаны 28 фотографий новорожденных младенцев (пример использованного в эксперименте изображения новорожденного мальчика представлен на рисунке 1) в возрасте от 1 до 9 дней (средний возраст 4.7 дня); два набора по 30 фотографий 7-летних детей (см. пример на рисунке 2) и два набора по 32 фотографии юношей и девушек от 17 до 25 лет, средний возраст 19.8 лет (см. пример на рисунке 3).
Компьютерных манипуляций с фотографиями младенцев не производилось, т.к. лица новорожденных лишены дополнительных ключей к опознанию пола (прическа, одежда).
Изображения 7-летних детей, а также юношей и девушек обрабатывались с использованием программы Photoshop 6.0 с тем, чтобы замаскировать прическу и одежду. Фотографии детей были
стр. 40
![]()
напечатаны в двух видах: в первом наборе уши видны (рисунок 2а), а во втором наборе - замаскированы, виден только овал лица (рисунок 2б).
Фотографии студентов также были выполнены в двух вариантах: с поворотом головы вправо (рисунок За) и зеркальное отображение этих изображений - с поворотом влево (рисунок 3б), полученное в программе Photoshop 6.0 при использовании команды Flip Horizontal. Таким образом, фотографии обеих групп полностью идентичны за исключением лишь одного параметра - направления поворота лица.
Использование подобного экспериментального приема направлено на исключение возможности влияния объективно присутствующих различий между правой и левой половинами лиц стимульных изображений. На самом деле, к испытуемым всегда обращена одна и та же щека (правая), поэтому разница в вероятности правильного опознавания пола по двум наборам фотографий, если она выявится, будет связана исключительно с восприятием ракурса лица.
Процедура исследования. Участникам исследования предъявлялись в случайном порядке фотографии из каждого набора:
- новорожденные,
- 7-летние (уши видны),
- 7-летние (уши замаскированы),
- 20-летние (поворот головы вправо),
- 20-летние (поворот головы влево).
Инструкция звучала следующим образом: "Пожалуйста, разложите эти фотографии на две пачки. В одну пачку откладывайте изображения девочек/девушек, в другую - мальчиков/юношей. Действуйте не задумываясь, по первому впечатлению. Спасибо за участие".
Статистическая обработка данных. Ответы испытуемых заносились в протоколы, а затем обрабатывались с помощью программ Excel и SPSS 11.0. Различия между группами испытуемых оценивалось на основании критерия Манна-Уитни, а разница в восприятии стимульного материала одной и той же группой испытуемых - на основании критерия Вилкоксона.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В первом эксперименте мы сравнивали вероятность правильного опознавания пола по лицам детей разного возраста, а также юношей и девушек. Полученные результаты представлены на рисунке 4.
Для всех испытуемых вероятности правильного опознавания пола новорожденных и 7-летних детей практически не различаются. При этом полученные величины значимо ниже, чем результа-
Правильность опознавания пола по изображениям лиц детей, а также юношей и девушек
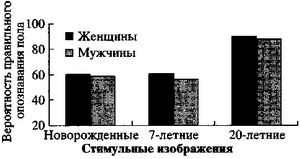
Рис. 4. Изменение вероятности правильного опознавания пола по лицам новорожденных младенцев, 7-летних детей и 20-летних юношей и девушек испытуемыми-женщинами и мужчинами.
стр. 41
![]()
Опознавание пола по лицам всеми испытуемыми

Рис. 5. Различие в правильности опознавания пола по изображениям мальчиков и девочек, а также юношей и девушек всеми испытуемыми.
ты опознавания пола 20-летних юношей и девушек (Вилкоксон Z = 5.23; р = 0.00). Различий между испытуемыми женского и мужского пола при опознавании лиц не обнаружилось.
Вероятно, в рассматриваемом нами возрастном интервале от рождения до 7 лет, т.е. до начала пубертатного возраста, связанного с интенсивным половым созреванием, не происходит существенного изменения уровня проявленности пола в структуре детских лиц. Видимое улучшение опознаваемости пола школьников в естественных условиях главным образом связано с использованием дополнительных ключей - прически, одежды - указывающих на пол ребенка.
Сложность опознавания пола по детским лицам и резкий скачок опознаваемости лиц 20-летних юношей и девушек могут быть объяснены следующим образом: изначально в основе формирования полового диморфизма человеческих лиц лежал естественный биологический отбор. В этом случае, как и в многочисленных случаях полового диморфизма в животном мире, он должен наиболее ярко проявляться в фертильном возрасте организмов. Цыпленок павлина не рождается с роскошным хвостом - он ему не нужен. Сформировавшиеся вторичные половые признаки сигнализируют о наступившем половом созревании, о готовности организма к продолжению рода. В это время важность правильной категоризации по полу является основой удачной репродукции. До наступления полового созревания репродуктивная задача не ставится, средства для ее осуществления минимальны. Однако у человека внешние признаки, позволяющие с превосходящей случайное угадывание вероятностью отличить мальчика от девочки (помимо закрытых одеждой половых органов), а именно признаки лица, всегда открытого социуму, присутствуют с самого рождения. И это не случайно. Человек, будучи существом не только биологическим, но и социальным, помимо физического роста и развития, претерпевает в онтогенезе существенные психологические изменения. Задача подготовки к различающимся в обществе сложным ролям мужчины и женщины требует длительного периода половой идентификации. Контакты взрослых с мальчиками и девочками даже самого раннего возраста не одинаковы.
Интуитивно понимаемая значимость адекватного полу социального воздействия, а точнее, взаимодействия с детьми, приводит к попыткам усилить внешние различия мальчиков и девочек, выделить их для окружающих, например, к появлению голубых и розовых бантиков на одеялах новорожденных, крохотных аналогов взрослой женской и мужской одежды (юбочек и брючек), значительно различающихся детских причесок. Тем самым воспитывающие младенца, а затем ребенка взрослые искусственно создают для окружающих дополнительные внешние подсказки, однозначно указывающие на пол малыша. Степень выраженности половых различий в структуре лица начинает расти с половым созреванием. Это и отражается в резком возрастании вероятности правильного опознавания пола по взрослым лицам.
Нами сравнивались отдельно результаты опознавания лиц мальчиков и девочек (рисунок 5). В этом случае выявляются значимые различия между опознаванием младенцев и 7-летних детей (новорожденные мальчики - 7-летние мальчики (уши видны) Z = 3.41; р = 0.00; новорожденные девочки - 7-летние девочки (уши видны) - Z = 3.48; р = 0.00).
Как хорошо видно на диаграмме, изменение средней вероятности опознавания детских лиц при дифференцированном рассмотрении изображений мальчиков и девочек имеет различную тенденцию. Большую часть 7-летних детей с открытыми ушами испытуемые склонны называть мальчиками. Лишь одна девочка оказалась правильно опознанной более чем 50% испытуемых.
Можно предположить, что вид лица с затертым изображением волос до линии их роста существенно отличается от естественного. В результате манипуляций с изображением височной зоны - затирания волос фоновым цветом - ухо на фотографии оказывается искусственно выделенным, зрительно акцентированным.
В естественных условиях короткая стрижка мальчиков оставляет ухо открытым практически всегда, а прическа девочек - крайне редко; косички или стрижка в большинстве случаев либо скрывает ухо под волосами, либо, по крайней мере, не привлекает внимание к области виска и уха. Даже серьги смещают внимание наблюдателя к нижней части уха. Таким образом, исторически сложившиеся типы мужской и женской причесок могут вносить вклад в процесс половой поляризации лиц. Вид открытого уха является маскулинизирующим фактором лица.
стр. 42
![]()
Чтобы выделить влияние этого фактора, для сравнения испытуемым предъявлялись те же лица, что и в первом эксперименте, но с замаскированной зоной уха.
Результаты показали, что наше предположение подтвердилось. Если мы предъявляем испытуемым изображения лиц, заключенных в овальную рамку, закрывающую ухо, картина меняется. При незначительном изменении величины средней правильности опознавания пола детей происходит существенное смещение мнений испытуемых в сторону женских лиц.
Значимость влияния наличия или замаскированное™ ушей на фотографиях очень высока: для девочек Z = 3.64; р = 0.00, для мальчиков Z = = 4.02; р = 0.00.
Интересно, что когда мы спрашивали испытуемых, по каким лицам проще определить пол - младенческим или лицам 7-летних детей - до начала эксперимента все утверждали, что по лицам школьников. Хотя ряд испытуемых обращал внимание на то, что бывают дети, пол которых в 7-летнем возрасте часто неверно опознают незнакомые люди, если одежда и головной убор нейтральны, в стиле унисекс, в целом они считали, что структура женских и мужских лиц у учеников начальной школы уже должна существенно различаться.
По-видимому, в естественных условиях при восприятии лиц люди настолько привыкают пользоваться дополнительными ключами (прическа и одежда), что оценивают само лицо на основании установки, сформировавшейся при целостном восприятии внешних признаков.
В отличие от данных нашего предыдущего исследования с лицами новорожденных [4 - 6], в котором было обнаружено, что испытуемые женщины значимо лучше опознают пол младенцев, чем мужчины, в данном эксперименте такой зависимости не выявлено. Проводимое исследование с привлечением испытуемых более старшего возраста позволит нам понять причины подобного расхождения результатов.
Не обнаружено и предполагавшегося нами ранее феминизирующего влияния поворота влево лиц на стимульных фотографиях. К настоящему моменту эксперимент проведен только с изображениями 20-летних юношей и девушек. Вероятность правильной категоризации их лиц очень высока, лишь некоторые фотографии были опознаны неверно. Возможно, в более сложной задаче категоризации изображений 7-летних детей или новорожденных младенцев такое внешнее воздействие, как ракурс, может сместить равновесие в сторону того или иного выбора.
Представляется важным также провести эксперимент, в котором будет устранен вклад направления поворота лица: испытуемым будут предъявлены правые и левые стороны реальных лиц, направленные в одну и ту же сторону.
ВЫВОДЫ
1. Вероятность правильного опознавания пола по изображениям лиц связана с возрастом изображенных на фотографиях людей. Испытуемые способны различать по полу изображения даже младенцев (с эффективностью 59.07%) и 7-летних школьников (с эффективностью 58.26%). Эффективность различения фотографий 20-летних юношей и девушек составляет 88.72%.
2. В случае простой категоризации влияние внешних факторов на процесс восприятия минимально, в случае сложной категоризации роль экспериментальных воздействий может становиться значимой.
3. Категоризация взрослых лиц (юношей и девушек), относится к простым задачам, эффективность этого процесса превышает 88%. В этом случае связи такого экспериментального фактора, как направление поворота головы, с опознаванием пола не выявлено.
4. Задача опознавания пола 7-летних детей по сформированному нами стимульному материалу оказалась такой же сложной для испытуемых, как и опознавание пола новорожденных. Неэкологичность предъявляемых изображений лиц школьников - неестественный вид и отсутствие привычных внешних ключей - осложняет решение задачи. В этом случае вид предъявляемого стимульного материала может оказывать существенное влияние на правильность опознавания пола по лицам. Влияние даже одного отличающегося фактора способно принципиально изменить ситуацию. В эксперименте с фотографиями лиц 7-летних детей замаскированное ухо является феминизирующим фактором для всех испытуемых.
Опознавание пола 7-летних детей по двум видам стимульного материала

Рис. 6. Опознавание пола по фотографиям 7-летних детей с видимыми и замаскированными ушами.
стр. 43
![]()
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Артемцева Н. Г. Восприятие психологических характеристик человека по "разделенному лицу". Автореф. дисс. ... канд. психол. наук. М., 2003.
2. Бутовская М. Л. Тайны пола: Мужчина и женщина в зеркале эволюции. Фрязино: Век-2, 2004.
3. Грюссер О. - Й., Зельке Т., Цинда Б. Функциональная асимметрия мозга и ее значение для искусства, эстетического восприятия и художественного творчества // Красота и мозг. Биологические аспекты эстетики / Под. ред. И. Ренглера, Б. Херцбергер, Д. Энстайна. М.: Мир, 1995.
4. Никитина Е. А. Определение пола новорожденных на основе перцептивных признаков лица и голоса. Автореф. дисс. ... канд. психол. наук. М., 2001.
5. Сергиенко Е. А., Никитина Е. А. Базовые основы тендерных социальных взаимодействий: различение пола новорожденных по лицу и голосу // Вестник РГНФ, 1999. N 4. С. 160 - 169.
6. Сергиенко Е. А., Никитина Е. А. Механизмы восприятия пола по изображениям лиц новорожденных // Психол. журн. 2004. Т. 25. N 4. С. 5 - 13.
7. Сергиенко Е. А. Антиципация в раннем онтогенезе человека. М.: Наука, 1992.
8. Сергиенко Е. А. Раннее когнитивное развитие: новый взгляд. М.: Изд-во Института психологии РАН, 2006.
9. Bruce V., Valentine T. When a nod's as good as a wink: The role of dynamic information in facial recognition // Practical aspects of memory: current research and issues. V. 1 / Ed. M. Gruneberg et al. 1988. P. 169 - 174.
10. Bushnell I.W. R. Mother's face recognition in newborn infants: Learning and memory // Infant and child development. 2001. V. 10. N 1 - 2. P. 67 - 74.
11. Campbell R., Benson Ph. J., Wallace S. B. et al. More about brows: How poses that change brow position affect perceptions of gender // Perception. 1999. V. 28. P. 489 - 504.
12. Cellerino A., Borghetti D., Sartucci F. Sex differences in face gender recognition in humans // Brain Res. Bull. 2004. V. 65. P. 179 - 184.
13. Chronicle E. P., Chan Mei-Yin et al. You can tell by the nose - judging sex from an isolated facial feature // Perception. 1995. V. 24. P. 969 - 973.
14. Mantylia T. Recollecting of faces: remembering differences and knowing similarities // Journ. of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition. 1997. V. 23. N 5. P. 1203 - 1216.
15. Meltzoff A. N., Moore M. X. Imitation of facial and manual gestures by human neonates // Science. 1977. V. 198. P. 75 - 78.
16. О'Toole A. J., Roark D. A., Abdi H. Recognizing moving faces: A psychological and neural synthesis // Trends in Cognitive Sciences. 2002. V. 6. P. 261 - 266.
17. Penton-Voak I. S., Perrett D. I. Female preference for male faces changes cyclically: Further evidence // Evolution and Human Behavior. 2000. V. 21. P. 39 - 48.
18. Schirillo J. Hemispheric asymmetries and gender influence Rembrandt's portrait orientations // Neuropsychologic 2000. V. 38. P. 1593 - 1606.
19. Wild H. H., Barrett S. E., Spence M. J., O'Toole A. J., Cheng Y. D., Brooke J. Recognition and sex categorization of adults' and children's faces in the absence of sex stereotyped cues // Journ. of Experimental Child Psychology. 2000. V. 77. P. 269 - 291.
SEX CATEGORIZATION ACCORDING TO FACE IMAGE PRESENTATION MODE
E. A. Nikitina, PhD, research assistant of Psychological Institute of RAS, Moscow
The role of experimental factors in sex categorization of faces was studied. When pictures of unknown to probationers faces are presented, such two conditions as static or dynamic picture is used in experiment and open or masked ears are on the picture influence significantly on its sex categorization. Face direction (3/4 to the right or 3/4 to the left) doesn't exert influence on sex categorization of adult faces.
Key words: face perception, categorization, sex differences, stimuli presentation modes.
стр. 44
РОЛЬ ТИПА ПРИВЯЗАННОСТИ В ГЕНЕЗЕ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Автор: Е. С. КАЛМЫКОВА, М. А. ГАГАРИНА, М. А. ПАДУН
