
Л-ра по биоэтике ФФ / Занятие 6 / Доклад 1 / Пулмэн о достоинстве
.rtfДОСТОИНСТВО
ЧЕЛОВЕКА,
БОЛЬ И СТРАДАНИЕ
©2001
Д. Пулмэн
Существует, как известно, общее моральное обязательство предотвращать или облегчать человеческие страдания; оно обладает осо-бым смыслом для врачей и других медицинских работников. Основания этого морального обязательства уже давно являются предметом дискуссий. Примечательно, однако, что особая роль в этих дискуссиях отводится понятию человеческого достоинства. Часто считают, что неукротимая боль и страдание лишают человеческое существо достоинства. Иногда даже полагают, что смерть предпочтительнее, чем жизнь, лишенная достоинства. Именно из этого исходит принятый в 1997 году в штате Орегон "Закон о смерти с достоинством"1, и вообще к этому доводу часто прибегают защитники "права на смерть". Вместе с тем принято считать: в том, как человек ведет себя перед лицом страдания и смерти, проявляется его чувство досто-инства. Можно утверждать, что желание жить несмотря на боль и страдание не только не умаляет, но и, напротив, выражает и упрочи-вает достоинство.
Такого рода аргументы исходят из определенных предпосылок, касающихся природы достоинства, боли и страдания и взаимоотно-шений между ними. Цель данной статьи — выявить некоторые из этих предпосылок. Мы, в частности, хотим показать, что человече-кое достоинство может выступать в качестве основания наших мо-ральных обязательств облегчать боль и страдания. Для этого обсудим вопрос о этическом измерении человеческого достоинства. В ХVIII веке Кант представил достоинство человеческой природы как саму основу морали2. Хотя впоследствии было немало дискуссий об основаниях морали в целом и о кантовском понимании морали и достоинства в частности, понятие человеческого достоинства до сих пор остается фундаментальным понятием морали. Как лет 30 назад заметил Херберт Шпигельберг, "...человеческое достоинство, видимо, остается одной из немногих общих ценностей в нашем мире философского плюрализма... Главная проблема сегодня — это отсутствие у нас достаточной ясности по поводу того, что же значит человеческое достоинство"3. Это замечание вполне уместно и сегодня.
Две концепции достоинства
Понятие "достоинство" имеет разные значения в обычном слово-употреблении и в моральных рассуждениях. С одной стороны, апел-ляцию к "неотъемлемому достоинству" каждого человека использу-
ют для обоснования универсальных прав человека (например, упоминание о правах человека содержится в преамбуле Всеобщей декларации прав человека ООН). В этом смысле достоинство понимается как универсальное моральное качество (или черта), которое неотъемлемо и неотчуждаемо. Ничего не требуется, чтобы заслужить его, и ничто не может его отнять. Поскольку достоинство в этом смысле присуще каждому человеческому существу независимо от его статуса, положения и любых других привходящих качеств, его можно назвать "базисным достоинством".
С другой стороны, можно говорить о достоинстве и в другом, более узком смысле. Это достоинство связано с личными целями и социальными обстоятельствами, с местом данного человека в социальном мире. Это достоинство может упрочиваться при соответствующем поведении человека, но его можно и утратить либо унизить неблагоразумными поступками. Часто, впрочем, на это достоинство влияют события, над которыми сам человек не властен. Его достоинство, например, может пострадать от изнурительной болезни. Именно в таком смысле оно понимается, когда обсуждается вопрос о "смерти с достоинством". В таком смысле мы будем говорить и о "личностном достоинстве".
Слова "базисное" и "личностное" не отражают всего многообразия значений, которыми можно наделить такое сложное понятие, как "достоинство". Существуют, например, различные социально сконструированные понятия достоинства, которые имеют отношение не к человечеству в целом и не к какому-либо отдельному индивиду, а к некоторой этнической или социальной группе. Таким образом, как в конкретном случае определяется "личностное достоинство", зависит от того, насколько узко или широко при этом определяется "личность". Вернемся к этой теме после рассмотрения взаимоотношения между понятиями "личностное достоинство", "я" и "страдание".
Как объяснить разнообразие значений слова "достоинство" применительно к человеку? Представляется, что его порождает само богатство этого понятия. Вслед за Колнаи можно полагать, что понятие человеческого достоинства возникает на пересечении морального и эстетического4. То есть оно содержит как моральные, так и эстетические коннотации. В этом отношении современный термин "достоинство" сравним с греческим "to kalon", который заключает в себе два смысла — этического блага и эстетически прекрасного. Понятие "достоинство" охватывает сходный диапазон ценностей, и придаваемые ему значения будут зависеть от того акцента, который ставится в конкретном контексте.
Мы могли бы представить различные коннотации, придаваемые понятию "достоинство", в виде континуума. Одна граница континуума при этом будет относиться к моральному, а другая — к эстетическому. Базисное достоинство, как оно было описано выше, очевидно, относится к моральной границе. Это достоинство содержит коннотации, отсылающие к чему-то объективному и абсолютному. Ориентированные на личностное трактовки достоинства, напротив, ближе к границе, которая соответствует эстетическому. Таким образом, высказывания о личностном достоинстве по своей природе более субъективны и зависимы от обстоятельств. Хотя в повседневном общении, говоря о человеческом достоинстве, мы обычно имеем в виду нечто относящееся и к моральному, и к эстетическому. Противопо-
ставление этих аспектов понадобится, когда, обратившись к проблемам боли и страдания, мы будем использовать различные трактовки понятия достоинства.
Взаимоотношение боли и страдания
При попытке прояснить понятия боли и страдания прежде всего встает вопрос о том, как различить их, не упустив из виду их взаимосвязь. Хотя в медицинской литературе термины "страдание" и "боль" обычно встречаются вместе, Кэссел отмечает, что феноменологически они различны5. Боль не обязательно влечет за собой страдание. Женщина при родах может испытывать очень сильные боли, тем не менее она будет воспринимать их как "вознаграждение". Она, стало быть, не будет описывать свои боли как страдания. И напротив, можно страдать, не испытывая боли. Например, пациент может страдать в результате потери функции из-за изнурительной болезни или травмы, как бывает, скажем, при тяжелом поражении спинного мозга, хотя физическая боль при этом может отсутствовать либо эффективно блокироваться.
Будучи различными, феномены боли и страдания тесно связаны. Кэссел отмечает: "...Люди, испытывающие боль, часто сообщают о своих страданиях от нее, когда боль выходит из-под контроля, когда она становится непреодолимой, когда источник боли неизвестен, когда ее источник внушает отвращение или когда боль хроническая.
Во всех этих ситуациях люди воспринимают боль как угрозу своему дальнейшему существованию — не только собственной жизни, но и собственной личностной целостности. Такую связь между болью и страданием подтверждает тот факт, что от страдания можно избавиться даже при продолжающейся боли, если выяснить источник боли, изменить ее значение, продемонстрировать, что ее можно контролировать и что вскорости она прекратится"6.
Здесь следует высказать несколько соображений. Во-первых, страдание испытывается личностью, а не телом. "Страдание — это следствие того, что мы являемся личностями, — утверждает Кэссел, — тела не страдают, страдают личности"7. Во-вторых, критическая связь между болью и страданием включает способность делать боль осмысленной. То есть что значит — вот эта боль? Люди, испытывающие боль, страдают, поскольку стремятся понять смысл своих переживаний. Но страдание касается не только тех, кто испытывает боль. Те, чья жизнь протекает вместе с жизнью человека, испытывающего боль, могут страдать вместе с ним. стремясь сообща осмыслить болезненный опыт в целом и индивидуальную боль в частности. В-третьих, страдание угрожает целостности личности, как того, кто испытывает боль, так и тех. кто связан с ним. Кан и Стивс отмечают: «Страдание мы испытываем тогда, когда под угрозой оказывается некоторый критический аспект нашего собственного "я", бытия или существования. Значение этой угрозы заключается в том, что она затрагивает целостность собственного жизненного опыта личностной идентичности... Вызывается ли страдание болью, больше зависит от того, какое значение индивид придает боли в отношении сохранения собственной идентичности, чем от силы, степени или типа боли»". Это замечание о значении, придаваемом переживанию боли, принципиально важно для понимания природы страдания.
Для описания процессов "страдания" мы используем такие понятия, как "симпатия" и "сострадание". С предлагаемой здесь точки зрения симпатия и сострадание являются частью процесса, в ходе которого мы стремимся сообща придать смысл боли тех, кто живет рядом с нами. С идеальной точки зрения, "придание смысла" такому опыту включает попытку ввести его в осмысленное повествование, которое может быть общим как для испытывающего боль, так и для симпатизирующих и сострадающих болящему. Именно этот процесс переплетения таких опытов в связное и осмысленное целое и понимается здесь как эстетический проект. Это процесс и проект, которые затрагивают наше общее достоинство.
Базисное достоинство и моральные обязательства перед лицом боли и страдания
В данной статье нас прежде всего интересует эстетическая размерность достоинства. Попытаемся описать, как различные восприятия личностного достоинства могут влиять на нашу реакцию на человеческие страдания. Необходимо, однако, сказать несколько слов и о моральной размерности. Ведь, как уже отмечалось, термин "достоинство" обладает и моральными, и этическими коннотациями. Более того, именно мораль налагает ограничения на то, как мы реагируем на боль и страдания других.
Несомненно, наиболее влиятельной фигурой в истории западной философии, если говорить о современном понимании достоинства, является Иммануил Кант. В своих трудах по этике Кант стремился установить самые основы морали. С его точки зрения, мораль не может корениться в какой-либо преходящей черте феноменального мира, а должна пониматься исключительно a priori. В "Метафизике морали" (1785) мыслитель попытался показать, как это возможно. Кант утверждал, что интеллектуальные способности в сочетании с автономной волей позволяют человеку открыть моральный закон. В свою очередь, именно эта способность придает человечеству достоинство. "...Следовательно, автономия является основанием достоинства человека и всякого рационального создания"9.
Согласно Канту, человеческие существа реализуют свою прирожденную способность к автономии в ноуменальном мире. Именно это сообщает человечеству достоинство. Напротив, современные понятия как достоинства, так и автономии связаны с изменчивыми чертами феноменального мира. Уважение достоинства людей означает, что мы должны уважать их выбор. Люди, не имеющие способности выбора, или те, у кого она так или иначе ограничена либо нарушена, считаются лишенными достоинства. Обладающие же способностью выбора могут чувствовать, что их достоинство попирается, если их выбор не учитывается. Современные трактовки достоинства и автономии близки к тому, что мы назвали "личностным достоинством". В кантовском же толковании фиксируется наше понятие "базисного достоинства".
Кантовское понятие достоинства и проистекающая из него трактовка автономии были выдвинуты для обоснования теории морали. Если говорить о нашем общем моральном обязательстве предотвращать или смягчать боль и страдание, то кантовская концепция достоинства выступает как основополагающая моральная идея, побуждающая нас реагировать на боль и страдания других. Воспринимая
наших
собратьев как цели-в-себе, мы признаем,
что они, как и мы, наделены
достоинством. Именно в этом общем для
нас достоинстве коренится то наше
чувство, которое обязывает нас
действовать, когда
мы видим боль и страдание. Однако, с
точки зрения Канта, нашу моральную
ценность не может отменить ничто. А
значит, Кант едва ли согласился бы с
современным аргументом: те, у кого
вследствие тяжелой
болезни ограничена способность к
автономному выбору, так
или иначе лишены достоинства.
Устанавливая фундаментальную моральную ценность (то есть достоинство) всего человечества в качестве основы для наших взаимных моральных обязательств, Кант пользовался трансцендентальными аргументами. Не всем, однако, эффективность кантовского подхода представляется убедительной. Так, Эрих Леви критикует Канта за то, что тот предписывает моральные обязательства, опираясь на уважение к автономии10. С точки зрения Леви, кантовская этика игнорирует огромное количество существ, по отношению к которым мы определенно имеем обязательства. В частности, Леви беспокоит то обстоятельство, что животные и даже слабоумные или индивиды, не способные устанавливать для себя законодательство, могут остаться за пределами кантовского морального сообщества. В качестве альтернативы Леви предлагает "биологически обоснованную этику", которая закрепляет моральные обязательства, опираясь на общую способность страдать". "Такое закрепление, — говорит Леви, — отличается от кантовского тем, что речь идет не о рациональности или способности к саморегуляции; эти существа объединяет и дает им сходный (если не общий) моральный статус то, что все они обладают способностью страдать"12.
В связи с этими соображениями Леви можно сказать, что он, видимо, не различает понятия боли и страдания. С развиваемой нами альтернативной точки зрения страдание является условием или следствием статуса личности. С этой точки зрения не-личности не страдают, даже если они могут испытывать боль. Способность чувствовать боль — прежде всего физиологический феномен, тогда как способность страдать обусловлена статусом личности. Ясно, что Леви имеет в виду именно способность переживать боль, а не страдание. Несмотря на это смешение критика Леви в адрес Канта и его биологически обоснованная альтернатива поднимают несколько вопросов, требующих обсуждения.
Во-первых, важно различать морального агента (того, кто действует) и морального пациента (того, на кого направлено действие). Трансцендентальный аргумент Канта, очевидно, направлен на то, чтобы идентифицировать моральных агентов, то есть тех, кто способен распознать основания морального действия и, опираясь на них, определить смысл вытекающей из них моральной обязанности. Сфера моральных действий, таким образом, ограничена теми, кто обладает автономной волей и способен к рациональной рефлексии. Можно полагать, что с этим соображением согласится даже Леви. Во-вторых, проводимая Кантом метафизическая дедукция верховного принципа морали осуществляется в ноуменальной области, населенной моральными агентами, которые полностью лишены каких-либо специфических целей или стремлений. Здесь моральный агент суверенно устанавливает моральный закон и вместе с тем подчиняется ему. В-третьих, эта метафизическая дедукция есть формальный процесс, который, как полагает Кант, позволит получить фундамен-
тальный принцип морали, а именно категорический императив. Эта ноуменальная активность, следовательно, порождает основания для морального действия. Она никоим образом не предназначена для выработки критерия, позволившего бы идентифицировать всех моральных пациентов, по отношению к которым возникают моральные обязательства.
Напротив, Леви в явном виде очерчивает круг моральных пациентов, а именно всех существ, по отношению к которым моральные агенты имеют моральные обязательства. Этот круг обнаруживается в феноменальном мире и характеризуется тем, что Леви обозначает способностью страдать, но что лучше понимать как способность испытывать боль. В конечном счете "биологически обоснованную этику" Леви не обязательно понимать как альтернативу кантовской; она дополняет и сопровождает трансцендентальную этику Канта.
Итак, кантовская концепция достоинства устанавливает моральную основу для наших обязательств облегчать боль и страдание. Она близка к тому, что мы обозначили как "базисное достоинство". Кантовское формальное понятие достоинства, однако, ограничено трансцендентальной областью. Его главный фокус — моральная деятельность. Биологически обоснованная этика Леви зарождается в феноменальном мире и дополняет кантовскую в установлении той сферы, к которой принадлежат моральные пациенты, через способность испытывать боль. Однако природа и степень наших моральных обязательств перед лицом такой боли остается открытой для дискуссий. С этой целью мы теперь обратимся к эстетическому измерению понятия человеческого достоинства.
Личностное достоинство и страдающее "я"
Базисное достоинство в его кантовской формулировке — это понятие, относящееся к виду. Оно применяется ко всем людям безотносительно их особых качеств или привходящих обстоятельств. Напротив, личностное достоинство — это понятие, в большей мере относящееся к социальному контексту. Обладает ли некто достоинством в этом смысле — зависит от множества социально конструируемых понятий и установок. Это достоинство, которое может становиться больше или меньше в зависимости от обстоятельств жизни. Именно личностное достоинство обычно имеется в виду, когда мы думаем о человеческом страдании, поскольку часто считается, что некоторые виды и степени страдания подрывают саму способность достойного существования.
Быть личностью — значит обладать рефлексивным сознанием. Именно сознательная рефлексия позволяет человеческим существам формировать чувство "я" — существенное условие личности. Наряду с этим сознательная рефлексия позволяет личности размышлять о целях и проектах, которые конституируют это чувство "я", и распознавать, когда осуществление этих целей и проектов оказывается недостижимым. Способность "я" (то есть эго) выйти за пределы данного конкретного опыта и находить значение в этом опыте или наделять значением этот опыт есть то, о чем Гуссерль говорит как о трансцендентальной субъективности13.
Трансцендентальная субъективность имеет как интрасубъективные, так п интерсубъективные следствия. Интрасубъективные следствия выражаются в том, каким образом рефлексивное, интенцио-
нальное
самосознание участвует в процессе
наделения опыта смыслом.
Многое в этом опыте является конститутивным
для "я", поскольку
служит для определения индивидом смысла
того, кто он есть как личность. Переживание
боли и страдания может разрушить
целостность
"я". "Страдать — это значит быть
приниженным или находиться
под угрозой в качестве личности"14.
В свою очередь, интерсубъективные
следствия проявляются в отношении тех
социальных контекстов, в которых
индивидуальные "я" включаются в
проекты,
задающие идентичность, значение и цель.
Но интерсубъективность проявляется
также и в том, каким образом общие
значения делают
возможными разделенное страдание.
Интерсубъективность — это самая основа
сострадания. Цитата из классической
работы Клейнмана
"Рассказы о болезнях" ("The
Illness
Narratives")
удачно передает эту мысль: "Повествования
о болезнях информируют нас о том,
как возникают, регулируются и делаются
осмысленными жизненные
проблемы. Они также сообщают, каким
путем культурные ценности
и социальные отношения формируют то,
как мы воспринимаем
и контролируем наши тела, обозначают
и категоризируют телесные симптомы,
интерпретируют жалобы в конкретном
контексте жизненной
ситуации; мы выражаем наши затруднения
посредством телесных
идиом, которые одновременно специфичны
для конкретных культурных миров и
ограничены обстоятельствами нашего
существования"15.
Проекты, конституирующие "я", могут быть сорваны из-за болезни и сопутствующих ей болей, которые лишают человека физической способности к тому, чтобы пытаться обрести смысл существования. Но такие попытки могут быть сорваны и иными факторами. Страдания также могут порождаться психосоциальными, экономическими и иными факторами, которые мешают индивиду реализо-вывать важные для него жизненные проекты. Это опять-таки иллюстрирует возможность страдания при отсутствии физической боли. Более того, проекты, конституирующие "я", мы обычно разделяем с другими людьми. Например, родители часто рассматривают совместное воспитание своих детей как жизненный проект, наделенный значением. Если один из родителей заболевает и оказывается не в состоянии выполнять эту роль, оба родителя будут страдать от того, что лишены способности реализовать этот проект, как задумывали. Страдать будут и их дети. Сфера страдания иррадиирует за пределы индивидуальной боли и затрагивает жизни всех, кто вовлечен в проект, который мы называем жизнью.
Различение феноменологии страдающего "я" и опыта переживания телесной боли позволяет прийти к важным моральным следствиям. Рассмотрим в качестве примера историю Ирвинга Золы16. Из-за полиомиелита, поразившего его в юности, Зола провел всю свою взрослую жизнь в инвалидном кресле. Периодически повторяющаяся боль в правом плече побудила его проконсультироваться с ортопедом. После ряда тестов врач попросил его еще раз объяснить, когда он чувствует боль сильнее всего. "Когда я бросаю футбольный мяч своему сыну", — был ответ Золы. "Сколько лет вам сейчас?" — спросил доктор. "Скоро будет пятьдесят", — был ответ. "Пора уже забыть о футболе", — бестактно порекомендовал доктор.
Если большинство людей, способных управлять собственным телом, отнеслось бы к такой медицинской рекомендации спокойно, то Зола пришел во вполне понятное негодование. Его доктор не смог
различить боль и страдание. Соответственно он не смог понять, что не боль в плече была для Золы источником страдания. Для отца, пораженного полиомиелитом, способность бросать футбольный мяч сыну стала проектом, делающим жизнь осмысленной. Значит, боль в плече отца была только симптомом, а не причиной его страдания. Можно было бы сказать, что само чувство личностного достоинства у Золы в некотором смысле и формировалось, и выражалось в этих занятиях с собственным сыном.
Хотя мы не можем чувствовать боль другого, общие значения, порождаемые интерсубъективным сознанием, позволяют нам страдать совместно с другим. Это основа сострадания. Поскольку в сущность страдания входит угроза дезинтеграции или надвигающаяся потеря "я", сострадательная забота включает процесс совместной работы с теми, кто испытывает боль, чтобы восстановить или как-то иначе исправить потерю, вызываемую увечьем или болезнью.
Кэссел говорит о трансценденции как наиболее действенном способе восстановить целостность личности после потери, вызванной увечьем или болезнью17. Трансценденцию можно рассматривать как способность сознания выйти за пределы экзистенциального переживания боли и поместить это переживание в более широкую перспективу значения и цели. Для некоторых таким более широким горизонтом значения является религия. Основываясь на рассказах пациентов и чтении их сообщений о своих страданиях, Фоли выделяет 11 установок в отношении страдания: шесть из них включают то или иное упоминание Бога, в частности карательную установку ("Бог наказывает меня за мои грехи"), испытательную установку ("Бог испытывает мою верность") и установку на личностный рост ("Бог проводит меня через это, чтобы я стал более сильным")18. Трансценден-ция, впрочем, не всегда бывает религиозной. Так, Кэссел упоминает о патриотизме как секулярном выражении трансценденции. Но и другие, менее грандиозные (хотя не обязательно менее важные) проекты, как упомянутый ранее совместный родительский опыт, могут служить интерсубъективным источником значения и цели. Поскольку наше чувство личностного достоинства получает завершение в жизнях других, то, как мы реагируем на боль и страдание друг друга, либо возвышает, либо умаляет это достоинство.
Эстетика страдания
Обращаясь к таким понятиям, как органическое единство, гармония, порядок, целостность, мы можем сказать нечто об эстетическом измерении понятия "достоинство". Кэссел использует эти понятия в своих размышлениях об эстетике медицины19. Боль и страдание грозят разрушить гармонию и умалить достоинство. Любая угроза целостности личности, болезненная она или нет, может повлечь страдание. "Болезнь, — говорит Франк, — прерывает жизнь, и быть больным тогда означает жить с постоянными разрывами"20. Однако прерывается жизнь не только того, кто в своем теле испытывает болезнь. Болезнь затрагивает жизни всех тех, кто живет рядом с тем, чье тело (или душа) больно. Нарушается единство всех этих жизней.
То. каким образом боль и страдание интерпретируются и интегрируются в объединенное существование страждущего и тех, кто рядом с ним. в значительной степени определяет, будут ли симптомы усиливаться или ослабевать, будет ли увеличиваться или ослабевать
беспомощность,
будет ли затрудняться или облегчаться
лечение. От этого зависит и то, будет
ли сохраняться и укрепляться достоинство
или
же оно будет унижаться. Этическое и
эстетическое испытание, представленное
болью и страданием, предполагает
восстановление того,
что было разрушено.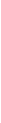
Чтобы полностью оценить, как эстетические понятия включаются в наше понимание личностного достоинства, мы должны вернуться к понятию "я". В своей работе «Страдающее "Я"» ("Suffering Self) Джудит Перкннс исследует образ тела как страдающего "я", доминировавший в раннехристианскую эпоху21. Именно этот образ страдающего тела, пишет Перкинс, "помог христианству достичь социальной власти, поскольку позволил сконструировать субъекта, который отвечал бы на его зов". Дело здесь в том, что то, как конструируется "я" в отношении и к телу, и к объемлющей социальной среде, налагает ограничения на способы нашего реагирования на страдание. Перкинс отмечает, что в эллинистическом мире начиная с V века до н. э. «превалирующий культурный дискурс представлял концепцию человеческого "я" как рационального разума/души, осуществляющего контроль над телом. Потребности и желания тела подавляются разумом/душой, достигающим того совершенства, которое воображается в рациональном порядке космоса»22. Эта концепция противостоит "я"-концепции, которая представлена в культурном дискурсе, характерном для начала христианской эры. В итоге же возникло представление о "разуме/душе, соединенном с телом, которое подвержено боли и страданию, нуждается во внешнем внимании и направлении"23.
