
POSTANOVLENIYa_KS_
.pdf71
|
саморегулируемая организация обязана обеспечить свободный доступ заинтересованных лиц к проведению |
|
процедуры отбора кандидатуры арбитражного управляющего, а решение о включении арбитражных |
|
управляющих в список кандидатур принимается саморегулируемой организацией на коллегиальной основе. Для |
|
того чтобы гарантировать при проведении процедуры отбора кандидатуры арбитражного управляющего права |
|
заинтересованных лиц, прежде всего - кредиторов, этих норм недостаточно. |
|
Между тем, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 24 февраля 2004 года |
|
N 3-П по делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона "Об |
|
акционерных обществах", в силу конституционных принципов правового государства и неприкосновенности |
|
частной собственности при защите имущественных прав, затрагивающих значительное число субъектов |
|
экономической деятельности, возрастает значение надлежащих юридических процедур. |
|
Поскольку процедура отбора арбитражных управляющих саморегулируемой организацией предполагает |
|
обеспечение свободного доступа к ней заинтересованных лиц, упомянутых в пункте 2 статьи 45 Федерального |
|
закона "О несостоятельности (банкротстве)", регулирование ее проведения не может быть полностью передано |
|
саморегулируемой организации. Признание абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О |
|
несостоятельности (банкротстве)" не противоречащим Конституции Российской Федерации не препятствует |
|
федеральному законодателю совершенствовать эту процедуру, с тем чтобы обеспечить права |
|
заинтересованных лиц и исключить возможность злоупотребления правами со стороны должностных лиц |
|
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. |
Решение КС РФ |
1. Признать абзац восьмой пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О несостоятельности |
|
(банкротстве)", устанавливающий обязанность арбитражного управляющего быть членом |
|
одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в качестве условия |
|
утверждения в должности арбитражного управляющего по решению арбитражного суда, не |
|
противоречащим Конституции Российской Федерации. |
Особое мнение |
Особое мнение судьи Кононова А.Л. Аргументы и выводы Конституционного Суда по данному делу не являются, |
|
по нашему мнению, убедительными и обоснованными и вызывают возражения. В данном Постановлении |
|
Конституционный Суд употребил слово "публичный" не менее 30 раз, однако явно чрезмерная частота его |
|
употребления вовсе не доказывает, что характеризуемые явления относятся к сфере именно публичного права. |
|
В одних случаях Конституционный Суд отождествляет публичный интерес с его синонимом - "общественный" |
|
(интерес общества), в других явно имеется в виду всего лишь открытый социальный характер деятельности, |
|
предназначенной для широкого круга лиц. Подмена этих смыслов приводит к ошибочным выводам и неверному |
|
установлению правовой природы соответствующих отношений. |
|
Так, не представляется достаточно обоснованным и убедительным вывод о публично-правовой природе |
|
института банкротства только лишь на основании того, что противоречия интересов кредиторов требуют |
|
законодательного регулирования гарантий их прав. Институт несостоятельности (банкротства) относится к |
|
отрасли частного (гражданского) права не только в силу доктрины и давней традиции, но прежде всего потому, |
|
что по сути является феноменом рыночной экономики, лежит в сфере хозяйственно-предпринимательской |
|
деятельности и связан с удовлетворением имущественных интересов и требований кредиторов как субъектов |
|
гражданского оборота. Основы регулирования правил банкротства содержатся в Гражданском кодексе |
|
Российской Федерации (статьи 25, 65) и развиваются в Федеральном законе "О несостоятельности |
|
(банкротстве)", имеющем прямую отсылку к Гражданскому кодексу Российской Федерации и, следовательно, по |
|
определению связаны с регулируемыми им имущественными отношениями, не основанными на |
|
административном или ином властном подчинении одной стороны другой, т.е. не основанными на публичном |
|
праве. |
|
Нет никаких оснований утверждать, что и арбитражный управляющий обладает какими-либо |
|
административными или иными государственно-властными полномочиями, и приписывать ему публично- |
|
правовой статус. Непонятно, почему Конституционный Суд полагает, что обязанности арбитражного |
|
управляющего, определенные, в частности, пунктами 4 и 6 статьи 24 Федерального закона "О |
|
несостоятельности (банкротстве)", - принимать меры по защите имущества должника, анализировать его |
|
финансовое состояние, действовать добросовестно и разумно и т.д., - носят публично-правовой характер. |
|
Очевидно, это не так. Все эти требования прямо вытекают из Гражданского кодекса Российской Федерации. |
|
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" исходит из того, что арбитражный управляющий |
|
обязан иметь регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, т.е. лица, осуществляющего |
|
индивидуальную деятельность от своего имени и на свой риск. Его обязанности, в том числе перечисленные |
|
выше, вполне укладываются в схему доверительного управления имуществом, т.е. отношений, также |
|
регулируемых гражданским правом (глава 53 Гражданского кодекса Российской Федерации). Что же касается |
|
социальной значимости его деятельности или публичных целей и интересов, на которые она направлена, то и |
|
любая другая профессия, например, дворника, вполне отвечает тем же критериям, однако никто на этом |
|
основании не наделяет его публично-правовыми функциями. Таким образом, общий вывод, который |
|
вытекает отсюда, противоположен выводу Конституционного Суда. На деятельность |
|
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих полностью распространяется статья 30 |
|
Конституции Российской Федерации, включая запрет обязательного членства или пребывания в них |
|
помимо своей воли и желания. |
|
|
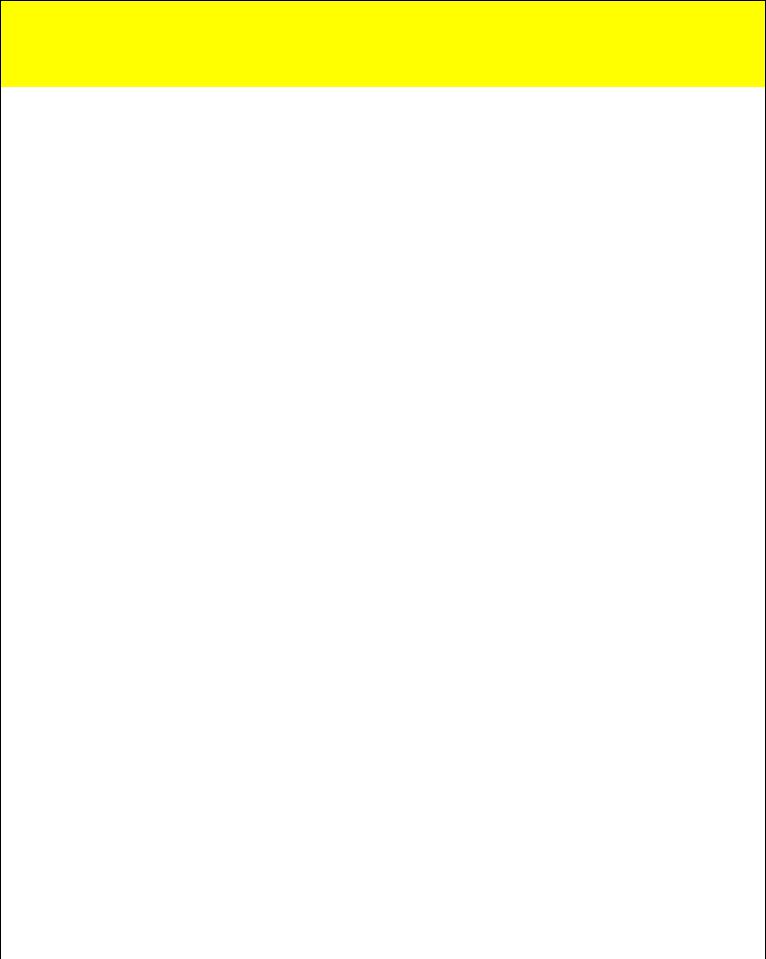
72
Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2007 N 11-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 3, 18 и 41 Федерального закона "О политических партиях" в связи с жалобой политической партии "Российская коммунистическая рабочая партия - Российская партия коммунистов"
Заявитель |
политическая партия "Российская коммунистическая рабочая партия - Российская партия |
|
коммунистов" |
Основание |
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба политической партии "Российская коммунистическая |
рассмотрения |
рабочая партия - Российская партия коммунистов" на нарушение конституционных прав и свобод |
|
абзацем третьим пункта 2 статьи 3, подпунктом "ж" пункта 1 статьи 18 и подпунктами "г", "д" пункта 3 |
|
статьи 41 Федерального закона "О политических партиях". Основанием к рассмотрению дела |
|
явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции |
|
Российской Федерации оспариваемые в жалобе законоположения. |
Позиция |
По мнению заявителя, установленный абзацем третьим пункта 2 статьи 3 Федерального закона "О |
заявителя |
политических партиях" необходимый минимальный предел численности членов политической партии |
|
является чрезмерным и существенно ограничивает реализацию гражданами Российской Федерации |
|
конституционного права на объединение путем создания общероссийских политических партий, чем |
|
умаляет их право на представительство интересов в законодательных (представительных) органах |
|
государственной власти на федеральном и региональном уровнях больших социальных слоев |
|
населения; предусмотренное подпунктом "ж" пункта 1 статьи 18 названного Федерального закона |
|
требование о представлении списка членов регионального отделения политической партии для |
|
государственной регистрации в уполномоченный орган государственной власти является формой |
|
государственного контроля над идеологическим многообразием, над свободой мысли и слова, |
|
мнениями и убеждениями, не совпадающими с официальной позицией на существующий |
|
политический, экономический, социальный порядок в стране; подпункты "г", "д" пункта 3 статьи 41 |
|
названного Федерального закона, предусматривающие принудительную ликвидацию политической |
|
партии в случае несоответствия численности ее членов установленным требованиям, являются |
|
неконституционными постольку, поскольку неконституционны положения абзаца третьего пункта 2 |
|
статьи 3 и подпункта "ж" пункта 1 статьи 18. Именно эти законоположения, примененные в его деле, |
|
заявитель просит признать противоречащими статьям 1 (часть 1), 2, 13 (часть 3), 15 (части 1 и 4), 17, |
|
19 (часть 2), 28, 29 (части 1 и 3), 30 (часть 1), 32 (части 1 и 2), 45 (часть 1) и 55 (часть 2) Конституции |
|
Российской Федерации. |
Позиция КС РФ |
1 февраля 2005 года N 1-П, деятельность политических партий непосредственно связана с организацией и |
|
функционированием публичной (политической) власти, они включены в процесс властных отношений и в то же |
|
время, будучи добровольными объединениями в рамках гражданского общества, выступают в качестве |
|
необходимого института представительной демократии, обеспечивающего участие граждан в политической |
|
жизни общества, политическое взаимодействие гражданского общества и государства, целостность и |
|
устойчивость политической системы. Провозглашая политический плюрализм и гарантируя равенство |
|
политических партий перед законом независимо от изложенных в их учредительных и программных |
|
документах идеологии, целей и задач, а также возлагая на государство обязанность обеспечивать |
|
соблюдение прав и законных интересов политических партий, Конституция Российской Федерации |
|
вместе с тем непосредственно не определяет особенности создания, деятельности, реорганизации и |
|
ликвидации политических партий, как не устанавливает и условия и порядок реализации гражданами |
|
Российской Федерации права на объединение в политические партии. Согласно пункту 2 статьи 3 |
|
Федерального закона "О политических партиях" в первоначальной редакции политическая партия должна была, |
|
в частности, иметь региональные отделения более чем в половине субъектов Российской Федерации (абзац |
|
второй), общую численность не менее десяти тысяч членов политической партии и более чем в половине |
|
субъектов Российской Федерации - региональные отделения численностью не менее ста членов политической |
|
партии (абзац третий). При этом пунктом 6 статьи 47 названного Федерального закона устанавливалось, что по |
|
истечении двух лет со дня его вступления в силу межрегиональные, региональные и местные политические |
|
общественные объединения утрачивают статус политического общественного объединения и действуют |
|
соответственно как межрегиональные, региональные или местные общественные объединения на основании их |
|
уставов, которые применяются в части, не противоречащей данному Федеральному закону. Тем самым |
|
стимулировались объединительные процессы и создавались предпосылки для формирования |
|
крупных политических партий, реально выражающих интересы тех или иных социальных слоев, и |
|
гарантировалась конкуренция политических партий на началах равноправия на выборах депутатов |
|
Государственной Думы. Введение процентного барьера (так называемый заградительный пункт), |
|
означающего некоторое ограничение пропорциональности представительства, позволяет, как ранее |
|
указал Конституционный Суд Российской Федерации применительно к соответствующим нормам |
|
Федерального закона от 21 июня 1995 года "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального |
|
Собрания Российской Федерации", избежать раздробления депутатского корпуса на множество мелких |
|
групп, с тем чтобы обеспечить нормальное функционирование парламента, стабильность |
|
законодательной власти и конституционного строя в целом (Постановление от 17 ноября 1998 года N 26- |
|
П). Таким образом, в действующем правовом регулировании избирательной системы политические |
|
партии как носители соответствующей публичной функции приобретают качество единственных |
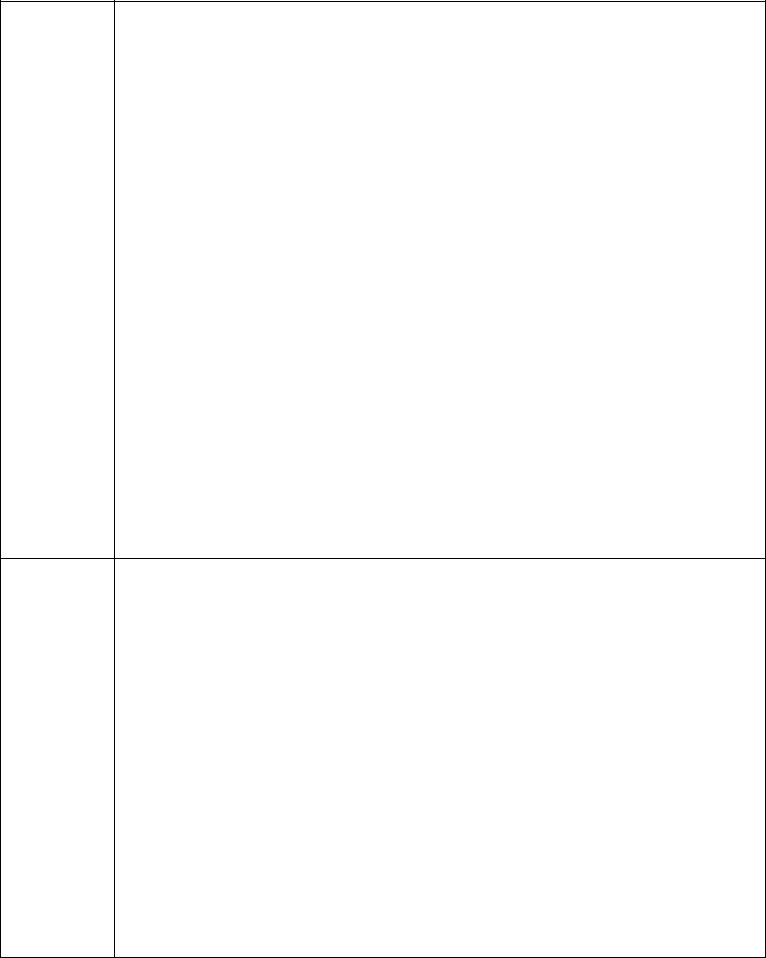
73
коллективных субъектов избирательного процесса, при том что они могут реализовать свое право на участие в осуществлении государственной власти и ее институционализации только в установленных Конституцией Российской Федерации формах и только на определенный срок, и ни одна из них не может обладать монопольным положением. Развивая приведенную правовую позицию в Постановлении от 1 февраля 2005 года N 1-П, Конституционный Суд Российской Федерации указал на то, что федеральный законодатель, устанавливая критерии численности политических партий, призван действовать так, чтобы, с одной стороны, эти критерии не были чрезмерными и не посягали на само существо (основное содержание) права граждан на объединение, а с другой - чтобы они были способны выполнять свои уставные задачи и функции именно в качестве общенациональных (общероссийских) политических партий, т.е. в конечном счете должен руководствоваться критерием разумной достаточности, вытекающим из принципа соразмерности.
В Постановлении от 1 февраля 2005 года N 1-П Конституционный Суд Российской Федерации признал установленные Федеральным законом "О политических партиях" (в редакции Федерального закона от 21 марта 2002 года N 31-ФЗ) количественные критерии создания политической партии не противоречащими Конституции Российской Федерации. Одновременно Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что эти количественные критерии могут приобрести неконституционный характер только в том случае, если результатом их применения окажется невозможность реального осуществления конституционного права граждан на объединение в политические партии, имеющие в условиях действия конституционного принципа многопартийности равные правовые возможности для участия в политическом волеобразовании многонационального народа Российской Федерации. По смыслу изложенных правовых позиций
Конституционного Суда Российской Федерации, федеральный законодатель вправе устанавливать требования к численному составу политических партий исходя из конкретно-исторических условий развития Российской Федерации; данные требования, предъявляемые к политическим партиям, могут меняться в ту или иную сторону, поскольку они не произвольны, а объективно обусловлены решаемыми в законодательном порядке задачами в сфере развития политической системы и обеспечения ее адекватности принципам конституционного строя Российской Федерации и не влекут отмену или умаление конституционного права граждан на объединение в политические партии или его несоразмерное ограничение. Таким образом, абзац третий пункта второго статьи 3 Федерального закона "О политических партиях", закрепляющий требования к численности политической партии и ее региональных отделений, и находящиеся в нормативном единстве с ним подпункт "ж" пункта 1 статьи 18 и подпункты "г", "д" пункта 3 статьи 41 названного Федерального закона, регулирующие условия и порядок государственной регистрации регионального отделения политической партии и последствия изменения статуса политических общественных объединений, не отвечающих требованиям, предъявляемым к политической партии, - в системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи с положениями статей 1, 2, 3, 13, 15 (часть 4), 17, 19, 28, 29, 30 и 32 (части 1 и 2), 45 (часть 1) и 55 Конституции Российской Федерации и законодательства об общественных объединениях, выборах и референдумах, а также с учетом конкретно-исторических условий становления в Российской Федерации как демократическом федеративном правовом государстве с республиканской формой правления устойчивой многопартийной системы - нельзя признать чрезмерно ограничивающими право на объединение в политические партии.
Решение КС РФ 1. Признать не противоречащими Конституции Российской Федерации положения абзаца третьего пункта 2 статьи 3 Федерального закона "О политических партиях", которыми устанавливаются требования к численности политической партии и ее региональных отделений, и находящиеся в нормативном единстве с этими положениями подпункт "ж" пункта 1 статьи 18 и подпункты "г", "д" пункта 3 статьи 41 названного Федерального закона, регулирующие условия и порядок государственной регистрации регионального отделения политической партии, а также последствия изменения статуса политической партии, не отвечающей требованиям, предъявляемым к политической партии.
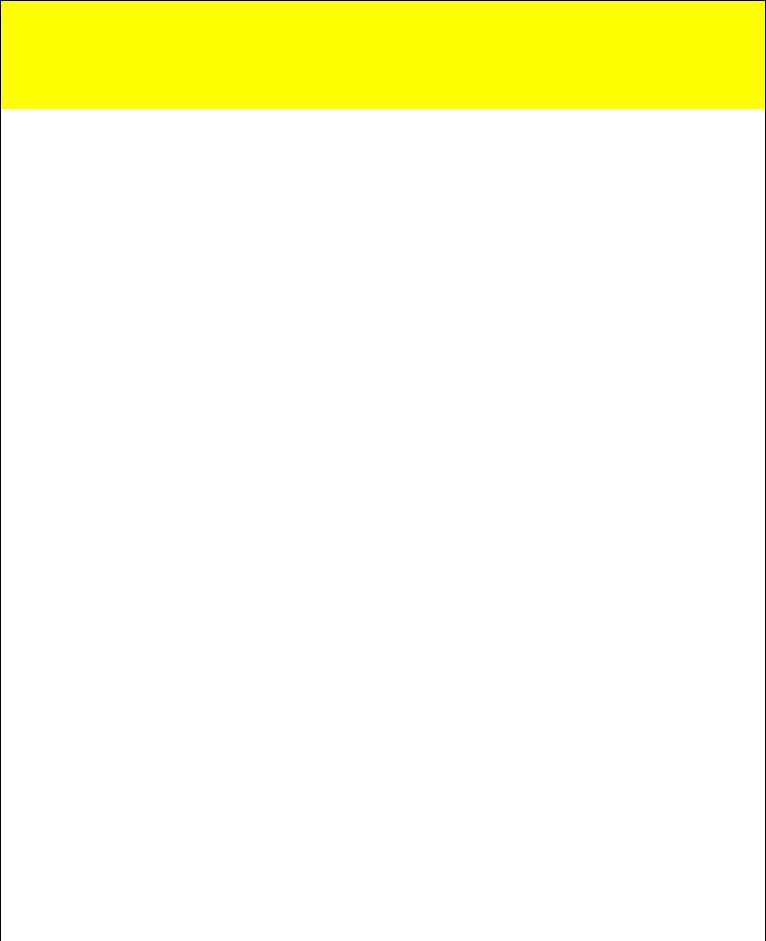
74
Постановление Конституционного Суда РФ от 11 марта 1996 г. N 7-П "По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1 Закона Российской Федерации от 20 мая 1993 года "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" в связи с жалобой гражданина В.С.Корнилова"
Заявитель |
Гражданин Корнилов В.С. |
|
Основание |
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина В.С. Корнилова на нарушение его |
|
рассмотрения |
конституционных прав пунктом 3 статьи 1 Закона Российской Федерации от 20 мая 1993 года "О |
|
|
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на |
|
|
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча". |
|
|
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, |
|
|
соответствует ли положение пункта 3 статьи 1 названного Закона Конституции Российской |
|
|
Федерации. |
|
Позиция |
Заявитель просит признать неконституционным весь пункт 3 статьи 1 Закона Российской Федерации от 20 мая |
|
заявителя |
1993 года. Однако указанный пункт в целом не может быть предметом рассмотрения Конституционного Суда |
|
Российской Федерации, поскольку в деле заявителя было применено лишь его положение, касающееся |
||
|
||
|
граждан, эвакуированных (переселенных), а также выехавших добровольно из населенных пунктов, |
|
|
подвергшихся радиоактивному загрязнению. |
|
Позиция КС РФ |
Устанавливаемые государством в соответствии с целями, закрепленными в статье 7 Конституции Российской |
|
|
Федерации, гарантии социальной защиты граждан применительно к праву на благоприятную окружающую среду |
|
|
и охрану здоровья могут включать комплекс льгот и компенсаций, выходящих за пределы возмещения ущерба, |
|
|
причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. |
|
|
В частности, такие меры предусмотрены Законом Российской Федерации от 20 мая 1993 года, который, как |
|
|
указано в его преамбуле, направлен на защиту прав и законных интересов граждан Российской Федерации, |
|
|
оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие аварии в 1957 году на |
|
|
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также принимавших |
|
|
участие в ликвидации их последствий. Из этой формулировки следует, что основанием отнесения граждан к |
|
|
подпадающим под действие данного Закона является их нахождение в зоне радиоактивного загрязнения, |
|
|
возникшего вследствие аварии и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. Постановлением Совета |
|
|
Министров - Правительства Российской Федерации от 8 октября 1993 года "О мерах по реализации Закона |
|
|
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие |
|
|
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" |
|
|
установлен перечень населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению (в их число входит и |
|
|
село Бродокалмак), жители которых подлежали эвакуации (переселению). Сам факт полной или частичной |
|
|
эвакуации (переселения) свидетельствует о том, что жители этих населенных пунктов находились в зоне |
|
|
радиоактивного загрязнения. Рассматриваемое положение пункта 3 статьи 1 Закона Российской Федерации от |
|
|
20 мая 1993 года распространяет действие Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, |
|
|
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" только на |
|
|
эвакуированных (переселенных) из населенного пункта, т.е. исключает тех, кто был переселен в его пределах. |
|
|
Это не отвечает целям и смыслу обжалуемого Закона, указанным в его преамбуле. Данное положение |
|
|
значительно сужает круг лиц, которые подлежат защите как пострадавшие от аварии и сбросов радиоактивных |
|
|
отходов в реку Теча, и лишает проживавших в зоне радиоактивного загрязнения и переселенных в пределах |
|
|
населенного пункта возможности получения законных льгот и компенсаций, что ставит этих граждан и граждан, |
|
|
выехавших за пределы населенных пунктов, в неравное положение. Следуя буквальному смыслу пункта 3 |
|
|
статьи 1 Закона Российской Федерации от 20 мая 1993 года, правоприменительные органы связывают |
|
|
получение гражданами льгот и компенсаций исключительно с формальным установлением факта эвакуации |
|
|
(переселения)из населенных пунктов, указанных в приложении No. 2 к Постановлению Совета Министров - |
|
|
Правительства Российской Федерации от 8 октября 1993 года. Таким образом, рассматриваемое положение |
|
|
пункта 3 статьи 1 Закона Российской Федерации от 20 мая 1993 года как по своему буквальному смыслу, |
|
|
так и по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, фактически устанавливает |
|
|
необоснованные и несправедливые различия между пострадавшими вследствие аварии и сбросов |
|
|
радиоактивных отходов в реку Теча - не выселенными из населенных пунктов, а лишь переселенными в |
|
|
их пределах, и теми, которые были эвакуированы (переселены) за их пределы. |
|
|
Данное положение пункта 3 статьи 1 Закона противоречит статье 19 (часть 1) Конституции Российской |
|
|
Федерации о равенстве всех перед законом и судом, а также статье 42 Конституции Российской |
|
|
Федерации о праве каждого на благоприятную окружающую среду, поскольку не защищает в равной |
|
|
мере всех лиц, оказавшихся в зоне радиоактивного загрязнения. |
|
Решение КС РФ |
1. Признать положение пункта 3 статьи 1 Закона Российской Федерации от 20 мая 1993 года "О социальной |
|
|
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном |
|
|
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", как исключающее распространение Закона |
|
|
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие |
|
|
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции от 18 июня 1992 года) на граждан, эвакуированных |
|
|
(переселенных) в пределах населенных пунктов, не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее |
|
|
статьям 19 (часть 1) и 42. |
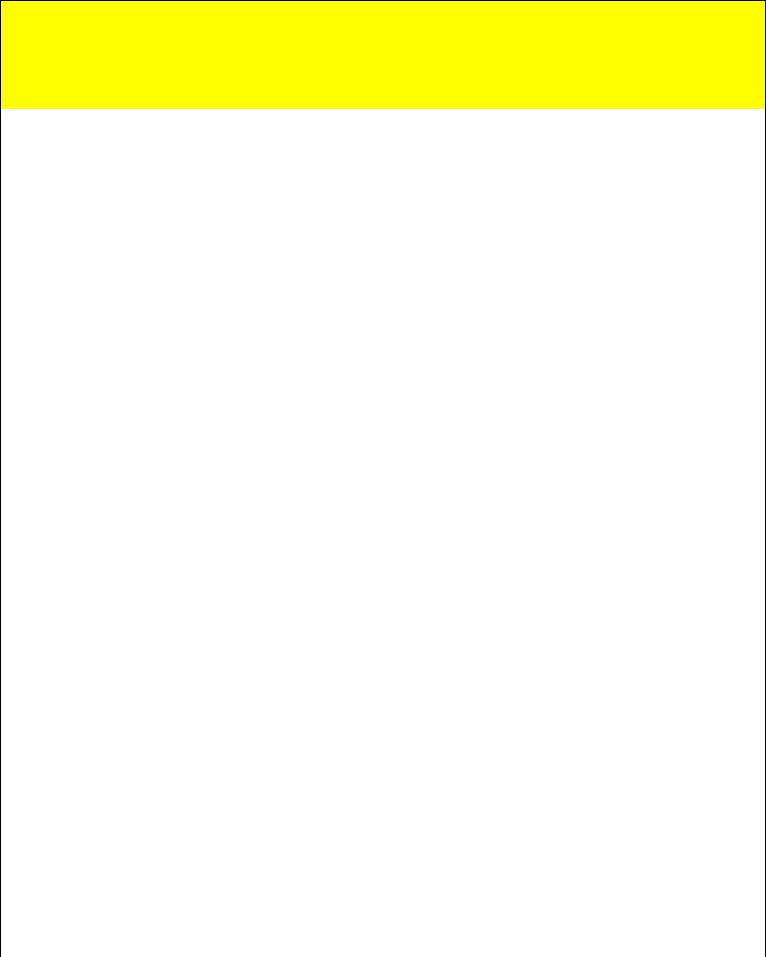
75
Постановление Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. N 15-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А.Бунтмана, К.А.Катаняна и К.С.Рожкова"
Заявитель |
Группа депутатов ГД ФС РФ, граждане Бунтман С.А., Катанян К.А., Рожков К.С. |
Основание |
Поводом к рассмотрению дела явились запрос группы депутатов Государственной Думы и жалобы |
рассмотрения |
граждан С.А.Бунтмана, К.А.Катаняна и К.С.Рожкова, в которых оспаривается конституционность |
|
отдельных положений статей 45, 46, 48, 49, 50, 52 и 56 Федерального закона "Об основных гарантиях |
|
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". |
|
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, |
|
соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителями |
|
законоположения. |
Позиция |
В жалобе гражданина С.А.Бунтмана, направленной в Конституционный Суд Российской Федерации, |
заявителя |
утверждается, что положение пункта 5 статьи 45 Федерального закона "Об основных гарантиях |
|
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", |
|
запрещающее давать в информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических |
|
печатных изданиях комментарии к сообщениям о проведении предвыборных мероприятий, а также |
|
регулирующая вопросы предвыборной агитации статья 48 того же Федерального закона нарушают |
|
конституционные гарантии свободы информации и избирательных прав. В заседании |
|
Конституционного Суда Российской Федерации представитель заявителя адвокат П.А.Астахов |
|
уточнил предмет жалобы в части, касающейся статьи 48, и просил проверить конституционность |
|
подпунктов "в", "ж" ее пункта 2, признающих предвыборной агитацией описание возможных |
|
последствий избрания или неизбрания кандидата и иные действия, имеющие целью побудить или |
|
побуждающие избирателей голосовать за кандидатов или против них, а также против всех |
|
кандидатов, во взаимосвязи с подпунктом "ж" пункта 7 данной статьи. В своей жалобе в |
|
Конституционный Суд Российской Федерации К.А.Катанян утверждает, что пункт 2 статьи 45, пункт 2 |
|
статьи 46, подпункты "б" - "ж" пункта 2, пункт 5 и подпункт "ж" пункта 7 статьи 48, пункт 11 статьи 50, |
|
пункт 5 статьи 52 и пункт 6 статьи 56 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных |
|
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" несоразмерно |
|
ограничивают право гражданина на участие в свободных выборах, право каждого свободно |
|
производить и распространять информацию, право каждого на свободное использование своих |
|
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом |
|
экономической деятельности, а потому противоречат статьям 3, 29, 32, 34 и 55 (часть 3) Конституции |
|
Российской Федерации. Таким образом, только эти законоположения - в силу статьи 125 (часть 4) |
|
Конституции Российской Федерации, пункта 3 части первой и части третьей статьи 3, части первой |
|
статьи 36, части третьей статьи 74, части первой статьи 96 и пункта 2 статьи 97 Федерального |
|
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" - являются предметом |
|
проверки Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе; в части, касающейся |
|
проверки иных оспариваемых К.А.Катаняном норм Федерального закона "Об основных гарантиях |
|
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", |
|
производство по его жалобе подлежит прекращению в соответствии с пунктом 2 части первой |
|
статьи 43 и статьей 68 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде |
|
Российской Федерации". |
Позиция КС РФ |
Изложенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации корреспондируют правовым |
|
позициям Европейского Суда по правам человека в делах, связанных с определением границ свободы |
|
выражения мнений и права на информацию в период избирательной кампании. В частности, в решении от 19 |
|
февраля 1998 года по делу "Боуман против Соединенного Королевства" отмечается, что право на свободу |
|
слова, гарантированное статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, необходимо |
|
рассматривать в свете права на свободные выборы. Европейский Суд подчеркивает, что свободные выборы и |
|
свобода слова, в особенности свобода политической дискуссии, образуют основу любой демократической |
|
системы, оба права взаимосвязаны и укрепляют друг друга; по этой причине особенно важно, чтобы всякого |
|
рода информация и мнения могли циркулировать свободно в период, предшествующий выборам; тем не менее |
|
при некоторых обстоятельствах эти два права могут вступить в конфликт, и тогда может быть сочтено |
|
необходимым, чтобы до или во время проведения выборов были установлены определенные ограничения |
|
свободы слова, которые в обычных условиях были бы неприемлемы; их цель - обеспечить свободное |
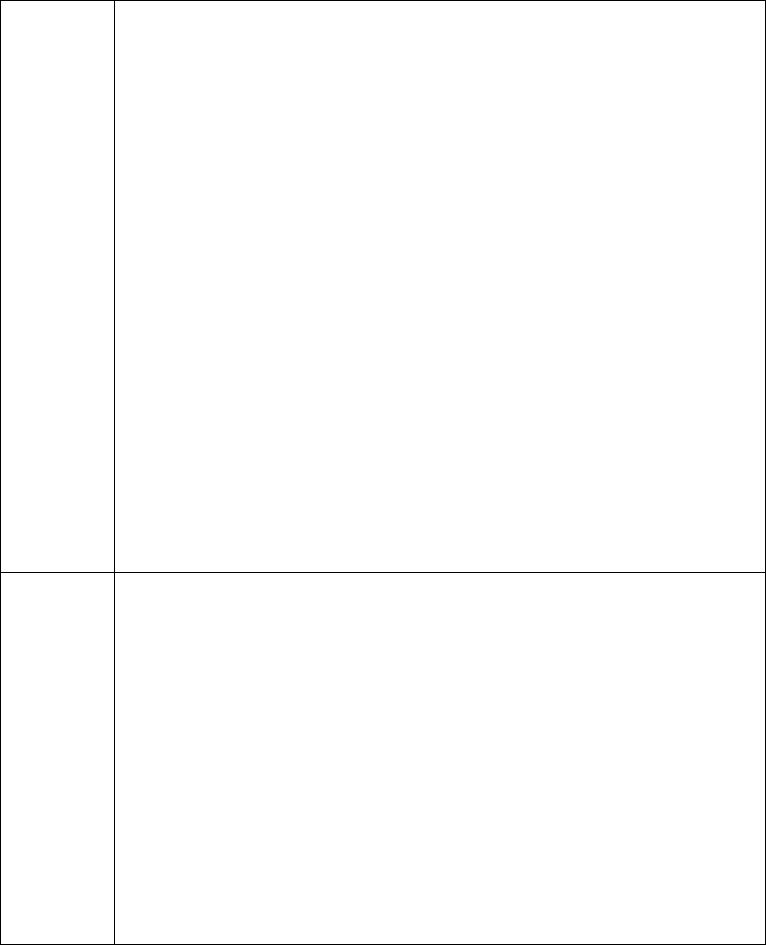
76
выражение мнений народа при избрании законодательной власти. По смыслу положений пункта 2 статьи 48 во взаимосвязи с подпунктом "ж" ее пункта 7 и пунктом 4 статьи 2, последствия агитации как правонарушающего действия представителя организации, осуществляющей выпуск средства массовой информации, при осуществлении им профессиональной деятельности не являются элементом объективной стороны состава данного правонарушения, которая ограничена лишь самим противоправным действием, не предполагающим подтверждение того, что распространенная информация действительно повлияла или могла повлиять на отношение неопределенного круга избирателей к соответствующему кандидату или избирательному объединению. Следовательно, умысел в качестве необходимого элемента субъективной стороны формального состава такого правонарушения, как незаконная агитация, не может охватывать ее последствия и заключается лишь в осознании прямой цели данного противоправного действия. Именно поэтому не может быть признано агитацией информирование избирателей через средства массовой информации, в том числе об имевших место агитационных призывах голосовать за или против кандидата или о других агитационных действиях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48, без выявления соответствующей непосредственно агитационной цели, наличие либо отсутствие которой во всяком случае подлежит установлению судами общей юрисдикции и (или) иными правоприменителями при оценке ими тех или иных конкретных действий как противозаконной предвыборной агитации. Таким образом, подпункты "б", "в", "г", "д", "е" пункта 2 статьи 48 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" во взаимосвязи с положениями статьи 45, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктом "ж" пункта 7 статьи 48 - исходя из их конституционно-правового предназначения и смысла - не допускают расширительного понимания предвыборной агитации применительно к ее запрету для представителей организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности, т.е. без учета того, что противозаконной агитационной деятельностью (нарушающей предписание подпункта "ж" пункта 7 статьи 48) может признаваться только совершение ими предусмотренных в пункте 2 статьи 48 действий, преследующих специальную агитационную цель, - в отличие от информирования избирателей, в том числе во внешне сходной по форме с агитацией профессиональной деятельности, предусмотренной пунктом 5 статьи.
Положение пункта 5 статьи 45, согласно которому в информационных программах телевидения и радио |
|
не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объединению |
|
или блоку, относящееся к нормам, регулирующим именно порядок информирования (а не агитации), во |
|
взаимосвязи с пунктом 2 данной статьи, статьей 48 и пунктами 1 и 2 статьи 52 не может толковаться как |
|
запрещающее представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, |
|
высказывать собственное мнение, давать комментарий за пределами отдельного информационного |
|
блока, поскольку только в таком блоке не должно содержаться комментариев и не должно отдаваться |
|
предпочтение кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку по времени освещения |
|
предвыборной деятельности, объему печатной площади и соотношению ее предоставления бесплатно |
|
и за плату. Иное было бы неоправданным ограничением прав, гарантированных статьей 29 (часть 4) |
|
Конституции Российской Федерации. Таким образом, положение подпункта "ж" пункта 2 статьи 48 |
|
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан |
|
Российской Федерации" во взаимосвязи с положением пункта 4 его статьи 2 не соответствует Конституции |
|
Российской Федерации, ее статьям 3 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 29 (части 4 и 5), 32 (части 1 и 2) и 55 (часть 3). |
|
Решение КС РФ 1. Признать положения подпунктов "б", "в", "г", "д", "е" пункта 2 статьи 48 Федерального закона "Об основных |
|
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" не |
|
противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку они по своему конституционно-правовому |
|
смыслу во взаимосвязи с подпунктом "а" пункта 2 статьи 48, статьей 45 и подпунктом "ж" пункта 7 статьи 48 того |
|
же Федерального закона не допускают расширительного понимания предвыборной агитации применительно к |
|
ее запрету для представителей организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при |
|
осуществлении ими профессиональной деятельности и предполагают, что противозаконной агитационной |
|
деятельностью может признаваться только умышленное совершение ими предусмотренных в пункте 2 статьи |
|
48 названного Федерального закона действий, непосредственно направленных на такую агитацию, в отличие от |
|
информирования избирателей, в том числе во внешне сходной по форме с агитацией профессиональной |
|
деятельности, предусмотренной пунктом 5 его статьи 45. 2. Признать пункт 5 статьи 45 Федерального закона |
|
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской |
|
Федерации" не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку содержащиеся в нем |
|
положения - по их конституционно-правовому смыслу в системе норм - не могут служить основанием для |
|
запрета представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при |
|
осуществлении ими профессиональной деятельности высказывать собственное мнение, давать комментарии за |
|
пределами отдельного информационного блока и предполагают, что только в таком информационном блоке не |
|
должно содержаться комментариев и не должно отдаваться предпочтение кандидату, избирательному |
|
объединению, избирательному блоку по времени освещения предвыборной деятельности, объему печатной |
|
площади и соотношению ее предоставления бесплатно и за плату. |
3. Признать положение подпункта "ж" |
пункта 2 статьи 48 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в |
|
референдуме граждан Российской Федерации" не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее |
|
статьям 3 (часть 3), 19 (части 1 и 2),29 (части 4 и 5), 32 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), поскольку на его основании |
|
во взаимосвязи с положением пункта 4 статьи 2 того же Федерального закона в качестве предвыборной |
|
агитации признаются любые иные помимо перечисленных в подпунктах "а", "б", "в", "г", "д", "е" пункта 2 статьи |
|
48 действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей голосовать за кандидатов, списки |
|
кандидатов или против них, против всех кандидатов, против всех списков кандидатов. |
|
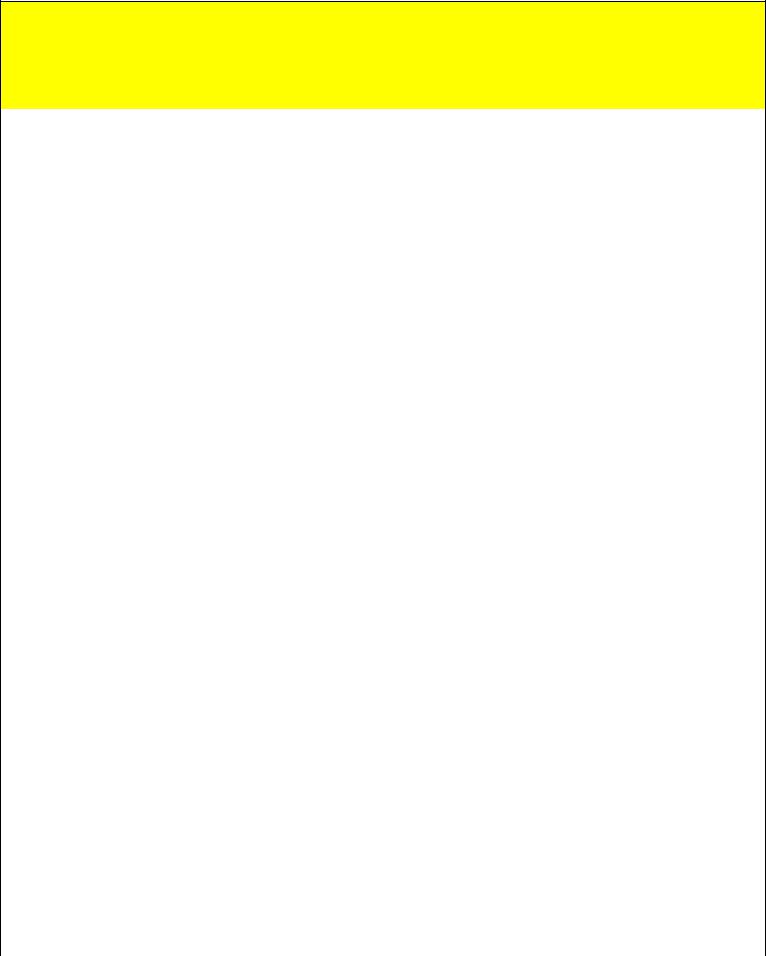
77
Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2012 N 14-П "По делу о проверке конституционности положений подпункта 1 статьи 15 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статьи 24 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" в связи с жалобой гражданина А.Н. Ильченко"
Заявитель |
Гражданин Ильченко А.Н. |
|
Основание |
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина А.Н. Ильченко. Основанием к |
|
рассмотрения |
рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли |
|
|
Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем законоположения. |
|
Позиция |
Неконституционность примененных в его деле положений подпункта 1 статьи 15 Федерального закона "О |
|
заявителя |
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статьи 24 Закона Российской |
|
Федерации "О государственной тайне" А.Н. Ильченко усматривает в том, что они необоснованно ограничивают |
||
|
||
|
лиц, допущенных к государственной тайне и осведомленных о сведениях особой важности или совершенно |
|
|
секретных сведениях, в праве свободно выезжать за пределы Российской Федерации, и просит признать эти |
|
|
законоположения противоречащими статьям 15 (часть 4), 17 (часть 1), 27 (часть 2), 46 (часть 3) и 55 (часть 3) |
|
|
Конституции Российской Федерации . |
|
|
Кроме того, заявитель полагает, что гарантированное ему статьей 47 (часть 1) Конституции Российской |
|
|
Федерации право на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено |
|
|
законом, было нарушено следующими положениями Гражданского процессуального кодекса Российской |
|
|
Федерации: пунктом 1 части первой статьи 26, определяющим подсудность гражданских дел, связанных с |
|
|
государственной тайной, пунктом 3 части второй статьи 33, согласно которому суд передает дело на |
|
|
рассмотрение другого суда, если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к |
|
|
производству с нарушением правил подсудности, и абзацем вторым части второй статьи 254 ГПК Российской |
|
|
Федерации, предусматривающим, что отказ в разрешении на выезд из Российской Федерации в связи с тем, что |
|
|
заявитель осведомлен о сведениях, составляющих государственную тайну, оспаривается в соответствующем |
|
|
верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной |
|
|
области, суде автономного округа по месту принятия решения об оставлении просьбы о выезде без |
|
|
удовлетворения. |
|
Позиция КС РФ |
Определяя круг лиц, право которых на выезд из Российской Федерации может быть временно ограничено, |
|
|
статья 15 названного Федерального закона относит к ним граждан Российской Федерации, которые при допуске |
|
|
к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в |
|
|
соответствии с законом Российской Федерации о государственной тайне, заключили трудовой договор |
|
|
(контракт), предполагающий временное ограничение права на выезд из Российской Федерации, при условии, |
|
|
что с момента последнего ознакомления со сведениями особой важности или совершенно секретными |
|
|
сведениями срок ограничения, установленный в трудовом договоре (контракте) или в соответствии с данным |
|
|
Федеральным законом, не истек (абзац первый подпункта 1). |
|
|
Следовательно, в отличие от Закона СССР от 20 мая 1991 года N 2177-1 "О порядке выезда из Союза |
|
|
Советских Социалистических Республик и въезда в Союз Советских Социалистических Республик граждан |
|
|
СССР", действовавшего на момент вступления России в Совет Европы, Федеральный закон "О порядке выезда |
|
|
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" допускает ограничение права гражданина |
|
|
Российской Федерации на выезд из Российской Федерации в случае осведомленности не о любых сведениях, |
|
|
составляющих государственную тайну, а только о сведениях, отнесенных к категории особой важности или к |
|
|
совершенно секретным. Что касается срока ограничения данного права, то согласно подпункту 1 его статьи 15 |
|
|
срок, установленный трудовым договором (контрактом), не может превышать пять лет со дня последнего |
|
|
ознакомления лица со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями (абзац |
|
|
первый); В отношении проходящих военную службу по контракту военнослужащих Вооруженных Сил |
|
|
Российской Федерации, а также федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена |
|
|
военная служба, имеет место и специальное регулирование, обусловливающее возможность их выезда из |
|
|
Российской Федерации наличием разрешения командования, оформленного в порядке, установленном |
|
|
Правительством Российской Федерации (статья 19 Федерального закона "О порядке выезда из Российской |
|
|
Федерации и въезда в Российскую Федерацию"). Такое разрешение, согласно постановлению Правительства |
|
|
Российской Федерации от 19 декабря 1997 года N 1598 "О порядке оформления разрешений на выезд из |
|
|
Российской Федерации военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, а также федеральных |
|
|
органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба", дается Министром обороны |
|
|
Российской Федерации и руководителями соответствующих федеральных органов исполнительной власти или |
|
|
уполномоченными ими лицами (пункты 1 и 3); документы, удостоверяющие личность гражданина Российской |
|
|
Федерации, по которым военнослужащие осуществляют выезд из Российской Федерации (паспорт, |
|
|
дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка), оформляются на основании справки по |
|
|
установленной форме, выдаваемой воинскими частями, организациями и учреждениями Вооруженных Сил |
|
|
Российской Федерации, а также федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена |
|
|
военная служба (пункт 3). |
|
|
Таким образом, ограничение права гражданина Российской Федерации на выезд из Российской Федерации в |
|
|
связи с его осведомленностью о сведениях, составляющих государственную тайну, установленное названным |
|
|
Федеральным законом, - в силу диспозитивности содержащегося в нем регулирования - не является |
|
|
абсолютным и обязательным (право на выезд "может быть ограничено"), носит временный характер (по общему |
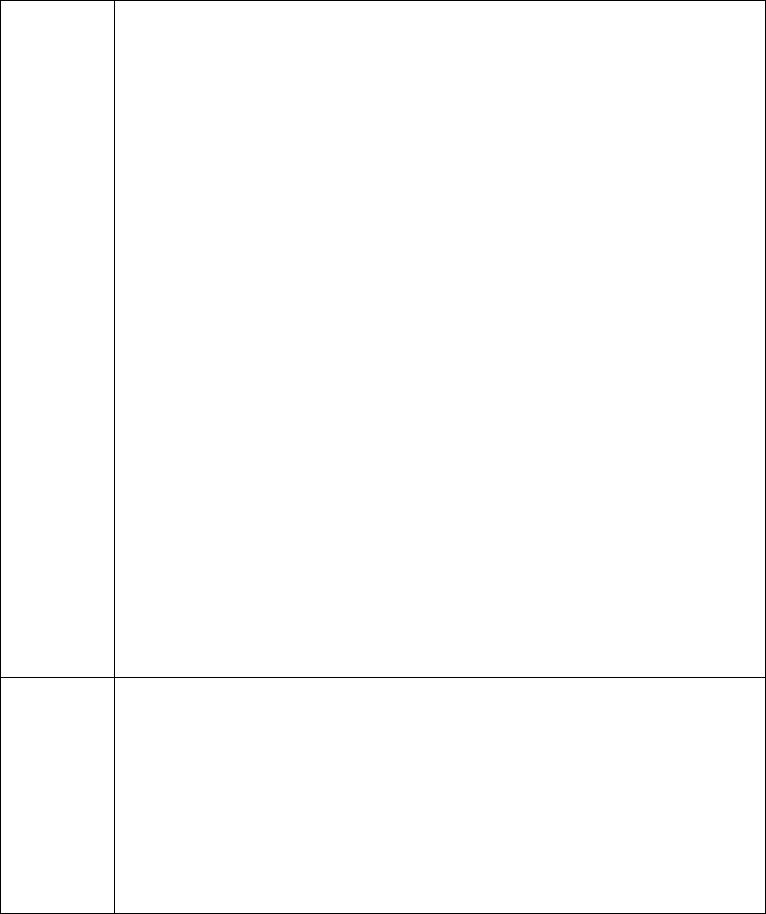
78
правилу, "не может превышать пять лет" со дня последнего ознакомления лица со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями, и только в определенных случаях - десять лет, включая срок ограничения, указанный в трудовом договоре (контракте) и, следовательно, не обусловливается наличием одного лишь основания - осведомленности лица о соответствующих сведениях. Отказ гражданину в разрешении на выезд из Российской Федерации не является окончательным, он может быть обжалован им в порядке статьи 17 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в соответствующую межведомственную комиссию, которая, рассмотрев его обращение в трехмесячный срок, принимает мотивированное решение об обоснованности либо необоснованности ограничения права на выезд из Российской Федерации. В свою очередь, как сам отказ в разрешении на выезд из Российской Федерации, так и решение межведомственной комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке. Как неоднократно
указывал Конституционный Суд Российской Федерации, юридической силой решения Конституционного Суда Российской Федерации, в котором выявляется конституционно-правовой смысл нормы и тем самым устраняется неопределенность в ее интерпретации с точки зрения соответствия Конституции Российской Федерации, обусловливается невозможность применения данной нормы (а значит, прекращение действия) в любом другом истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным Конституционным Судом Российской Федерации. Иное - в нарушение статьи 125 (части 4 и 6) Конституции Российской Федерации и части третьей статьи 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" - означало бы возможность применения нормы в прежнем ее понимании, не соответствующем Конституции Российской Федерации и влекущем нарушение конституционных прав граждан, в том числе заявителя. В силу этого решение Конституционного Суда Российской Федерации, которым выявляется конституционно-правовой смысл нормы и которым исключается любое иное ее истолкование и применение, как не соответствующее Конституции Российской Федерации и, следовательно, нарушающее конституционные права граждан, имеет юридические последствия, предусмотренные пунктами 2 и 3 части первой статьи 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", гарантирующей пересмотр дела заявителя компетентным органом в обычном порядке ( постановления от 21 января 2010 года N 1-П, от 26 февраля 2010 года N 4-Пи от 21 декабря 2011 года N 30-П, Определение от 11 ноября 2008 года N 556-О-Р ); вместе с тем право каждого на судебную защиту его прав и свобод, как оно сформулировано в статье 46Конституции Российской Федерации, не предполагает возможность выбора гражданином по своему усмотрению той или иной процедуры судебной защиты, особенности которых применительно к отдельным видам судопроизводства и категориям дел определяются, исходя из Конституции Российской Федерации, федеральным законом (определения от 24 ноября 2005 года N 508-О, от 19 июня 2007 года N 389-О-О, от 15 апреля 2008 года N 314-О-О и др.).
Как следует из судебных постановлений, вынесенных в отношении заявителя по настоящему делу - гражданина А.Н. Ильченко, он оспаривал в судах действия должностного лица, отказавшего ему в оформлении паспорта, которым удостоверяется личность гражданина Российской Федерации за пределами ее территории, и этот спор по первой инстанции был разрешен Пресненским районным судом города Москвы. Отказ же в разрешении на выезд из Российской Федерации в связи с осведомленностью о сведениях, составляющих государственную тайну, им не оспаривался.
Следовательно, заявитель вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением с учетом правил подсудности, установленных частью второй статьи 254 ГПК Российской Федерации, согласно которой отказ в разрешении на выезд из Российской Федерации оспаривается в соответствующем верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа по месту принятия решения об оставлении просьбы о выезде без удовлетворения. Он также не лишен возможности обжаловать принятое в отношении него решение об ограничении права на выезд из Российской Федерации на основании статьи 17 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в соответствующую межведомственную комиссию.
Решение КС РФ 1. Признать взаимосвязанные положения подпункта 1 статьи 15 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статьи 24 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку эти положения - по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования - предполагают, что принятие решения о временном ограничении права гражданина на выезд из Российской Федерации ставится в зависимость не только от непосредственно предусмотренных ими формальных оснований; такое решение не может основываться на установлении одного лишь факта допуска к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, и во всяком случае требует выяснения характера конкретной информации, к которой гражданин имел доступ в рамках своей профессиональной деятельности, и степени ее секретности, в том числе на момент обращения в уполномоченные органы в связи с предполагаемым выездом за пределы страны, а также целей выезда и других обстоятельств, наличие которых позволяет сделать вывод о необходимости применения указанного ограничения.
2. Конституционно-правовой смысл взаимосвязанных положений подпункта 1 статьи 15 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статьи 24 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.
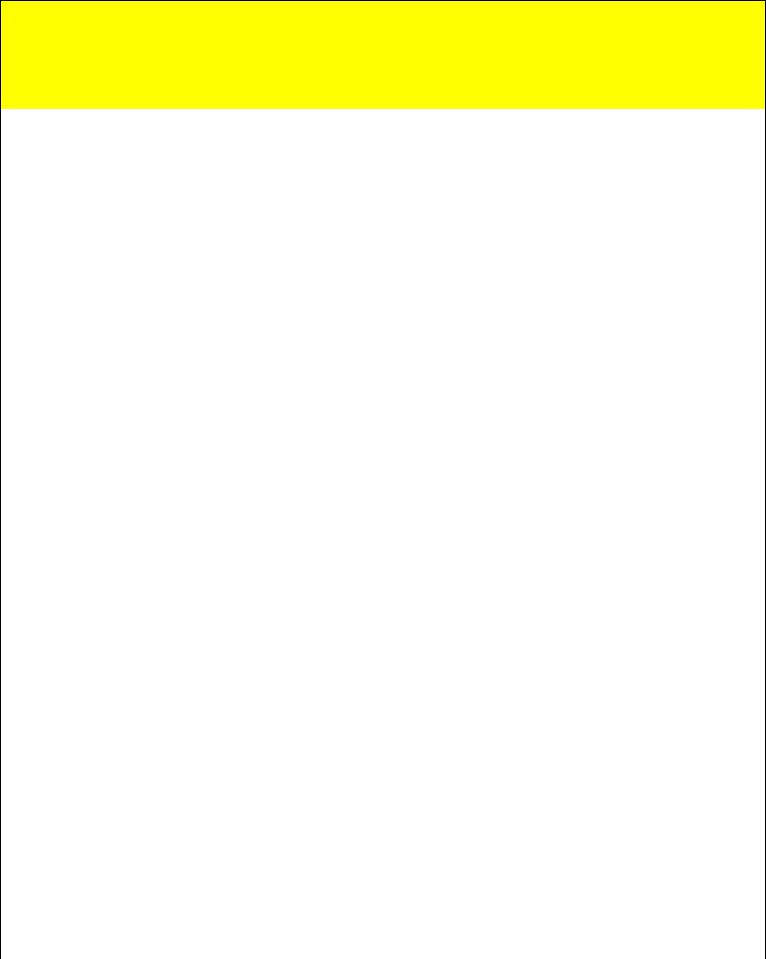
79
Постановление Конституционного Суда РФ от 18.05.2012 N 12-П "По делу о проверке конституционности положений части 2 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 3 части 4 статьи 5 и пункта 5 части 3 статьи 7 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с жалобой гражданина С.А. Каткова"
Заявитель |
Гражданин Катков С.А. |
Основание |
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина С.А. Каткова. Основанием к |
рассмотрения |
рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли |
|
Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем законоположения. |
Позиция |
Оспаривающий конституционность названных законоположений гражданин С.А.Катков |
заявителя |
постановлением мирового судьи судебного участка N 72 Советского района города Тулы от 29 |
|
ноября 2010 года, оставленным без изменения решением Советского районного суда города Тулы от |
|
30 мая 2011 года и постановлением председателя Тульского областного суда от 22 июля 2011 года, |
|
был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей за |
|
нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий, которое суды усмотрели в |
|
том, что С.А.Катков не выполнил возложенную на него как на организатора публичного мероприятия |
|
- шествия обязанность и не обеспечил соблюдение условий его проведения, допустив к участию в |
|
шествии 300 человек, тогда как согласно уведомлению, поданному им в администрацию города |
|
Тулы, предполагаемое количество участников этого публичного мероприятия должно было |
|
составить 150 человек.По мнению С.А. Каткова, примененные судами в его деле положения |
|
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Федерального |
|
закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" - именно |
|
потому, что они позволяют привлекать организатора публичного мероприятия к |
|
административной ответственности в случае, если фактическое количество участников |
|
данного публичного мероприятия превысило заявленное в уведомлении о его проведении, - |
|
нарушают его права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, и не |
|
соответствуют ее статьям 2, 4 (часть 2), 6 (часть 2), 15 (части 1 и 4), 17 (часть 1), 18, 21 (часть |
|
1), 31, 45 (часть 1), 54 (часть 2), 55, 71 (пункты "а", "в"), 72 (пункты "б", "к" части 1) и 76 (части 1 |
|
и 2). |
Позиция КС РФ |
Вмешательство публичных властей в свободу мирных собраний, если оно не предусмотрено законом, не |
|
преследует одну или несколько законных целей, упомянутых в статье 11 Конвенции о защите прав человека и |
|
основных свобод, и не является необходимым в демократическом обществе для достижения одной из этих |
|
целей, расценивается Европейским Судом по правам человека как нарушение данной статьи (постановление от |
|
23 октября 2008 года по делу "Сергей Кузнецов против России"); более того, реальное уважение свободы |
|
собраний не может быть сведено просто к обязанности невмешательства со стороны государства в |
|
осуществление права, защищаемого статьей 11 Конвенции, - напротив, оно может быть дополнено позитивным |
|
обязательством обеспечивать эффективную реализацию этого права (постановления от 2 июля 2002 года по |
|
делу "Уилсон и Национальный союз журналистов (Wilson and the National Union of Journalists) и другие против |
|
Соединенного Королевства", от 20 октября 2005 года по делу "Политическая партия "Уранио Токсо" (Ouranio |
|
Тохо) и другие против Греции" и от 21 октября 2010 года по делу "Алексеев против России").В рамках |
|
организации публичного мероприятия, каковым названный Федеральный закон признает открытую, мирную, |
|
доступную каждому, проводимую в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо |
|
в различных сочетаниях этих форм акцию, осуществляемую по инициативе граждан Российской Федерации, |
|
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений (пункт 1 статьи 2), |
|
предусматривается ряд процедур, которые направлены на обеспечение мирного и безопасного характера |
|
публичного мероприятия, согласующегося с правами и интересами лиц, не принимающих в нем участия, и |
|
позволяют избежать возможных нарушений общественного порядка и безопасности (статья 4): так, на |
|
организатора публичного мероприятия возлагается обязанность подать в орган исполнительной власти |
|
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления предварительное уведомление, с тем |
|
чтобы довести до их сведения необходимую информацию о планируемом публичном мероприятии (пункт 7 |
|
статьи 2, часть 3 статьи 7). Как следует из правовой позиции Конституционного Суда Российской |
|
Федерации, сформулированной в Определении от 2 апреля 2009 года N 484-О-П, орган исполнительной |
|
власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления не может запретить (не |
|
разрешить) проведение публичного мероприятия, - он вправе лишь предложить изменить место и (или) |
|
время его проведения, причем такое предложение обязательно должно быть мотивированным и |
|
вызываться либо необходимостью сохранения нормального и бесперебойного функционирования |
|
жизненно важных объектов коммунальной или транспортной инфраструктуры, либо необходимостью |
|
поддержания общественного порядка, обеспечения безопасности граждан (как участников публичного |
|
мероприятия, так и лиц, которые могут находиться в месте его проведения в определенное для этого |
|
время), либо иными подобными причинами; если проведение публичного мероприятия в заявленном |
|
месте невозможно в связи с необходимостью защиты публичных интересов, орган исполнительной |
|
власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления обязан предложить его |
|
организатору для обсуждения такой вариант проведения публичного мероприятия, который позволял |
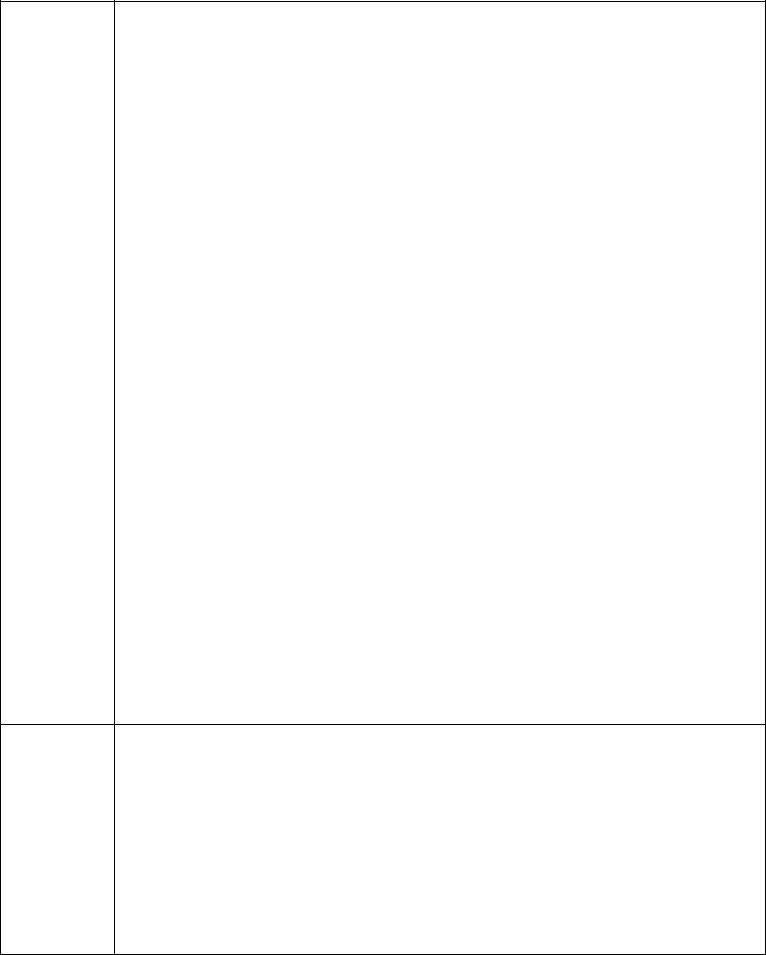
80
бы реализовать его цели. Таким образом, процедура предварительного уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о проведении публичного мероприятия, в том числе о предполагаемой численности его участников, имеет целью реализацию конституционного права граждан Российской Федерации на мирное проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирований в условиях, обеспечивающих соблюдение надлежащего общественного порядка и безопасности, достижение баланса интересов организаторов и участников публичных мероприятий, с одной стороны, и иных лиц - с другой, а также позволяющих органам публичной власти принять адекватные меры по предупреждению и предотвращению нарушений общественного порядка и безопасности, обеспечению защиты прав и свобод как участников публичных мероприятий, так и лиц, в них не участвующих. Поскольку Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" не содержит ограничений в отношении количества участников публичного мероприятия, обязанности по поддержанию общественного порядка, возложенные на организатора публичного мероприятия, включают и обеспечение такого количества его участников, которое не превышало бы заявленное в уведомлении или, по крайней мере, несмотря на имеющееся превышение, в том числе с учетом нормы предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия, не создавало бы реальной угрозы для общественной безопасности, жизни и здоровья граждан, а также для имущества физических и юридических лиц. Соответственно, добросовестное исполнение организатором публичного мероприятия своих обязанностей при проведении публичного мероприятия предполагает, что принятые им меры по обеспечению общественного порядка и безопасности должны быть адекватны количеству участников публичного мероприятия и степени угрозы безопасности и правопорядку, в том числе связанной с превышением заявленного количества участников публичного мероприятия.
Таким образом, участие в публичном мероприятии большего, чем было заявлено его организатором в уведомлении, количества участников само по себе еще не является достаточным основанием для привлечения его к административной ответственности, равно как и само по себе превышение нормы предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия. Административная ответственность за нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий - если речь идет именно о проведении публичного мероприятия - может наступать только в том случае, когда превышение заявленного в уведомлении количества участников публичного мероприятия и создание тем самым реальной угрозы общественной безопасности и правопорядку было обусловлено деянием организатора этого публичного мероприятия или когда организатор публичного мероприятия, допустив превышение количества его участников, не принял меры, которые обязан был принять в соответствии с Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", направленные на ограничение доступа граждан к участию в публичном мероприятии, обеспечение общественного порядка и безопасности, что повлекло возникновение реальной угрозы их нарушения, нарушения безопасности как участников публичного мероприятия, так и лиц, в нем не участвовавших, а также причинения ущерба имуществу физических и юридических лиц. Таким образом,
взаимосвязанные положения части 2 статьи 20.2 КоАП Российской Федерации, пункта 3 части 4 статьи 5 и пункта 5 части 3 статьи 7 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" не противоречат Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционноправовому смыслу в системе действующего правового регулирования они позволяют рассматривать несоответствие реального количества участников публичного мероприятия предполагаемому их количеству, указанному в уведомлении о проведении данного публичного мероприятия, в качестве основания привлечения его организатора к административной ответственности за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия только в том случае, если будет установлено, что именно это несоответствие, возникшее по вине организатора публичного мероприятия, создало реальную угрозу для общественного порядка и (или) общественной безопасности, безопасности участников данного публичного мероприятия, равно как и лиц, в нем не участвовавших, причинения ущерба имуществу физических и юридических лиц. Этим не затрагивается право федерального законодателя в установленных конституционными предписаниями пределах конкретизировать порядок и условия проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований, уточнять составы соответствующих административных правонарушений, а также порядок и условия привлечения организаторов публичных мероприятий к административной ответственности.
Решение КС РФ 1. Признать взаимосвязанные положения части 2 статьи 20.2 КоАП Российской Федерации, пункта 3 части 4 статьи 5 и пункта 5 части 3 статьи 7 Федерального закона "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях" не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования они позволяют рассматривать несоответствие реального количества участников публичного мероприятия предполагаемому их количеству, указанному в уведомлении о проведении данного публичного мероприятия, в качестве основания привлечения его организатора к административной ответственности за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия только в том случае, если будет установлено, что именно это несоответствие, возникшее по вине организатора публичного мероприятия, создало реальную угрозу для общественного порядка и (или) общественной безопасности, безопасности участников данного публичного мероприятия, равно как и лиц, в нем не участвовавших, причинения ущерба имуществу физических и юридических лиц.
