
POSTANOVLENIYa_KS_
.pdf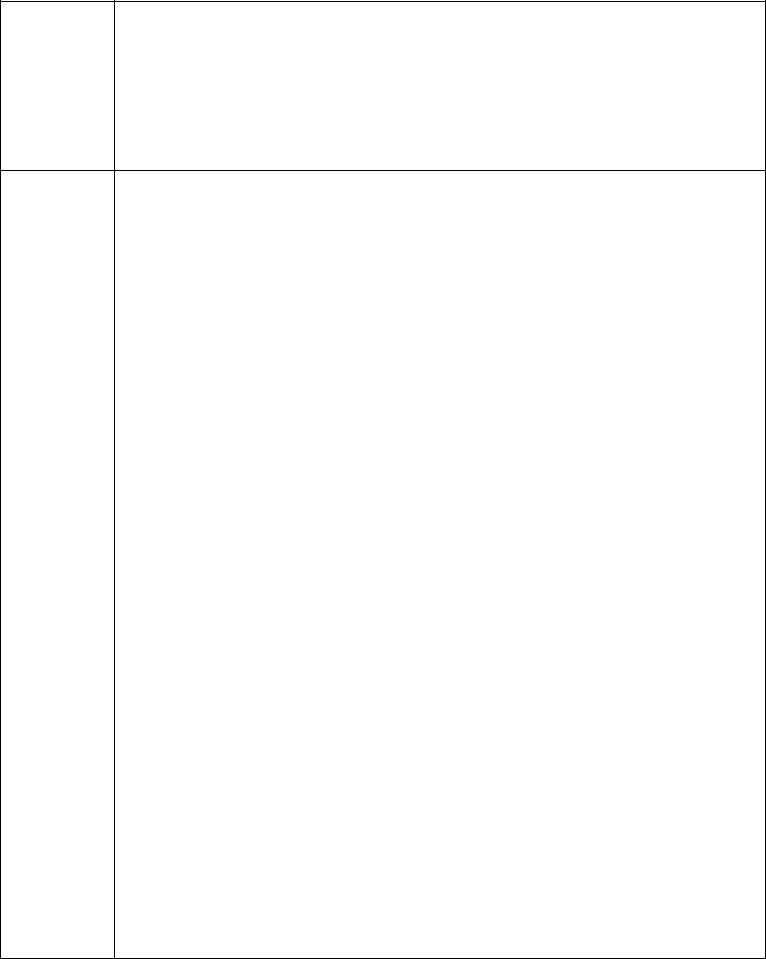
51
числе из их взаимосвязи со статьями 13, 15 (часть 4), 17, 30 и 32 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, а также с положениями законодательства об общественных объединениях, выборах и референдумах, и с учетом конкретно-исторических условий развития Российской Федерации как демократического, федеративного и правового государства - нельзя признать чрезмерным ограничением права на объединение в политические партии. Данное регулирование не препятствует гражданам Российской Федерации в реализации конституционного права на объединение путем создания общероссийских политических партий или вступления в них, а для защиты своих интересов и достижения общих целей в политической сфере на межрегиональном, региональном и местном уровне - также путем создания общественных объединений соответствующего уровня, вступления в эти объединения.
Решение КС РФ 1. Признать не противоречащими Конституции Российской Федерации положения абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 11 июля 2001 года "О политических партиях" (в редакции от 21 марта 2002 года), согласно которым политическая партия должна иметь региональные отделения более чем в половине субъектов Российской Федерации и в политической партии должно состоять не менее десяти тысяч членов политической партии, и находящийся в нормативном единстве с названными положениями пункт 6 статьи 47 данного Федерального закона, регулирующий последствия изменения статуса межрегиональных, региональных и местных политических общественных объединений, не отвечающих требованиям, предъявляемым к политической партии.
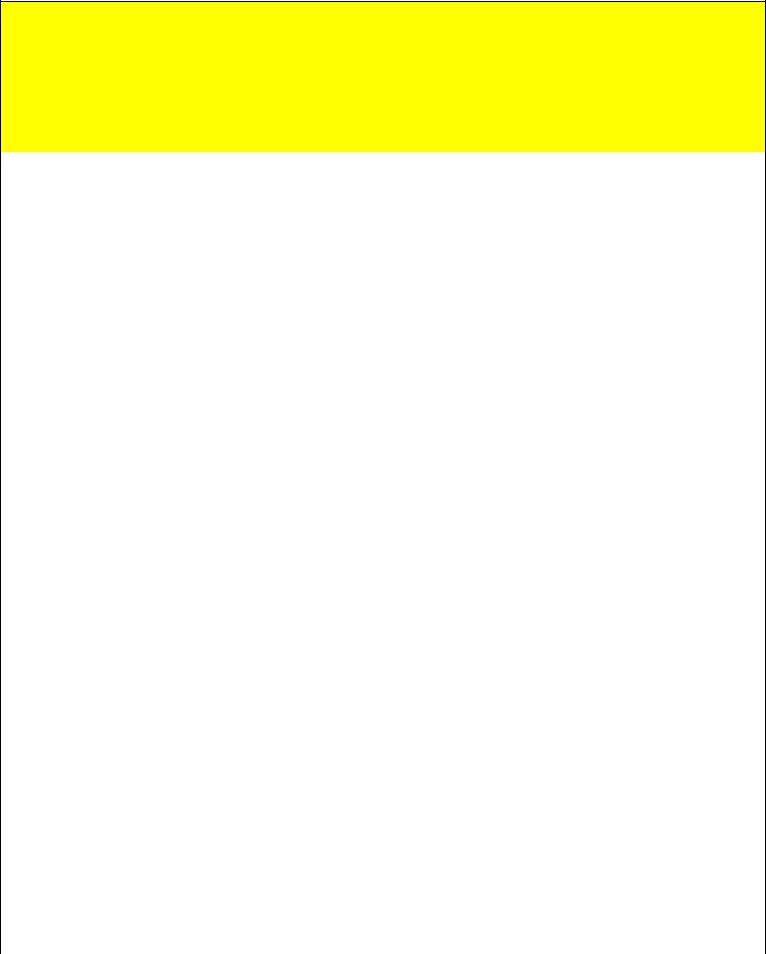
52
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2005 N 10-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации"
Заявитель |
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации гражданин В.Б. Бочков |
Основание |
Жалоба данного гражданина |
рассмотрения |
|
Позиция |
Постановлением мирового судьи судебного участка N 1 Центрального округа города Курска от |
заявителя |
23 декабря 2003 года, оставленным без изменения вышестоящими судебными инстанциями, |
|
гражданин В.Б. Бочков в соответствии со статьей 5.12 КоАП Российской Федерации был подвергнут |
|
наказанию в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Признаки состава |
|
правонарушения, предусмотренного указанной статьей, суды усмотрели в том, что в период |
|
избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы в октябре - ноябре 2003 года |
|
В.Б. Бочков составил, подготовил для печати и передал индивидуальному предпринимателю для |
|
изготовления тиражом 500 экземпляров агитационный материал с призывом к избирателям |
|
голосовать против всех кандидатов, а именно листовку "Против всех - правильный выбор", а затем |
|
распространил тираж без предоставления экземпляра (копии) либо фотографии листовки в |
|
избирательную комиссию; при этом В.Б. Бочков, не будучи кандидатом в депутаты, в нарушение |
|
пункта 7 статьи 63 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы |
|
Федерального Собрания Российской Федерации" оплатил изготовление агитационного материала из |
|
собственных денежных средств. Заместитель Председателя Верховного Суда Российской |
|
Федерации, оставивший без удовлетворения надзорную жалобу на вынесенные по данному делу |
|
судебные решения, при оценке действий В.Б. Бочкова как неправомерных сослался также на пункт 5 |
|
статьи 48 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в |
|
референдуме граждан Российской Федерации", который предусматривает оплату расходов по |
|
проведению предвыборной агитации исключительно за счет средств соответствующих |
|
избирательных фондов в установленном законом порядке. |
|
В жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, поданной в |
|
Конституционный Суд Российской Федерации в защиту конституционных прав гражданина |
|
В.Б. Бочкова, оспаривается конституционность указанных законоположений, как |
|
запрещающих гражданину предвыборную агитацию против всех кандидатов без |
|
предварительной оплаты расходов на ее проведение за счет средств соответствующих |
|
избирательных фондов, и находящихся в системной связи с ними положений статьи 58 |
|
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в |
|
референдуме граждан Российской Федерации" и статьи 66 Федерального закона "О выборах |
|
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", |
|
устанавливающих исчерпывающий перечень субъектов, управомоченных создавать |
|
избирательные фонды, - как не называющих в их числе граждан. |
|
По мнению заявителя, оспариваемое регулирование фактически исключает возможность |
|
осуществления гражданами конституционного права свободно производить и |
|
распространять информацию любым законным способом в форме предвыборной агитации, |
|
имеющей целью побудить избирателей к голосованию против всех кандидатов, и тем самым |
|
противоречит статьям 29 (части 1 и 4) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации. |
|
|
Позиция КС РФ |
Из этого следует, что право агитировать против всех участвующих в выборах кандидатов, как одна |
|
из составляющих права участвовать в предвыборной агитации, в силу подпункта 28 статьи 2 |
|
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в |
|
референдуме граждан Российской Федерации" относится к признанным законодателем |
|
избирательным правам граждан. Данный вывод подтверждается взаимосвязанными положениями |
|
пункта 1 статьи 4 и пункта 1 статьи 48 названного Федерального закона, закрепляющими, что |
|
гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе |
|
участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами избирательных |
|
действиях, а значит - осуществлять в допускаемых законом формах и законными методами |
|
предвыборную агитацию. Однако юридические возможности граждан по проведению предвыборной |
|
агитации, в том числе агитации против всех кандидатов, имеют существенные особенности, о чем |
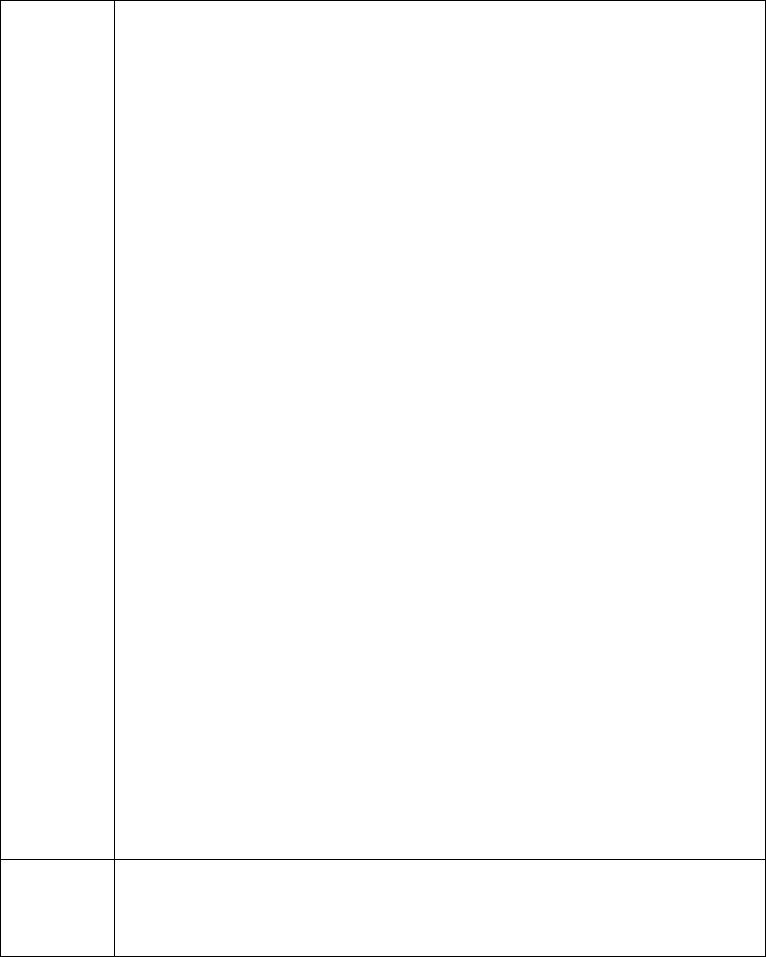
53
свидетельствует анализ других норм того же Федерального закона, которыми регулируется порядок информационного обеспечения выборов и финансирования избирательной кампании. Так, иные участники избирательного процесса - кандидаты и избирательные объединения самостоятельно определяют содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в установленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц (пункт 4 статьи 48); расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет соответствующих избирательных фондов в установленном законом порядке (пункт 5 статьи 48); обязанность создания избирательных фондов для финансирования избирательной кампании возложена только на кандидатов и избирательные объединения (пункт 1 статьи 58); лишь кандидаты и избирательные объединения вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (пункт 1 статьи 54). Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (пункты 4 и 9 статьи 57, пункт 1 статьи 63).
Введение федеральным законодателем различных условий реализации права на предвыборную агитацию для граждан как участников избирательного процесса, с одной стороны, и кандидатов (избирательных объединений) - с другой, как направленное на достижение конституционных целей, связанных с обеспечением прозрачности выборов, равенства кандидатов перед законом вне зависимости от материального положения и предотвращение злоупотреблений, само по себе не может рассматриваться как не совместимое с конституционными принципами и нормами. При регулировании общественных отношений, включая избирательные, федеральный законодатель связан конституционным принципом соразмерности и вытекающими из него требованиями адекватности и пропорциональности используемых правовых средств. Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях, в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют законодателю установить ограничения закрепляемых ими прав, он не может осуществлять такое регулирование, которое посягало бы на само существо того или иного права и приводило бы к утрате его реального содержания; даже имея цель воспрепятствовать злоупотреблению правом, он должен использовать не чрезмерные, а только необходимые и обусловленные конституционно признаваемыми целями таких ограничений меры. Исходя из этого федеральный законодатель не вправе принимать нормативные решения, влекущие лишение граждан Российской Федерации права проводить предвыборную агитацию против всех кандидатов, если в избирательном бюллетене имеется графа "против всех", вводимый же им порядок реализации данного права должен отвечать требованиям формальной определенности и обеспечивать гражданину возможность соотносить с ним свое поведение, предвидеть в разумной степени последствия, которые может повлечь за собой то или иное его действие. Между тем федеральный законодатель, признав право граждан на проведение предвыборной агитации против всех кандидатов, не предусмотрел специальное нормативное обеспечение данного права, прежде всего в части, касающейся возможности использования для ее финансирования иных, помимо избирательных фондов, средств, в результате чего поставил граждан в ситуацию недопустимой неопределенности относительно правил правомерного участия в избирательном процессе. Таким
образом, в условиях отсутствия в избирательном законодательстве формально определенного порядка реализации гражданами права на проведение лично предвыборной агитации против всех кандидатов за счет собственных (не являющихся средствами избирательных фондов) денежных средств норма, содержащаяся во взаимосвязанных положениях пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", как предполагающая запрет на проведение предвыборной агитации, направленной против всех кандидатов, гражданами лично за счет собственных денежных средств, представляет собой чрезмерное, не обусловленное конституционно значимыми целями ограничение свободы слова и права на распространение информации в форме предвыборной агитации, не отвечает требованиям определенности и недвусмысленности и потому не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 19, 29 (части 1 и 4) и 55 (часть 3).
Решение КС РФ 1. Признать содержащуюся во взаимосвязанных положениях пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" норму, как предполагающую запрет на проведение предвыборной агитации, направленной против всех кандидатов, гражданами лично за счет собственных денежных средств, не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 19, 29 (части 1 и 4) и 55 (часть 3).
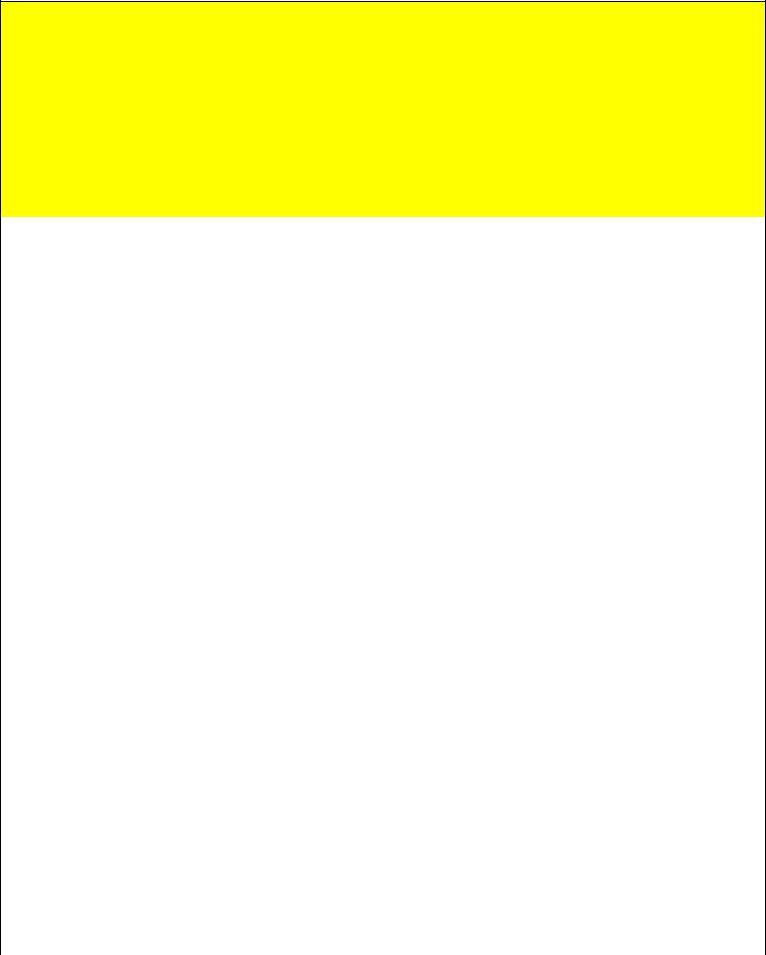
54
Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 N 4-П "По делу о проверке конституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом Арбитражного суда Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной ответственностью "Барышский мясокомбинат" и "ВОЛМЕТ", открытых акционерных обществ "Завод "Реконд", "Эксплуатационно-технический узел связи" и "Электронкомплекс", закрытых акционерных обществ "ГЕОТЕХНИКА П" и "РАНГ" и бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики "Детская городская больница N 3 "Нейрон" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики"
Заявитель |
Арбитражный суд Нижегородской области и общества с ограниченной ответственностью "Барышский |
|
мясокомбинат" и "ВОЛМЕТ", открытые акционерные общества "Завод "Реконд", "Эксплуатационно- |
|
технический узел связи" и "Электронкомплекс", закрытые акционерные общества "ГЕОТЕХНИКА П" и |
|
"РАНГ" и бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Детская городская |
|
больница N 3 "Нейрон" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" |
Основание |
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, |
рассмотрения |
соответствуют ли Конституции Российской Федерации положения статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, |
|
15.23.1 и 19.7.3 КоАП Российской Федерации. |
Позиция |
Заявители по настоящему делу, как следует из содержания их обращений, не подвергая |
заявителя |
сомнению конституционность диспозиций оспариваемых норм, усматривают нарушение Конституции |
|
Российской Федерации, а именно ее статей 17, 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1, 2 и 3), 45 и |
|
55 (часть 3), в том, что установленные ими для юридических лиц значительные минимальные |
|
размеры административных штрафов в системе действующего правового регулирования, не |
|
допускающего назначение административного наказания ниже низшего предела соответствующей |
|
административной санкции, не позволяют обеспечить применение соразмерного и |
|
дифференцированного в зависимости от материального положения нарушителя административного |
|
наказания и тем самым создают предпосылки для необоснованного ограничения права |
|
собственности и права на занятие предпринимательской и иной не запрещенной законом |
|
экономической деятельностью. |
Позиция КС РФ |
Практика законодательного регулирования административных штрафов, применяемых к |
|
юридическим лицам, сложившаяся после принятия Кодекса Российской Федерации об |
|
административных правонарушениях, показывает, что их размеры, изначально установленные за те |
|
или иные административные правонарушения, в том числе применительно к наиболее значимым |
|
для прав и свобод граждан, рыночной экономики, общественной безопасности, охраны окружающей |
|
среды и природопользования сферам общественных отношений, подверглись корректировке в |
|
сторону существенного увеличения, что было обусловлено различными факторами, связанными |
|
преимущественно с формированием ответственного отношения к правовым предписаниям, |
|
основанного на осознании важности их безусловного исполнения. |
|
Само по себе законодательное регулирование, направленное на усиление административной |
|
ответственности, не выходит за рамки полномочий федерального законодателя, который, как |
|
отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, вправе вводить более строгие - соразмерные |
|
реалиям того или иного этапа исторического развития - административные наказания за |
|
административные правонарушения, объектами которых выступают общественные отношения, |
|
нуждающиеся в повышенной защите государства (постановления от 17 января 2013 года N 1-П и от |
|
14 февраля 2013 года N 4-П). В таком контексте положения Кодекса Российской Федерации об |
|
административных правонарушениях, являющиеся предметом рассмотрения Конституционного Суда |
|
Российской Федерации по настоящему делу и предусматривающие повышенные размеры |
|
административных штрафов за деяния, которые - в их крайне противоправном выражении - могут |
|
существенно затрагивать интересы недропользования как одной из основ благосостояния страны, |
|
создавать реальную угрозу жизни и здоровью граждан вследствие грубого нарушения требований |
|
промышленной безопасности или технических регламентов, приводить к дестабилизации |
|
финансовой системы страны, деформированию корпоративных начал экономического развития и |
|
тем самым - к заметному ухудшению социально-экономической ситуации, не могут расцениваться |
|
как отступление от критериев конституционной соразмерности. |
|
Определяя порядок исполнения постановления о назначении юридическому лицу |
|
административного наказания в виде административного штрафа, Кодекс Российской Федерации об |
|
административных правонарушениях предусматривает, что при наличии обстоятельств, вследствие |
|
которых исполнение такого постановления невозможно в установленные сроки (а именно не позднее |
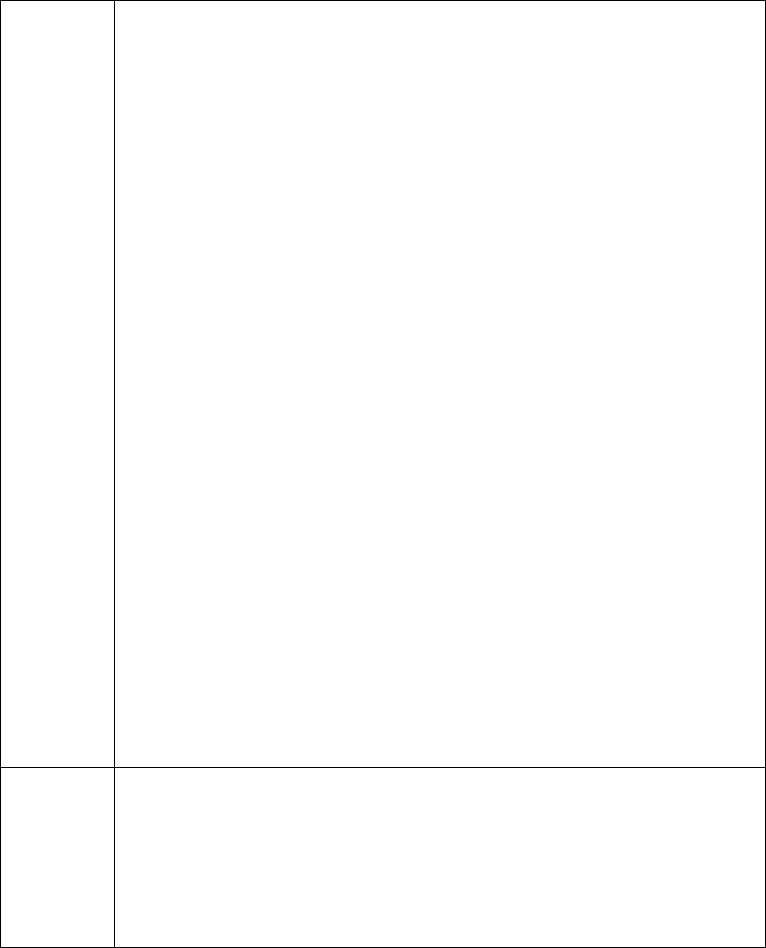
55
шестидесяти дней со дня вступления постановления о его наложении в законную силу либо со дня истечения сроков отсрочки или рассрочки его уплаты), судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, могут отсрочить его исполнение на срок до одного месяца, а также с учетом материального положения юридического лица, привлеченного к административной ответственности, рассрочить уплату назначенного административного штрафа на срок до трех месяцев (части 1 и 2
статьи 31.5, часть 1 статьи 32.2). Таким образом, положения части 1 статьи 7.3, части 1 статьи
9.1, части 1 статьи 14.43, части 2 статьи 15.19, частей 2 и 5 статьи 15.23.1 и статьи 19.7.3 КоАП Российской Федерации, устанавливающие минимальные размеры административных штрафов, применяемых в отношении юридических лиц, совершивших предусмотренные ими административные правонарушения, не соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1, 2 и 3) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования эти законоположения во взаимосвязи с закрепленными данным Кодексом общими правилами применения административных наказаний не допускают назначения административного штрафа ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей административной санкцией (сто тысяч рублей и более), и тем самым не позволяют надлежащим образом учесть характер и последствия совершенного административного правонарушения, степень вины привлекаемого к административной ответственности юридического лица, его имущественное
ифинансовое положение, а также иные имеющие существенное значение для индивидуализации административной ответственности обстоятельства и, соответственно, обеспечить назначение справедливого и соразмерного административного наказания. Впредь до внесения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях надлежащих изменений размер административного штрафа, назначаемого юридическим лицам за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 7.3, частью 1 статьи 9.1, частью 1 статьи 14.43, частью 2 статьи 15.19, частями 2 и 5 статьи 15.23.1 и статьей 19.7.3 КоАП Российской Федерации, а равно за совершение других административных правонарушений, минимальный размер административного штрафа за которые установлен в сумме ста тысяч рублей
иболее, может быть снижен на основе требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, если наложение административного штрафа в установленных соответствующей административной санкцией пределах не отвечает целям административной ответственности и с очевидностью влечет избыточное ограничение прав юридического лица.
Принимая во внимание, что до внесения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях надлежащих изменений возможность снижения минимального размера административного штрафа законодательно не установлена, и учитывая особую роль суда как независимого и беспристрастного арбитра и вместе с тем наиболее компетентного в сфере определения правовой справедливости органа государственной власти, Конституционный Суд Российской Федерации полагает, что принятие решения о назначении юридическому лицу административного штрафа ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей административной санкцией, допускается только в исключительных случаях и только в судебном порядке. Что касается не вступивших к моменту провозглашения настоящего Постановления в
законную силу или вступивших в законную силу, но не исполненных или исполненных частично судебных актов, вынесенных на основании положений части 1 статьи 7.3, части 1 статьи 9.1, части 1 статьи 14.43, части 2 статьи 15.19, части 2 и 5 статьи 15.23.1 и статьи 19.7.3 КоАП Российской Федерации в отношении юридических лиц, не являющихся заявителями по настоящему делу, а равно на основании иных статей данного Кодекса, устанавливающих за совершение предусмотренных ими административных правонарушений минимальные размеры административных штрафов в сумме ста тысяч рублей и более, то такие судебные акты пересмотру (изменению, отмене) в связи с принятием настоящего Постановления не подлежат.
Решение КС РФ 1. Признать положения части 1 статьи 7.3, части 1 статьи 9.1, части 1 статьи 14.43, части 2 статьи 15.19, частей 2 и 5 статьи 15.23.1 и статьи 19.7.3 КоАП Российской Федерации, устанавливающие минимальные размеры
административных штрафов, применяемых в отношении юридических лиц, совершивших предусмотренные ими административные правонарушения, не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1, 2 и 3) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования эти положения во взаимосвязи с закрепленными данным Кодексом общими правилами применения административных наказаний не допускают назначения административного штрафа ниже низшего предела, указанного в соответствующей административной санкции, и тем самым не позволяют надлежащим образом учесть характер и последствия совершенного административного правонарушения, степень вины привлекаемого к административной ответственности юридического лица, его имущественное и финансовое положение, а также иные имеющие существенное значение для индивидуализации административной ответственности обстоятельства и, соответственно, обеспечить назначение справедливого и соразмерного административного наказания.
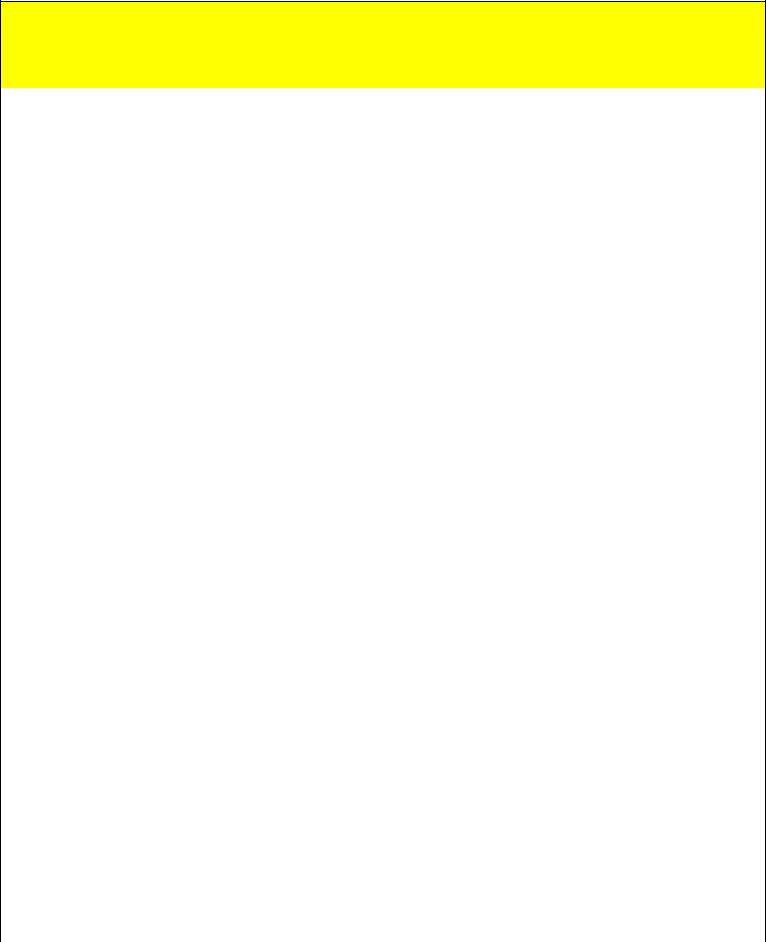
56
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.1996 N 8-П "По делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года "О государственной тайне" в связи с жалобами граждан В.М. Гурджиянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина"
Заявитель |
граждане В.М. Гурджиянц, В.Н. Синцов, В.Н. Бугров и А.К. Никитин |
Основание |
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, |
рассмотрения |
соответствуют ли Конституции Российской Федерации положения названного Закона, допускающие |
|
возможность отстранения адвоката от участия в качестве защитника в производстве по уголовным |
|
делам, связанным с государственной тайной, ввиду отсутствия у него специального допуска к |
|
государственной тайне. |
Позиция |
Военный суд Московского военного округа, рассматривавший уголовное дело по обвинению В.М. |
заявителя |
Гурджиянца в совершении преступления, предусмотренного статьей 64 УК РСФСР, отказался |
|
допустить к участию в деле в качестве защитника обвиняемого адвоката Д.Д. Штейнберга. |
|
Основанием для такого отказа послужило отсутствие у последнего специального допуска по |
|
установленной форме к государственной тайне, предусмотренного статьей 21 Закона Российской |
|
Федерации "О государственной тайне". В обоснование своего решения суд сослался на то, что |
|
согласно статье 1 того же Закона его положения обязательны для исполнения на территории |
|
Российской Федерации и за ее пределами органами представительной, исполнительной и судебной |
|
властей, а также должностными лицами и гражданами. Полагая, что в результате применения судом |
|
положений статей 1 и 21 названного Закона было нарушено его конституционное право на |
|
получение квалифицированной юридической помощи, включая помощь адвоката, В.М. Гурджиянц |
|
обратился в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой о проверке конституционности |
|
этих правовых норм. Жалобы с аналогичными требованиями поступили от граждан В.Н. Синцова, |
|
В.Н. Бугрова и А.К. Никитина, которым следователями органов прокуратуры и Федеральной службы |
|
безопасности Российской Федерации также было отказано в допуске к участию в деле избранных |
|
ими защитников со ссылкой на предписания статьи 21 Закона Российской Федерации "О |
|
государственной тайне". |
Позиция КС РФ |
Обжалуемая заявителями статья 21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" |
|
устанавливает, что допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне осуществляется в |
|
добровольном порядке по решению руководителя органа государственной власти, предприятия, |
|
учреждения или организации после проведения соответствующих проверочных мероприятий. Цель |
|
такой проверки - выявление обстоятельств, которые в соответствии со статьей 22 данного Закона |
|
могут служить основанием для отказа в допуске к государственной тайне. Решение об отказе |
|
должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне согласно части второй той же |
|
статьи может быть обжаловано в вышестоящую организацию или в суд. Таким образом, обжалуемое |
|
положение о порядке допуска к государственной тайне не может быть применено и к адвокату, |
|
участвующему в уголовном судопроизводстве в качестве защитника. Однако, как установлено в ходе |
|
судебного заседания, органы, осуществляющие производство по уголовным делам, связанным с |
|
государственной тайной, основываясь на положениях статьи 21 Закона Российской Федерации "О |
|
государственной тайне", признают отсутствие такого допуска у адвоката в качестве обстоятельства, |
|
исключающего возможность его участия в процессе. Тем самым данной статье придается смысл, в |
|
соответствии с которым именно она, а не уголовно-процессуальные нормы, является единственным |
|
и достаточным правовым основанием для отстранения от участия в уголовном деле адвоката, не |
|
имеющего допуска к государственной тайне. Поэтому отказ обвиняемому (подозреваемому) в |
|
приглашении выбранного им адвоката по мотивам отсутствия у последнего допуска к |
|
государственной тайне, а также предложение обвиняемому (подозреваемому) выбрать |
|
защитника из определенного круга адвокатов, имеющих такой допуск, обусловленные |
|
распространением положений статьи 21 Закона Российской Федерации "О государственной |
|
тайне" на сферу уголовного судопроизводства, неправомерно ограничивают |
|
конституционное право гражданина на получение квалифицированной юридической помощи |
|
и право на самостоятельный выбор защитника (статья 48 Конституции Российской |
|
Федерации, статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах). |
|
Указанные конституционные права в силу статьи 56 (часть 3) Конституции Российской |
|
Федерации не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах. |
Решение КС РФ |
1. Признать статью 1 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" соответствующей Конституции |
|
Российской Федерации. 2. Признать статью 21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" по ее |
|
буквальному смыслу соответствующей Конституции Российской Федерации. Распространение положений |
|
данной статьи на адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, и отстранение |
|
их от участия в деле в связи с отсутствием допуска к государственной тайне не соответствует Конституции |
|
Российской Федерации, ее статьям 48 и 123 (часть 3). |
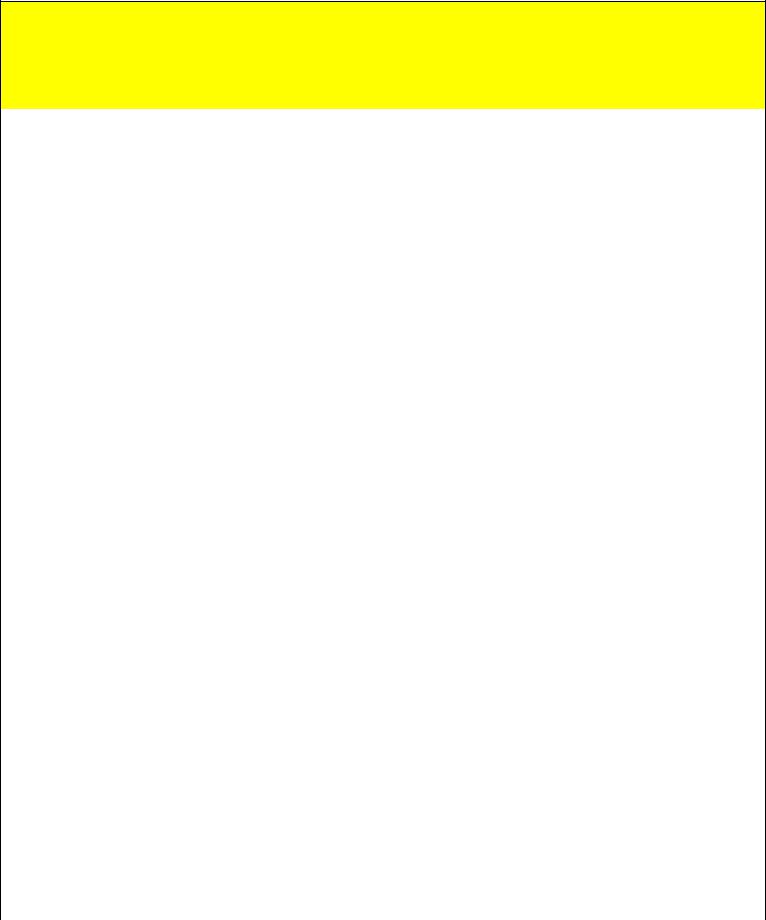
57
Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2010 N 14-П "По делу о проверке конституционности подпункта "а" пункта 1 и подпункта "а" пункта 8 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина А.М. Малицкого"
Заявитель |
Гражданин А.М.Малицкий |
|
Основание |
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, |
|
рассмотрения |
соответствуют ли Конституции Российской Федерации положения подпункта "а" пункта 1 и подпункта |
|
|
"а" пункта 8 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на |
|
|
участие в референдуме граждан Российской Федерации". |
|
Позиция |
По предложению Регионального отделения политической партии "Российская объединенная |
|
заявителя |
демократическая партия "Яблоко" в городе Москве заявитель по настоящему делу гражданин А.М. Малицкий |
|
решением Московской городской избирательной комиссии от 7 декабря 2006 года был назначен членом |
||
|
||
|
территориальной избирательной комиссии района Преображенское с правом решающего голоса. |
|
|
26 июня 2009 года в Московскую городскую избирательную комиссию поступили уведомление А.М. |
|
|
Малицкого о том, что с 12 июня 2009 года ему предоставлен вид на жительство на территории Литовской |
|
|
Республики, а также выписка из протокола заседания регионального совета Регионального отделения |
|
|
политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" в городе Москве о |
|
|
выдвижении в состав территориальной избирательной комиссии района Преображенское другой кандидатуры. |
|
|
Московская городская избирательная комиссия решением от 9 июля 2009 года приняла к сведению, что |
|
|
полномочия члена территориальной избирательной комиссии района Преображенское А.М. Малицкого |
|
|
немедленно прекращены в соответствии с подпунктом "а" пункта 8 статьи 29 Федерального закона "Об |
|
|
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", и |
|
|
назначила в состав территориальной избирательной комиссии другого представителя, кандидатура которого |
|
|
была предложена политической партией "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". |
|
|
Решением Московского городского суда от 10 августа 2009 года, оставленным без изменения определением |
|
|
Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 2009 года, в отмене решения Московской городской |
|
|
избирательной комиссии от 9 июля 2009 года А.М. Малицкому было отказано. По мнению заявителя, |
|
|
взаимосвязанные положения подпункта "а" пункта 1 и подпункта "а" пункта 8 статьи 29 Федерального закона "Об |
|
|
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", |
|
|
препятствуя назначению членом территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса |
|
|
гражданина Российской Федерации, который имеет вид на жительство на территории иностранного государства, |
|
|
носят дискриминационный характер по отношению к такому гражданину, необоснованно ограничивают его |
|
|
право на участие в управлении делами государства, а потому противоречат Конституции Российской |
|
|
Федерации, ее статьям 19 (часть 2), 32 (часть 1) и 55 (часть 3). |
|
Позиция КС РФ |
Таким образом, определяя способы и условия реализации гражданами Российской Федерации |
|
|
гарантированного им статьей 32 (часть 1) Конституции Российской Федерации права на участие в |
|
|
управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, федеральный |
|
|
законодатель не вправе допускать искажения конституционных принципов и норм, устанавливающих |
|
|
основы правового положения граждан, равно как и отмены или умаления самого данного права, с тем |
|
|
чтобы оно не утратило своего реального содержания. |
|
|
Следовательно, определяя порядок формирования и деятельности избирательных комиссий, |
|
|
федеральный законодатель не только вправе, но и обязан осуществлять такое правовое |
|
|
регулирование, которое, с одной стороны, отвечало бы целям обеспечения свободного |
|
|
волеизъявления граждан Российской Федерации при реализации ими избирательных прав и права на |
|
|
участие в референдуме, а с другой - не допускало использования публично значимых полномочий |
|
|
избирательных комиссий в ущерб правам и свободам граждан и иным конституционным ценностям, что |
|
|
в равной мере относится и к определению условий назначения граждан Российской Федерации членами |
|
|
избирательных, в том числе территориальных, комиссий с правом решающего голоса и исполнения ими |
|
|
соответствующих полномочий. Таким образом, взаимосвязанные положения подпункта "а" пункта 1 и |
|
|
подпункта "а" пункта 8 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и |
|
|
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в части, лишающей гражданина |
|
|
Российской Федерации, получившего вид на жительство на территории иностранного государства, |
|
|
возможности быть членом территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, не |
|
|
соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 2), 32 (часть 1) и 55 (часть 3). |
|
Решение КС РФ |
1. Признать взаимосвязанные положения подпункта "а" пункта 1 и подпункта "а" пункта 8 |
|
|
статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в |
|
|
референдуме граждан Российской Федерации" в части, лишающей гражданина Российской |
|
|
Федерации, получившего вид на жительство на территории иностранного государства, возможности |
|
|
быть членом территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, не |
|
|
соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 2), 32 (часть 1) и 55 |
|
|
(часть 3). |
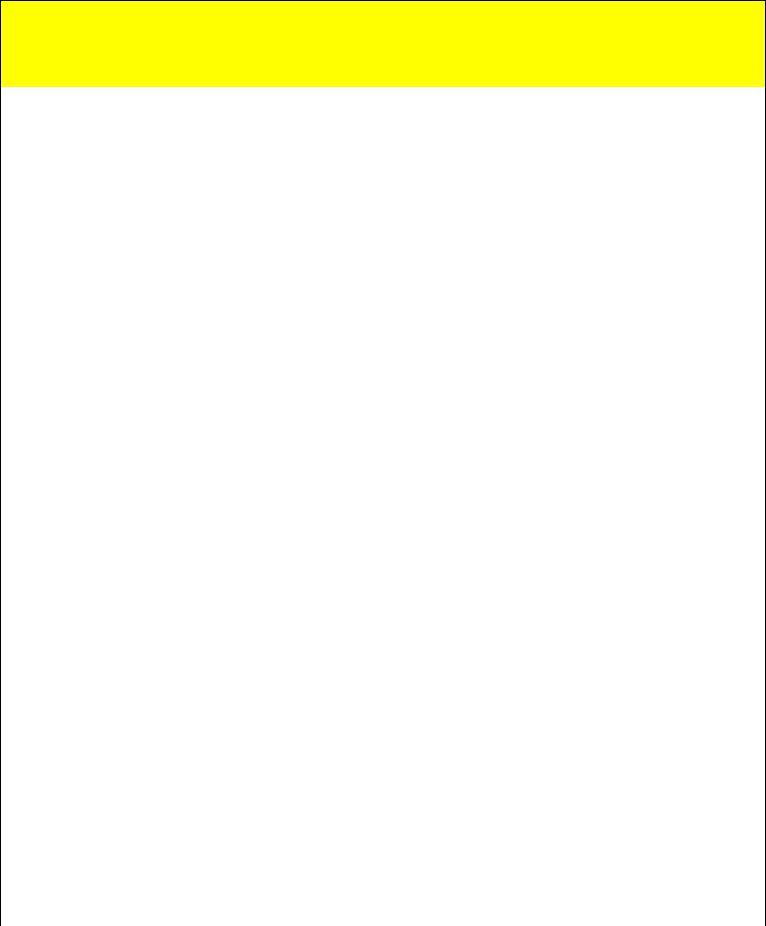
58
Постановление Конституционного Суда РФ от 15.01.1998 N 2-П "По делу о проверке конституционности положений частей первой и третьей статьи 8 Федерального закона от 15 августа 1996 года "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в связи с жалобой гражданина А.Я. Аванова"
Заявитель |
Гражданин А.Я.Аванов |
Основание |
нарушение конституционного права свободно выезжать за пределы Российской Федерации статьями |
рассмотрения |
2 и 8 названного Федерального закона |
Позиция |
Гражданин Российской Федерации А.Я. Аванов, имеющий постоянную прописку по месту |
заявителя |
жительства в городе Тбилиси (Республика Грузия), но фактически в течение многих лет |
|
проживающий в городе Москве, в 1996 году обращался в УВИР ГУВД города Москвы с заявлением о |
|
выдаче ему заграничного паспорта. Однако в этом ему было отказано за неимением жилого |
|
помещения, наличие которого позволяло бы ему получить в городе Москве регистрацию по месту |
|
жительства или по месту пребывания. |
|
По тем же основаниям Тверской межмуниципальный народный суд Центрального округа |
|
города Москвы отказал в удовлетворении жалобы А.Я. Аванова, сославшись, в частности, на статью |
|
8 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую |
|
Федерацию". При этом суд указал, что А.Я. Аванов в соответствии с данной нормой вправе |
|
обращаться за выдачей заграничного паспорта лишь в уполномоченные органы - по месту |
|
жительства за пределами Российской Федерации, т.е. в Республике Грузия. |
|
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации А.Я. Аванов просит проверить |
|
конституционность положений статей 2 и 8 Федерального закона "О порядке выезда из Российской |
|
Федерации и въезда в Российскую Федерацию", поскольку, по его мнению, порядок оформления и |
|
выдачи заграничных паспортов лишь при условии регистрации по месту жительства является |
|
ограничительным, так как приводит к дискриминации граждан и необоснованно препятствует |
|
реализации конституционного права свободно выезжать за пределы Российской Федерации, т.е. не |
|
соответствует статьям 19, 27 и 55 Конституции Российской Федерации. |
Позиция КС РФ |
Таким образом, согласно указанным нормативным актам и практике их применения место |
|
жительства как факт, с которым связываются юридические последствия, реально определяется не |
|
самим гражданином, а соответствующим органом внутренних дел. Иной порядок выдачи паспорта - |
|
не по месту жительства, а по месту пребывания - возможен лишь в исключительных случаях, |
|
предусмотренных частью третьей статьи 10 Федерального закона "О порядке выезда из Российской |
|
Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Не предусмотрены какие-либо иные исключения и |
|
для граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих за рубежом. |
|
Согласно частям первой и третьей статьи 8 Федерального закона "О порядке выезда из Российской |
|
Федерации и въезда в Российскую Федерацию" они могут обращаться за получением паспорта лишь |
|
в государстве, где зарегистрировано их постоянное пребывание, и иного порядка закон не |
|
устанавливает. |
|
Конституция Российской Федерации (статья 55, часть 3) допускает возможность ограничения |
|
федеральным законом прав и свобод человека и гражданина, но только в той мере, в какой |
|
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, |
|
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности |
|
государства. Проверка обстоятельств, препятствующих выезду гражданина за пределы Российской |
|
Федерации, возложена преимущественно на территориальные органы внутренних дел по месту |
|
жительства гражданина, что обусловлено лишь целями рациональной организации деятельности |
|
соответствующих органов. Такой порядок, если он является условием, ограничивающим права |
|
граждан, не может быть признан соответствующим положению статьи 18 Конституции Российской |
|
Федерации, согласно которому права и свободы человека и гражданина определяют смысл, |
|
содержание и применение законов. Он не согласуется и с указанными в статье 55 (часть 3) |
|
Конституции Российской Федерации целями, которые допускают определенные ограничения прав |
|
граждан федеральным законом. |
Решение КС РФ |
1. Признать не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 |
|
и 2), 27 (часть 2), 55 (часть 3), положения части первой статьи 8 Федерального закона "О порядке |
|
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в части, по существу |
|
препятствующей выдаче гражданину Российской Федерации заграничного паспорта в ином порядке |
|
при отсутствии у него регистрации по месту жительства или по месту пребывания, а также |
|
положение части третьей той же статьи в части, по существу препятствующей выдаче гражданину |
|
Российской Федерации, имеющему место жительства за пределами ее территории, заграничного |
|
паспорта в Российской Федерации. |
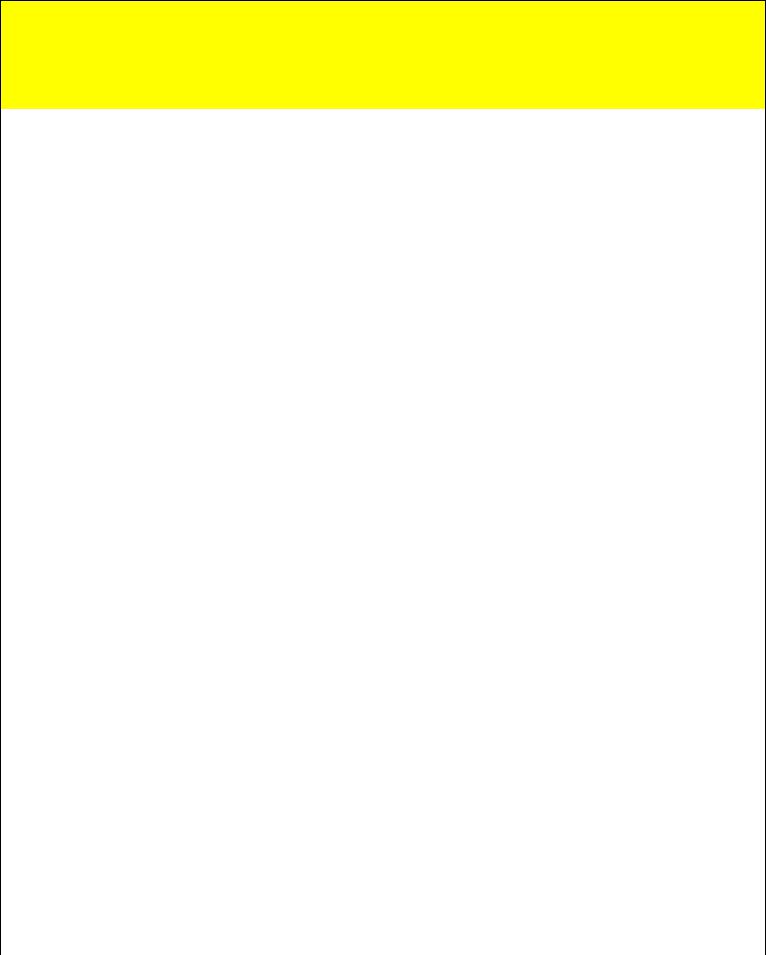
59
Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1998 N 4-П "По делу о проверке конституционности пунктов 10, 12 и 21 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713"
Заявитель |
губернатор Нижегородской области как глава исполнительной власти субъекта Российской |
|
Федерации |
Основание |
проверка конституционности пунктов 10, 12 и 21 Правил регистрации и снятия граждан Российской |
рассмотрения |
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах |
|
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 |
|
июля 1995 г. N 713 (с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Российской |
|
Федерации от 23 апреля 1996 г. N 512 и от 14 февраля 1997 г. N 172). |
Позиция |
Губернатор Нижегородской области полагает, что положения пунктов 10, 12 и 21 Правил |
заявителя |
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту |
|
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, устанавливая ограничения |
|
срока регистрации по месту пребывания (пункт 10) и возможность отказа гражданину в регистрации |
|
по месту пребывания и по месту жительства (пункты 12 и 21), по существу, придают регистрации |
|
разрешительный характер, т.е. сохраняют институт прописки. |
|
По мнению заявителя, оспариваемые им правовые нормы ограничивают закрепленное статьей |
|
27 (часть 1) Конституции Российской Федерации право граждан свободно передвигаться, выбирать |
|
место пребывания и жительства и вступают в противоречие со статьей 55 (часть 3) Конституции |
|
Российской Федерации, предусматривающей возможность ограничения прав и свобод человека и |
|
гражданина только федеральным законом, поскольку они выходят за пределы ограничений, |
|
установленных Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года "О праве граждан Российской |
|
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах |
|
Российской Федерации". |
Позиция КС РФ |
Таким образом, регистрация в том смысле, в каком это не противоречит Конституции |
|
Российской Федерации, является лишь предусмотренным федеральным законом способом учета |
|
граждан в пределах Российской Федерации, носящим уведомительный характер и отражающим |
|
факт нахождения гражданина по месту пребывания или жительства. Перечисленные основания для |
|
ограничений права выбирать место пребывания и жительства сформулированы в названном Законе |
|
исчерпывающим образом, и только они могут служить предпосылкой для введения особого, а |
|
именно разрешительного учета граждан, который по своему характеру и содержанию отличается от |
|
уведомительной регистрации. Установление иных, кроме прямо указанных в федеральном законе, |
|
оснований для введения разрешительного порядка регистрации является нарушением требований |
|
Конституции Российской Федерации и федерального закона. Отступление от запрета расширять этот |
|
перечень в подзаконных актах, в том числе в актах Правительства Российской Федерации, означает |
|
недопустимую легализацию разрешительного порядка регистрации граждан. Как следует из части |
|
первой статьи 6 Закона, для регистрации достаточно представления любого из указанных в ней |
|
документов, который подтверждает добросовестное использование гражданином своего права. При |
|
этом, по смыслу части второй данной статьи, представление гражданином соответствующих |
|
документов порождает у органа регистрационного учета не право, а обязанность зарегистрировать |
|
гражданина в жилом помещении, которое он избрал местом своего жительства. Введение же |
|
дополнительных требований о представлении каких-либо иных документов могло бы фактически |
|
привести к парализации соответствующих прав граждан. |
|
Установление срока, по истечении которого гражданин обязан покинуть место пребывания, |
|
является вмешательством органов исполнительной власти и других органов |
|
регистрационного учета в гражданские, жилищные и иные правоотношения, складывающиеся |
|
на основе согласия сторон, и ограничивает конституционное право граждан на свободу |
|
выбора места пребывания и жительства. |
Решение КС РФ |
1. Признать пункты 10, 12 и 21 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с |
|
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской |
|
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 |
|
г. N 713, не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 27 (часть 1) и 55 |
|
(часть 3). 2. Согласно части второй статьи 87 Федерального конституционного закона "О |
|
Конституционном Суде Российской Федерации" признание пунктов 10, 12 и 21 Правил регистрации и |
|
снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту |
|
жительства в пределах Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской |
|
Федерации является основанием отмены в установленном порядке положений других нормативных |
|
актов, основанных на них либо воспроизводящих их или содержащих такие же положения. |
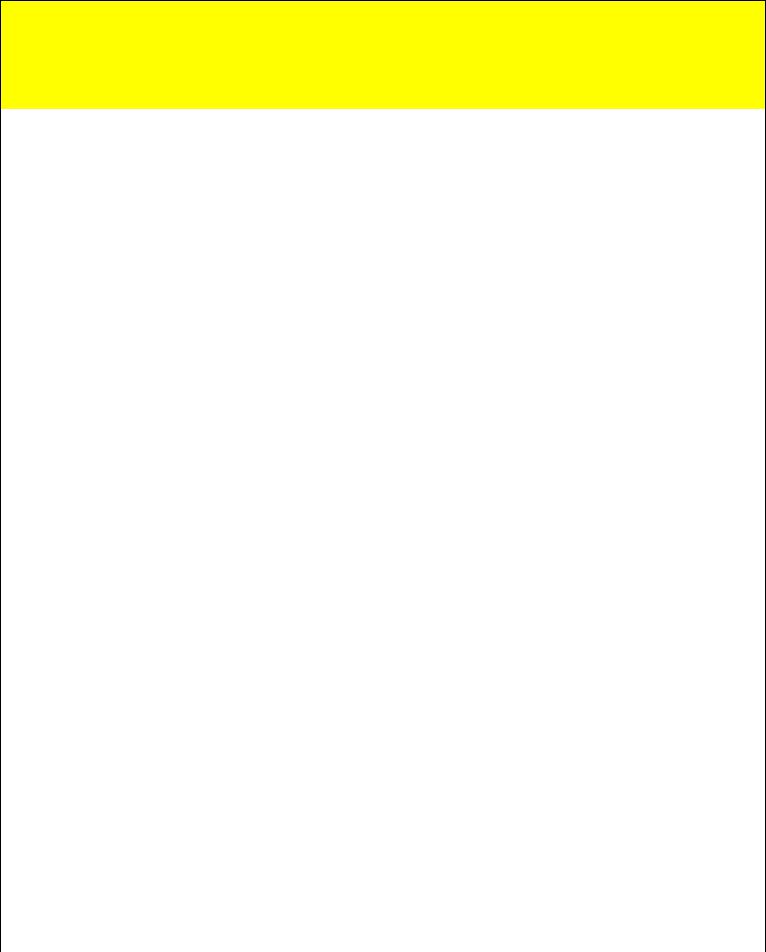
60
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.12.1999 N 19-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 3 статьи 20 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в связи с жалобами граждан В.П. Малкова и Ю.А. Антропова, а также запросом Вахитовского районного суда города Казани"
Заявитель |
Граждане В.П.Малков, Ю.А.Антропов |
Основание |
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, |
рассмотрения |
соответствуют ли Конституции Российской Федерации положения пункта 3 статьи 20 Федерального |
|
закона от 22 августа 1996 года "О высшем и послевузовском профессиональном образовании". |
Позиция |
По мнению заявителей, установление законодателем предельного возраста при замещении ряда |
заявителя |
должностей в государственных и муниципальных высших учебных заведениях является |
|
недопустимым ограничением свободы труда, препятствует реализации конституционного права |
|
каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и |
|
профессию, носит дискриминационный характер, а потому положения пункта 3 статьи 20 |
|
Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" не |
|
соответствуют статьям 2, 7 (часть 1), 15 (часть 1), 17 (части 1 и 2), 18, 19 (части 1 и 2), 37 (часть 1) и |
|
55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации. |
Позиция КС РФ |
Различия, исключения или предпочтения в области труда и занятий, основанные на специфических |
|
требованиях определенной работы, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Конвенции МОТ N 111 1958 года о |
|
дискриминации в области труда и занятий, ратифицированной Союзом ССР в 1961 году и в силу статьи 15 |
|
(часть 4) Конституции Российской Федерации являющейся составной частью правовой системы Российской |
|
Федерации, не считаются дискриминацией. Следовательно, установление предельного возраста при |
|
замещении определенных должностей по трудовому договору (контракту) допустимо, если это |
|
ограничение обусловлено спецификой и особенностями выполняемой работы; при введении такого |
|
рода возрастных ограничений должно быть обеспечено соблюдение Конституции Российской |
|
Федерации, в том числе конституционного принципа равенства, исключающего необоснованное |
|
предъявление разных требований к лицам, выполняющим одинаковые по своему содержанию |
|
функции. В противном случае установление предельного возраста, достижение которого является |
|
основанием для освобождения от должности независимо от согласия работника, означало бы |
|
дискриминацию по возрастному признаку. Аналогичная правовая позиция ранее уже была выражена |
|
Конституционным Судом Российской Федерации в постановлениях от 4 февраля 1992 года по делу о |
|
проверке конституционности правоприменительной практики расторжения трудового договора по |
|
основанию, предусмотренному пунктом 1.1 статьи 33 КЗоТ РСФСР, и от 6 июня 1995 года по делу о |
|
проверке конституционности абзаца второго части седьмой статьи 19 Закона РСФСР от 18 апреля 1991 |
|
года "О милиции".Устанавливая предельный возраст при замещении должности заведующего кафедрой, |
|
законодатель вместе с тем не предусматривает каких-либо возрастных ограничений при замещении других |
|
профессорско-преподавательских должностей на кафедре (что подтверждается и содержащимся в пункте 3 |
|
статьи 20 правилом о переводе лиц, которые занимают должности заведующих кафедрами и достигли |
|
шестидесятипятилетнего возраста, с их согласия на иные должности, соответствующие их квалификации, - |
|
профессора, доцента и пр.). Следовательно, сам по себе возраст, превышающий шестьдесят пять лет, не |
|
препятствует успешному осуществлению данного вида деятельности. С учетом изложенного возрастное |
|
ограничение при замещении должностей заведующих кафедрами в государственных и муниципальных |
|
высших учебных заведениях не может рассматриваться в качестве специального требования, |
|
обусловленного характером этой деятельности, особенностями данного вида труда, а сам по себе факт |
|
достижения предельного возраста не может служить достаточным основанием для освобождения от |
|
должности заведующего кафедрой или препятствовать участию в выборах на данную должность. |
|
Однако по смыслу оспариваемых положений и сложившейся в соответствии с ними |
|
правоприменительной практики лица, претендующие на замещение должности заведующего кафедрой, |
|
только в силу того, что они достигли соответствующего возраста, лишаются возможности |
|
баллотироваться и избираться на эту должность и, следовательно, на равных с другими лицами, |
|
относящимися к профессорско-преподавательскому составу, условиях заключать трудовой договор |
|
(контракт) о работе в данной должности, а если занимают ее, - продолжить работу до окончания срока, |
|
на который они избраны. Тем самым положения пункта 3 статьи 20 Федерального закона "О высшем и |
|
послевузовском профессиональном образовании", предусматривающие возрастные ограничения при |
|
замещении должностей заведующих кафедрами в государственных и муниципальных высших учебных |
|
заведениях, нарушают конституционный принцип равноправия, включая равенство возможностей |
|
(статья 19, части 1 и 2, Конституции Российской Федерации), и приводят к дискриминации при |
|
реализации права, закрепленного статьей 37 (часть 1) Конституции Российской Федерации. |
Решение КС РФ |
1. Признать положения пункта 3 статьи 20 Федерального закона от 22 августа 1996 года "О высшем и |
|
послевузовском профессиональном образовании", предусматривающие возрастные ограничения для лиц, |
|
замещающих должности заведующих кафедрами в государственных и муниципальных высших учебных |
|
заведениях, не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2) и статьи 37 |
|
(1). |
|
|
