
POSTANOVLENIYa_KS_
.pdf
41
существу, воспроизводит статью 2 Декларации о государственном суверенитете Горно - Алтайской Автономной Советской Социалистической Республики, принятой Горно - Алтайским областным Советом народных депутатов 25 октября 1990 года, и конкретизируется, в частности, в статье 77, закрепляющей, что Республика Алтай образована как результат реализации указанной Декларации, и в статье 114, согласно которой Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай выступает гарантом ее суверенитета, а также в других статьях Конституции Республики Алтай. Статья 66 (часть 5) Конституции Российской Федерации предусматривает, что статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации и ее субъекта в соответствии с федеральным конституционным законом. Однако из этого не следует, что он не устанавливается самой Конституцией Российской Федерации: именно Конституция Российской Федерации является актом, определяющим такой статус, а любое соглашение Российской Федерации и ее субъекта, а также федеральный конституционный закон по своей юридической силе не могут быть выше Конституции Российской Федерации, что вытекает из ее статей 4 и 15, а также пункта 1 раздела второго "Заключительные и переходные положения".
Статьей 162 Конституции Республики Алтай закреплено, что государственные символы Республики Алтай - герб, флаг, гимн выражают не только самобытность и традиции ее многонационального народа, но и суверенитет Республики Алтай. Данная норма, по существу, воспроизводит пункт 1 Положения о Государственном гербе Республики Алтай (утверждено Постановлением Верховного Совета Республики Алтай от 6 октября 1993 года), согласно которому герб является символом государственного суверенитета Республики Алтай.
Всилу своего конституционного статуса (статьи 65 и 66 Конституции Российской Федерации) республика, как и другие субъекты Российской Федерации, вправе самостоятельно устанавливать свои символы, выражающие исторические и иные ценности и традиции народов, проживающих на соответствующей территории, придавать им статус официальных отличительных атрибутов, определять порядок их официального использования. Флаг, герб и гимн наряду с наименованием республики призваны самоидентифицировать ее внутри Российской Федерации и по своему предназначению не могут служить иным целям.
Следовательно, по смыслу закрепляющих принцип суверенитета Республики Алтай положений статей 4 и 162 Конституции Республики Алтай во взаимосвязи с другими ее предписаниями, суверенитет самой Российской Федерации, ее конституционно - правовой статус, федеративное устройство и полномочия, по существу, рассматриваются как производные от суверенитета, провозглашаемого тем или иным субъектом Российской Федерации. Однако это нельзя признать допустимым, поскольку тем самым ограничивались бы суверенитет Российской Федерации, верховенство Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации и создавалась бы возможность одностороннего изменения республикой установленных Конституцией Российской Федерации федеративного устройства, принципа равноправия республик с иными субъектами Российской Федерации, разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов……
ВПостановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января 1996 года и от 1 февраля 1996 года выражена также правовая позиция, в соответствии с которой субъекты Российской Федерации не вправе в своих конституциях (уставах) закреплять положения о необходимости согласия органов законодательной (представительной) власти на освобождение от должности должностных лиц органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, поскольку такие положения являются неправомерным вторжением в полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации как главы исполнительной власти, несущего ответственность за ее деятельность, и лишают ее возможности действовать в качестве самостоятельной в системе разделения властей в Российской Федерации.
Кроме того, в Конституции Республики Алтай отсутствуют какие-либо механизмы, которые позволяли бы истолковать содержащееся в пункте 9 ее статьи 118 положение о даче согласия на освобождение от должности руководителя органа исполнительной власти Республики Алтай в ином, соответствующем Конституции Российской Федерации смысле, с тем чтобы во взаимоотношениях законодательной и исполнительной власти обеспечивалась самостоятельность высшего органа исполнительной власти Республики Алтай, как того требует статья 10 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 5 (часть
3), 11 (часть 2) и 77. Таким образом, оспариваемое положение пункта 1 статьи 24 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", согласно которому законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации может принимать участие в согласовании назначения на должность руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в случаях,
|
42 |
|
|
|
предусмотренных федеральным законом, не противоречит Конституции Российской Федерации при |
|
условии, что на соответствующие территориальные органы федеральных органов исполнительной |
|
власти возлагается осуществление полномочий Российской Федерации по вопросам совместного |
|
ведения Российской Федерации и ее субъектов. |
Решение КС РФ |
1. Признать содержащиеся в статьях 4 и 162 Конституции Республики Алтай положения о |
|
суверенитете Республики Алтай, взаимосвязанные с положениями части первой статьи 1, |
|
части первой статьи 6, части первой статьи 20, статей 77 и 114 Конституции Республики |
|
Алтай, не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 3 (часть 1), 4 |
|
(части 1 и 2), 5, 66 (части 1 и 5), 67 (часть 1) и 71 (пункт "б"). |
|
Этим не затрагивается принадлежность Республике Алтай всей полноты |
|
государственной власти, которой она - в силу статьи 73 Конституции Российской Федерации - |
|
обладает вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской |
|
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов |
|
Российской Федерации. |
|
2. Признать положение части первой статьи 16 Конституции Республики Алтай, согласно |
|
которому земля, недра, леса, растительный и животный мир, водные и другие природные |
|
ресурсы являются достоянием (собственностью) Республики Алтай, как допускающее |
|
признание за Республикой Алтай права собственности на все природные ресурсы, |
|
находящиеся на ее территории, не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее |
|
статьям 4 (части 1 и 2), 9, 15 (часть 1), 36, 72 (пункты "в" и "г" части 1) и 76 (части 2 и 5). |
|
При этом с Российской Федерации и субъектов Российской Федерации не снимается |
|
вытекающая из статей 9, 72 (пункты "в", "д") и 76 (часть 2) Конституции Российской |
|
Федерации обязанность в установленном федеральным законом порядке гарантировать |
|
использование и обеспечивать охрану земли и других природных ресурсов как основы жизни |
|
и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. |
|
3. Признать не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 4 |
|
(части 1 и 2), 67 (часть 1), 71 (пункты "и" и "м") и 76 (части 1, 2 и 5), положение части второй |
|
статьи 10 Конституции Республики Алтай, согласно которому в Республике Алтай не |
|
допускается складирование радиоактивных отходов и отравляющих веществ. |
|
4. Признать не противоречащим Конституции Российской Федерации положение части |
|
первой статьи 59 Конституции Республики Алтай, устанавливающее, что родители или |
|
заменяющие их лица должны обеспечить получение детьми среднего (полного) общего |
|
образования, поскольку оно предполагает лишь активное содействие со стороны названных |
|
лиц в реализации права несовершеннолетних, которые хотят продолжить обучение, на |
|
получение такого образования, если Республикой Алтай создаются для этого необходимые |
|
условия. |
|
5. Признать не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 49 |
|
(часть 1), 71 (пункт "о") и 76 (часть 1), положение статьи 126 Конституции Республики Алтай об |
|
отрешении Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от |
|
должности в случае совершения им умышленного преступления, поскольку оно |
|
предусматривает, что совершение Главой Республики Алтай, Председателем Правительства |
|
Республики Алтай умышленного преступления подтверждается заключением Верховного |
|
суда Республики Алтай. |
|
6. Признать не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 4 |
|
(часть 2), 71 (пункты "г", "о") и 76 (часть 1), положение статьи 154 Конституции Республики |
|
Алтай о том, что городской и районный суды Республики Алтай образуются и действуют в |
|
том числе в соответствии с законом Республики Алтай. |
|
7. Признать не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статье 10, |
|
положение пункта 9 статьи 118 Конституции Республики Алтай о назначении на должность |
|
министров, председателей комитетов и руководителей ведомств Республики Алтай Главой |
|
Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай с согласия |
|
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, поскольку в силу этого |
|
положения такое согласие требуется для назначения на должность руководителей всех |
|
органов исполнительной власти Республики Алтай. |
|
Признать не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статье 10, |
|
положение пункта 9 статьи 118 Конституции Республики Алтай об освобождении от |
|
должности министров, председателей комитетов и руководителей ведомств Республики |
|
Алтай Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай лишь с |
|
согласия Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. |
|
8. Признать не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 3 |
|
(часть 2), 10, 13 (части 1, 2 и 3) и 32 (часть 2), положения подпункта "и" пункта 1 статьи 19 |
|
Федерального закона от 6 октября 1999 года "Об общих принципах организации |

43
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", а также статей 123 и 123.1 Конституции Республики Алтай, поскольку они не предусматривают необходимость четких правовых оснований отзыва высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), не устанавливают процедурных гарантий, в частности не требуют положительного голосования большинства всех зарегистрированных избирателей субъекта Российской Федерации, что создает возможность произвольного применения данного института, особенно в случаях, когда отзыв связывается с утратой доверия по политическим мотивам.
Институт отзыва высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) может быть введен при условии установления надлежащих правовых оснований и процедур, с учетом выявленного в настоящем Постановлении конституционно - правового смысла требований, предъявляемых к этому институту.
9. Признать положение пункта 1 статьи 24 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", согласно которому законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации может принимать участие в согласовании назначения на должность руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных федеральным законом, не противоречащим Конституции Российской Федерации при условии, что на соответствующие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти возлагается осуществление полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

44
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 июня 2003 г. N 10-П ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН "О РЕФЕРЕНДУМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Заявитель |
Группа депутатов ГД РФ |
Основание |
Поводом к рассмотрению дела явился запрос группы депутатов Государственной Думы о проверке |
рассмотрения |
конституционности положений Федерального конституционного закона "О внесении изменения и |
|
дополнения в Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации", |
|
предусматривающих период, в течение которого не допускается выступление с инициативой о |
|
проведении референдума Российской Федерации и само его проведение, а также конституционности |
|
названного Федерального конституционного закона в целом по порядку принятия Государственной |
|
Думой. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о |
|
том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации положения оспариваемого Федерального |
|
конституционного закона и имевший место порядок его принятия. |
Позиция |
Депутаты Государственной Думы, обратившиеся с запросом в Конституционный Суд |
заявителя |
Российской Федерации, утверждают, что Федеральный конституционный закон "О внесении |
|
изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской |
|
Федерации", увеличив период, в течение которого не допускается инициатива о проведении |
|
референдума Российской Федерации и само его проведение, тем самым нарушил, фактически |
|
пересмотрел положения Конституции Российской Федерации о том, что народ осуществляет свою |
|
власть непосредственно, и о том, что референдум является высшим непосредственным |
|
выражением власти народа, которые относятся к основам конституционного строя Российской |
|
Федерации и как таковые не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием, а также |
|
несоразмерно ограничил право граждан Российской Федерации участвовать в референдуме, что |
|
противоречит статьям 1 (часть 1), 2, 3, 16 (часть 1), 29 (части 1 и 3), 32 (часть 2), 55 (части 2 и 3) и |
|
135 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации. |
|
При этом, как следует из содержания запроса и выступлений представителей заявителей в |
|
заседании Конституционного Суда Российской Федерации, конституционность Федерального |
|
конституционного закона "О внесении изменения и дополнения в Федеральный конституционный |
|
закон "О референдуме Российской Федерации" оспаривается лишь применительно к референдуму, |
|
инициируемому гражданами Российской Федерации, вопрос же о порядке проведения всенародного |
|
голосования по проекту новой Конституции Российской Федерации, принимаемому в соответствии со |
|
статьей 135 (часть 3) Конституции Российской Федерации Конституционным Собранием, |
|
заявителями не затрагивается. Следовательно, в силу части третьей статьи 74 Федерального |
|
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" вопрос о том, |
|
распространяется ли положение пункта 2 статьи 1 Федерального конституционного закона "О |
|
внесении изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон "О референдуме |
|
Российской Федерации" о времени проведения референдума Российской Федерации на случаи |
|
проведения всенародного голосования по проекту новой Конституции, предметом рассмотрения |
|
Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу не является. |
|
В запросе утверждается также, что при принятии Федерального конституционного закона "О |
|
внесении изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон "О референдуме |
|
Российской Федерации" были нарушены положения статей 71 (пункт "в") и 72 (пункт "б" части 1) |
|
Конституции Российской Федерации о предметах ведения Российской Федерации и предметах |
|
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, а также вытекающая из статьи 108 |
|
(часть 2) Конституции Российской Федерации процедура голосования. В запросе группы депутатов |
|
Государственной Думы утверждается, что Федеральный конституционный закон "О внесении |
|
изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской |
|
Федерации" не соответствует статьям 71 (пункт "в") и 72 (пункт "б" части 1) Конституции Российской |
|
Федерации и вытекающим из них требованиям Федерального закона "О принципах и порядке |
|
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти |
|
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации" о |
|
направлении в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов |
|
Российской Федерации проектов федеральных законов по предметам совместного ведения, |
|
принятых Государственной Думой в первом чтении, для представления в тридцатидневный срок |
|
поправок к ним, при том что до истечения этого срока рассмотрение указанных законопроектов во |
|
втором чтении не допускается (статья 13). |
|
Именно эта процедура, по мнению заявителей, подлежала применению Государственной |
|
Думой при принятии оспариваемого Федерального конституционного закона, поскольку внесенные |
|
им в Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации" изменение и |
|
45 |
|
|
|
дополнение касаются защиты права граждан Российской Федерации на участие в референдуме, т.е. |
|
предмета, относящегося к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. |
Позиция КС РФ |
Таким образом, Федеральный конституционный закон "О внесении изменения и дополнения в |
|
Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации" в части, |
|
устанавливающей периоды, в течение которых не допускается инициирование гражданами |
|
Российской Федерации референдума Российской Федерации и его проведение, по содержанию норм |
|
не противоречит Конституции Российской Федерации, в том числе ее статьям 3, 16, 32 и 55. |
|
Таким образом, статьи 71 и 72 Конституции Российской Федерации, вопреки |
|
утверждению заявителей, при принятии Государственной Думой Федерального |
|
конституционного закона "О внесении изменения и дополнения в Федеральный |
|
конституционный закон "О референдуме Российской Федерации" нарушены не были. |
|
Вопрос о значении соблюдения процедуры голосования при принятии федеральных |
|
законов Государственной Думой уже был предметом рассмотрения Конституционного Суда |
|
Российской Федерации. В Постановлении от 20 июля 1999 года по делу о проверке |
|
конституционности Федерального закона "О культурных ценностях, перемещенных в Союз |
|
ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской |
|
Федерации" …… |
|
В связи с этим в пункт 2 статьи 85 Регламента Государственной Думы ее |
|
Постановлениями от 21 сентября 1999 г. N 4324-II ГД и от 23 октября 2002 г. N 3172-III ГД |
|
внесены изменения, закрепляющие возможность передачи депутатом Государственной Думы |
|
своего голоса другому депутату в случае отсутствия на заседании Государственной Думы. На |
|
основе данной нормы, как свидетельствуют материалы настоящего дела, в 1999 - 2003 годах |
|
приняты многие федеральные законы. |
|
Следовательно, проверка конституционности оспариваемого Федерального |
|
конституционного закона по порядку принятия фактически означала бы и проверку указанной |
|
нормы Регламента Государственной Думы и, соответственно, предрешала бы оценку других |
|
законов, принятых в таком же порядке. Между тем конституционность пункта 2 статьи 85 |
|
Регламента Государственной Думы (ни в прежней редакции, действовавшей на момент |
|
принятия Федерального конституционного закона "О внесении изменения и дополнения в |
|
Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации", ни в ныне |
|
действующей редакции) не оспаривалась ранее и не оспаривается заявителями по |
|
настоящему делу. |
|
Таким образом, данный запрос в части, касающейся проверки конституционности |
|
Федерального конституционного закона "О внесении изменения и дополнения в |
|
Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации" по порядку |
|
принятия с точки зрения его соответствия требованиям статьи 108 (часть 2) Конституции |
|
Российской Федерации, по смыслу части первой статьи 43, статьи 68, части третьей статьи 74 |
|
и статьи 85 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской |
|
Федерации", не может быть признан допустимым, а производство по делу - подлежит |
|
прекращению. |
Решение КС РФ |
1. Признать Федеральный конституционный закон от 27 сентября 2002 года "О внесении |
|
изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской |
|
Федерации" в части, устанавливающей период, в течение которого граждане Российской Федерации не |
|
могут выступать с инициативой о проведении референдума Российской Федерации и проведение такого |
|
референдума не допускается, не противоречащим Конституции Российской Федерации, постольку, |
|
поскольку - по конституционно-правовому смыслу положений данного Федерального конституционного |
|
закона - период, в течение которого граждане могут выступать с инициативой о проведении |
|
референдума Российской Федерации и непосредственно участвовать в нем, должен во всяком случае |
|
составлять не менее двух лет, с тем чтобы в пределах четырехлетнего избирательного цикла |
|
обеспечивалась возможность проведения не менее двух референдумов. |
|
Конституционно-правовой смысл положений Федерального конституционного закона "О внесении |
|
изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской |
|
Федерации", выявленный Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем |
|
Постановлении, является общеобязательным и исключает любое иное их истолкование. |
|
2. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся проверки |
|
конституционности Федерального конституционного закона "О внесении изменения и дополнения в |
|
Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации" по порядку его |
|
принятия Государственной Думой, поскольку в данной части запрос не отвечает критерию |
|
допустимости, установленному Федеральным конституционным законом "О Конституционном Суде |
|
Российской Федерации". |

46
Постановление Конституционного Суда РФ от 03.03.2004 N 5-П "По делу о проверке конституционности части третьей статьи 5 Федерального закона "О национальнокультурной автономии" в связи с жалобой граждан А.Х. Дитца и О.А. Шумахер"
Заявитель |
граждане А.Х. Дитц и О.А. Шумахер |
Основание |
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, |
рассмотрения |
соответствует ли Конституции Российской Федерации часть третья статьи 5 Федерального закона "О |
|
национально-культурной автономии". |
Позиция |
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации граждане А.Х. Дитц и О.А. |
заявителя |
Шумахер - члены Барнаульской городской национально-культурной автономии российских немцев |
|
"Видергебурт-Возрождение" оспаривают конституционность положения части третьей статьи 5 |
|
Федерального закона от 17 июня 1996 года "О национально-культурной автономии", согласно |
|
которому местные национально-культурные автономии могут образовывать региональную |
|
национально-культурную автономию. Заявители утверждают, что данное законоположение, как |
|
показывает правоприменительная практика, допускает создание только одной региональной |
|
национально-культурной автономии граждан определенной национальности, подлежащей |
|
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Тем самым, по |
|
мнению заявителей, нарушается принцип равенства общественных объединений перед законом, |
|
ограничивается свобода создания на основе полной добровольности любых общественных |
|
объединений и свобода их деятельности, что противоречит статьям 13 (часть 4) и 30 Конституции |
|
Российской Федерации. |
|
Часть третья статьи 5 Федерального закона "О национально-культурной автономии" |
|
Федеральным законом от 10 ноября 2003 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О |
|
национально-культурной автономии" изложена в иной редакции: "Местные национально-культурные |
|
автономии граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, |
|
могут образовывать региональную национально-культурную автономию граждан Российской |
|
Федерации, относящих себя к определенной этнической общности". |
|
Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу является положение части |
|
третьей статьи 5 Федерального закона "О национально-культурной автономии" (с учетом |
|
редакционных изменений, внесенных Федеральным законом от 10 ноября 2003 года "О внесении |
|
изменений в Федеральный закон "О национально-культурной автономии"), которым в нормативном |
|
единстве с положениями частей третьей и седьмой статьи 6 того же Федерального закона |
|
устанавливается, что местные национально-культурные автономии граждан Российской Федерации, |
|
относящих себя к определенной этнической общности, могут образовывать региональную |
|
национально-культурную автономию граждан Российской Федерации, относящих себя к |
|
определенной этнической общности, подлежащую государственной регистрации в установленном |
|
законодательством Российской Федерации порядке. |
Позиция КС РФ |
Таким образом, из Конституции Российской Федерации, а также общепризнанных принципов и |
|
норм международного права и международных договоров Российской Федерации, которые согласно |
|
статье 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации являются составной частью правовой |
|
системы Российской Федерации, вытекают обязанности государства по регулированию и защите |
|
прав национальных меньшинств, а также предопределяется характер данного регулирования, в том |
|
числе пределы усмотрения законодателя в процессе его осуществления; при этом в условиях |
|
действующего нормативного регулирования реализация права этнической общности, находящейся |
|
на определенной территории в ситуации национального меньшинства, на национально-культурную |
|
автономию связана с реализацией права лиц, относящихся к таким общностям, создавать и |
|
регистрировать в соответствии с законодательством Российской Федерации общественные |
|
объединения, свобода деятельности которых должна быть гарантирована. |
|
Согласно части второй статьи 5 Федерального закона "О национально-культурной |
|
автономии" национально-культурная автономия может быть местной, региональной и |
|
федеральной. Часть третья данной статьи, закрепляющая право местных национально- |
|
культурных автономий граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной |
|
этнической общности, образовывать региональную национально-культурную автономию |
|
граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, не |
|
содержит прямого указания на то, что в пределах субъекта Российской Федерации может |
|
быть образовано не более одной региональной национально-культурной автономии граждан |
|
Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, |
|
государственная регистрация которой уполномоченным на то органом юстиции, |
|
действующим в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке, имеет |
|
конституирующее для установления ее правосубъектности значение. Не содержит она и |
|
прямого запрета на создание и государственную регистрацию в субъекте Российской |
|
Федерации более одной региональной национально-культурной автономии. Таким образом, |
47
|
положение части третьей статьи 5 Федерального закона "О национально-культурной автономии", в |
|
нормативном единстве с частями третьей и седьмой его статьи 6 предполагающее государственную |
|
регистрацию региональной национально-культурной автономии как способ конституирования ее |
|
правосубъектности, в системе действующего нормативного регулирования обусловлено защитой |
|
прав и интересов национальных меньшинств и поддержкой в установленных названным |
|
Федеральным законом формах национально-культурных автономий со стороны государства и |
|
местного самоуправления, т.е. особенностями их публично-правового статуса, и в силу этого не |
|
может признаваться противоречащим Конституции Российской Федерации. |
|
Из этого, в частности, вытекает, что ничто не препятствует участию в зарегистрированной в |
|
установленном законодательством Российской Федерации порядке Алтайской краевой национально- |
|
культурной автономии российских немцев граждан, относящих себя к данной этнической общности, |
|
либо для отказа от такого участия и образования иного объединения граждан, относящих себя к той |
|
же этнической общности, в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, |
|
развития языка, образования, национальной культуры, в том числе путем создания и поддержания |
|
образовательных, культурных и иных учреждений, организаций или ассоциаций, которые могут |
|
искать и получать добровольную финансовую и другую помощь, а также государственную поддержку |
|
в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
|
Таким образом, установленная Федеральным законом "О национально-культурной автономии" |
|
система национально-культурной автономии, предполагающая возможность создания на территории |
|
субъекта Российской Федерации местными национально-культурными автономиями с соблюдением |
|
демократических основ организации таких объединений и без вмешательства государства не более |
|
одной региональной национально-культурной автономии граждан, относящих себя к |
|
соответствующей этнической общности, имеет объективные основания, а обусловленные прежде |
|
всего спецификой расселения граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной |
|
этнической общности, организационные основы национально-культурной автономии в части, |
|
касающейся права местных национально-культурных автономий образовывать региональную |
|
национально-культурную автономию, направлены не на ограничение, а на защиту прав |
|
национальных меньшинств, в том числе путем создания необходимых фактических и юридических |
|
предпосылок их самоорганизации и возложения соответствующих обязанностей на органы |
|
публичной власти. |
|
Что касается проверки законности и обоснованности правоприменительных решений, то |
|
она не входит в компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, который, по |
|
смыслу статей 118, 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации, не вправе подменять |
|
правоприменителя, в том числе суды общей юрисдикции. Реализуя свои полномочия, |
|
правоприменители впредь не могут придавать положению части третьей статьи 5 |
|
Федерального закона "О национально-культурной автономии" в нормативном единстве с |
|
положениями частей третьей и седьмой статьи 6 данного Федерального закона какое-либо |
|
иное значение, расходящееся с его конституционно-правовым смыслом, выявленным |
|
Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении. |
Решение КС Рф |
1. Признать не противоречащей Конституции Российской Федерации часть третью статьи 5 |
|
Федерального закона "О национально-культурной автономии", которая по своему конституционно- |
|
правовому смыслу в нормативном единстве с положениями частей третьей и седьмой статьи 6 |
|
данного Федерального закона означает, что в пределах субъекта Российской Федерации местными |
|
национально-культурными автономиями может быть образовано не более одной подлежащей |
|
государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
|
региональной национально-культурной автономии граждан Российской Федерации, относящих себя |
|
к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на |
|
соответствующей территории, поскольку такая автономия не препятствует деятельности не |
|
вошедших в нее местных национально-культурных автономий или созданию и деятельности иных |
|
содействующих сохранению самобытности, развитию языка, образования, национальной культуры |
|
объединений граждан Российской Федерации, относящих себя к той же этнической общности. |
|
Конституционно-правовой смысл указанного положения, выявленный Конституционным Судом |
|
Российской Федерации в настоящем Постановлении, является общеобязательным и исключает |
|
любое иное его истолкование в правоприменительной практике. |
|
|

48
Постановление
от 15 декабря 2004 г. N 18-П по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального Закона "О Политических Партиях" в связи с запросом Коптевского Районного Суда Города Москвы, жалобами Общероссийской Общественной Политической Организации "Православная Партия России" И Граждан И.В. Артемова И Д.А. Савина
Заявитель |
Коптевский районный суд города Москвы, общероссийская общественная политическая |
|
организация "Православная партия России" и граждане И.В. Артемов и Д.А. Савин |
Основание |
проверка конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона "О политических партиях" |
рассмотрения |
|
Позиция |
В своих обращениях в Конституционный Суд Российской Федерации заявители утверждают, что |
заявителя |
названные законоположения противоречат статьям 19 (часть 2) и 30 (часть 1) Конституции |
|
Российской Федерации, поскольку нарушают свободу объединений и принцип равноправия в ее |
|
реализации, и не согласуются со статьей 13 (часть 5) Конституции Российской Федерации, |
|
закрепляющей основания, по которым в Российской Федерации запрещается создание и |
|
деятельность общественных объединений. После вступления Федерального закона "О политических |
|
партиях" в силу съезд общероссийской общественной политической организации "Православная |
|
партия России" принял решение о преобразовании в политическую партию "Православная партия |
|
России". Гражданка Н.Е. Илюхина - член данной организации, полагая, что решение съезда в части |
|
сохранения наименования "Православная партия России" противоречит предписаниям пункта 3 |
|
статьи 9 названного Федерального закона и тем самым препятствует регистрации этой организации |
|
в качестве политической партии, обратилась в Коптевский районный суд города Москвы с жалобой, в |
|
которой просила отменить указанное решение. Придя к выводу о том, что в вопросе о соответствии |
|
Конституции Российской Федерации положений пункта 3 статьи 9 Федерального закона "О |
|
политических партиях" имеется неопределенность, Коптевский районный суд города Москвы |
|
определением от 11 июля 2002 года производство по делу приостановил и направил в |
|
Конституционный Суд Российской Федерации запрос о проверке их конституционности. |
|
Одновременно в Конституционный Суд Российской Федерации обратилась общероссийская |
|
общественная политическая организация "Православная партия России" с жалобой на нарушение |
|
теми же законоположениями, подлежащими применению в деле по жалобе Н.Е. Илюхиной, |
|
конституционного права граждан на объединение. Конституционность пункта 3 статьи 9 |
|
Федерального закона "О политических партиях" оспаривается также гражданином Д.А. Савиным - |
|
членом политической партии "Российская Христианско-Демократическая партия" и гражданином И.В. |
|
Артемовым - членом политической партии "Русский Общенациональный Союз". Со ссылкой на |
|
оспариваемые законоположения Министерство юстиции Российской Федерации отказало в |
|
государственной регистрации "Российской Христианско-Демократической партии", посчитав, что |
|
первая часть слова "христианско-демократическая" в ее наименовании является базовой и |
|
указывает на создание партии по признаку религиозной принадлежности, а политической партии |
|
"Русский Общенациональный Союз" - на том основании, что использование в ее наименовании |
|
слова "русский" указывает на создание партии по национальному признаку. Заявление И.В. |
|
Артемова об отмене соответствующего решения Министерства юстиции Российской Федерации |
|
Таганским районным судом города Москвы оставлено без удовлетворения. |
Позиция КС РФ |
Право каждого на объединение, как следует из закрепляющей данное право статьи 30 (часть 1) |
|
Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 1 (часть 1), 2, 13 и 14, относится к |
|
базовым ценностям общества и государства, основанным на принципах господства права и |
|
демократии, и включает в себя право свободно создавать объединения для защиты своих интересов |
|
и свободу деятельности общественных объединений. Этому корреспондируют положения |
|
Международного пакта о гражданских и политических правах (пункт 1 статьи 22) и Конвенции о |
|
защите прав человека и основных свобод (пункт 1 статьи 11) о праве каждого на свободу |
|
объединения (ассоциации) с другими. Статья 30 Конституции Российской Федерации |
|
непосредственно не закрепляет право граждан на объединение в политические партии, однако, по |
|
ее смыслу во взаимосвязи со статьями 1, 13, 15 (часть 4), 17 и 32 Конституции Российской |
|
Федерации, в Российской Федерации названное право, включающее право создания политической |
|
партии и право участия в ее деятельности, является неотъемлемой частью права каждого на |
|
объединение, а свобода деятельности политических партий как общественных объединений |
|
гарантируется. Возможность для граждан свободно объединиться в политическую партию, |
|
образовать партию как юридическое лицо, с тем чтобы действовать коллективно в области |
|
реализации и защиты своих политических интересов, - одна из необходимых и наиболее важных |
|
составляющих права на объединение, без чего данное право лишалось бы смысла. Поэтому |

49
Конституция Российской Федерации защищает не только свободу деятельности политических партий, но и свободу их создания. Свобода создания и деятельности политических партий, наличие которых необходимо для надлежащего функционирования представительной демократии, гарантируется в Российской Федерации признанием многопартийности, идеологического и политического многообразия, недопустимостью установления какой-либо, в том числе религиозной либо националистической, идеологии в качестве государственной или обязательной, светским характером государства, равенством политических партий перед законом, а также равенством прав
исвобод человека и гражданина независимо от принадлежности к общественным объединениям, в том числе политическим партиям (статья 13, части 1 - 4; статья 14; статья 19, часть 2, Конституции Российской Федерации). Вместе с тем Конституция Российской Федерации запрещает создание
идеятельность политических партий, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (статья 13, часть 5), и допускает возможность ограничения права на объединение в политические партии федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55, часть 3). Названные конституционные положения согласуются с положениями Международного пакта о гражданских и политических правах (пункт 2 статьи 22) и Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пункт 2 статьи 11), из которых следует, что осуществление указанного права не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Таким образом, законодатель вправе урегулировать - на основе Конституции Российской Федерации и с учетом положений международно-правовых актов, участницей которых является Российская Федерация, - правовой статус политических партий, в том числе условия и порядок их создания, принципы деятельности, права и обязанности, установить необходимые ограничения, касающиеся осуществления права на объединение в политические партии, а также основания и порядок государственной регистрации политической партии в качестве юридического лица. При этом осуществляемое законодателем регулирование - в силу статьи 17 (часть 1) Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что в Российской Федерации гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, - не должно искажать само существо права на объединение в политические партии, а вводимые им ограничения - создавать необоснованные препятствия для реализации конституционного права каждого на объединение и свободы создания и деятельности политических партий как общественных объединений, т.е. такие ограничения должны быть необходимыми и соразмерными конституционно значимым целям Таким образом, в Российской Федерации как демократическом и светском государстве религиозное объединение не может подменять политическую партию, оно надпартийно и неполитично, партия же в силу своей политической природы не может быть религиозной организацией, она надконфессиональна, внеконфессиональна. Во всяком случае партия, исходя из своего политического предназначения, создается не для выражения и защиты тех или иных религиозных интересов, - в этих целях могут создаваться соответствующие общественные объединения в иных установленных законом организационно-правовых формах. Проверка же
законности и обоснованности правоприменительных решений, связанных с отказом в регистрации той или иной политической партии вследствие несоблюдения ею требований пункта 3 статьи 9 Федерального закона "О политических партиях", в том числе исследование вопросов о том, действительно ли данная партия создается по признакам национальной или религиозной принадлежности, являются ли цели, указанные в уставе и программе партии, целями защиты национальных и религиозных интересов и насколько используемые в наименовании партии термины отражают эти цели, в полномочия Конституционного Суда Российской Федерации, как они установлены статьей 125 Конституции Российской Федерации
истатьей 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", не входит.
Решение КС РФ 1. Признать не противоречащим Конституции Российской Федерации пункт 3 статьи 9 Федерального закона "О политических партиях" в части, не допускающей создание политических партий по признакам национальной или религиозной принадлежности.
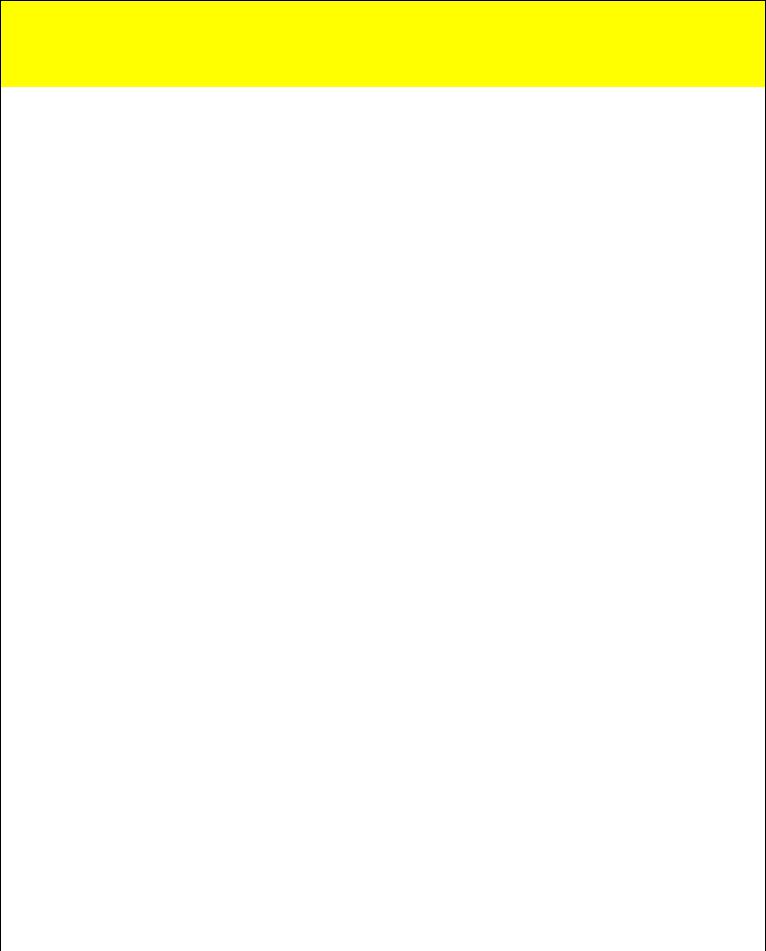
50
Постановление от 1 февраля 2005 г. n 1-п по делу о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона "О Политических партиях" в связи с жалобой общественно-политической организации "Балтийская Республиканская партия"
Заявитель |
общественно-политическая организация "Балтийская республиканская партия" |
Основание |
проверка конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 и пункта 6 статьи 47 |
рассмотрения |
Федерального закона "О политических партиях". Основанием к рассмотрению дела явилась |
|
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской |
|
Федерации оспариваемые в жалобе положения Федерального закона от 11 июля 2001 года "О |
|
политических партиях" (в редакции от 21 марта 2002 года). |
Позиция |
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации общественно-политическая |
заявителя |
организация "Балтийская республиканская партия" утверждает, что требования, которым должна |
|
отвечать политическая партия, содержащиеся в абзацах втором и третьем пункта 2 статьи 3 |
|
Федерального закона "О политических партиях", и предусмотренные пунктом 6 его статьи 47 |
|
последствия для политических общественных объединений, не отвечающих этим требованиям, |
|
ущемляют право каждого на объединение и свободу деятельности общественных объединений, |
|
установленные статьей 30 (часть 1) Конституции Российской Федерации, а также нарушают ее |
|
статью 1 (часть 1), закрепляющую федеративный характер российского государства, статью 13 |
|
(часть 3), признающую политическое многообразие, статью 17 (часть 1), признающую и |
|
гарантирующую в Российской Федерации права и свободы человека и гражданина согласно |
|
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией |
|
Российской Федерации, и статью 55 (часть 3), из которой вытекает требование соразмерности |
|
ограничений прав и свобод граждан конституционно значимым интересам и целям. Как следует из |
|
представленных правоприменительных решений, общественно-политическая организация |
|
"Балтийская республиканская партия", зарегистрированная 24 сентября 1998 года в качестве |
|
общественно-политической организации Калининградской области, решением Калининградского |
|
областного суда от 26 июня 2003 года, оставленным без изменения определением Судебной |
|
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 21 октября 2003 года, |
|
была ликвидирована в связи с невыполнением в установленный срок предписаний об устранении |
|
выявленного регистрирующим органом нарушения федерального законодательства, а именно |
|
использования в своем наименовании слова "партия" общественным объединением, которое не |
|
подпадает под критерии, установленные для политических партий Федеральным законом от 11 июля |
|
2001 года "О политических партиях" (в редакции от 21 марта 2002 года). Поскольку общественно- |
|
политическая организация "Балтийская республиканская партия" не отвечала предъявляемым к |
|
политической партии требованиям, предусмотренным в абзацах втором и третьем пункта 2 статьи 3 |
|
Федерального закона "О политических партиях", она утрачивала статус политического |
|
общественного объединения по истечении двух лет со дня вступления данного Федерального закона |
|
в силу в соответствии с пунктом 6 его статьи 47. Указанные законоположения в их нормативном |
|
единстве и составляют предмет рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по |
|
настоящему делу. При этом в силу Конституции Российской Федерации и Федерального |
|
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд |
|
Российской Федерации решает исключительно вопросы права и не уполномочен на проверку |
|
законности и обоснованности вынесенных в отношении общественно-политической организации |
|
"Балтийская республиканская партия" судебных решений, в том числе тех, на основании которых она |
|
была ликвидирована. |
Позиция КС РФ |
Таким образом, осуществленное в Федеральном законе "О политических партиях" регулирование, по |
|
которому статус политической партии могут получить только общенациональные (общероссийские) |
|
политические общественные объединения, не только направлено на достижение такой |
|
конституционно значимой цели, как формирование в стране реальной многопартийности, на |
|
правовую институционализацию партий в качестве важного фактора становления гражданского |
|
общества и стимулирование образования крупных общенациональных партий, но и необходимо в |
|
целях защиты конституционных ценностей, прежде всего - обеспечения единства страны, в |
|
современных конкретно-исторических условиях становления демократии и правового государства в |
|
Российской Федерации. Указанное ограничение носит временный характер и с отпадением |
|
породивших его обстоятельств должно быть снято. Таким образом, положения абзацев второго и |
|
третьего пункта 2 статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона "О политических |
|
партиях", закрепляющие требования, которым должна отвечать политическая партия, и |
|
предусматривающие утрату межрегиональными, региональными и местными политическими |
|
общественными объединениями статуса политического общественного объединения, - |
|
исходя из места этих законоположений в правовой системе Российской Федерации, в том |
