
POSTANOVLENIYa_KS_
.pdf
21
них заявил соответствующее ходатайство, и не позволяющая тем самым другим обвиняемым реализовать предусмотренное частью второй статьи 30 УПК Российской Федерации право на рассмотрение их дела судом в ином составе, нарушает гарантированные Конституцией Российской Федерации равенство всех перед законом и судом (статья 19, часть 1), право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (статья 45, часть 2), а также осуществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (статья 123, часть 3).
Позиция КС РФ Право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей не относится к числу основных прав, неотчуждаемых и принадлежащих каждому от рождения. По
смыслу статьи 47 (часть 2) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьей 123 (часть 4), данное право - в отличие от права на независимый и беспристрастный суд или презумпции невиновности - не входит в основное содержание (ядро) конституционного права на судебную защиту, которое не подлежит изменению иначе как в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации (статья 64 Конституции Российской Федерации), а выступает в качестве одной из его возможных процессуальных гарантий, предоставляемых на основе дискреционных полномочий федерального законодателя в соответствии со статьями 71 (пункты "в", "г", "о"), 118 (часть 3) и 128 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
Таким образом, суд с участием присяжных заседателей, будучи одной из процессуальных форм осуществления уголовного судопроизводства, не является обязательным условием обеспечения судебной защиты прав и свобод человека и гражданина. Рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных заседателей признано в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года N 3-П особой и необходимой уголовнопроцессуальной гарантией судебной защиты, прямо предусмотренной самой Конституцией Российской Федерации в статье 20 (часть 2) лишь в отношении обвиняемого в преступлении, за совершение которого федеральным законом устанавливается исключительная мера наказания -
смертная казнь. Как следует из статьи 54 (часть 1) Конституции Российской Федерации во
взаимосвязи с ее статьями 18, 19 (части 1 и 2) и 55 (части 2 и 3), федеральный законодатель, осуществляя свои конституционные полномочия по введению в действие новых правовых норм и признанию утратившими юридическую силу прежних правовых норм, не вправе придавать обратную силу новым нормам, ухудшающим правовое положение обвиняемого, и неправомерно ограничивать субъективные процессуальные права, уже реализуемые в конкретных правоотношениях. Определяя действие уголовно-процессуального закона во времени, статья 4 УПК Российской Федерации устанавливает, что при производстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время производства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения, если иное не установлено данным Кодексом.
Федеральный закон от 30 декабря 2008 года N 321-ФЗ, изменивший предметную подсудность уголовных дел о терроризме и связанных с ним преступлениях, передав их на рассмотрение суда, состоящего из профессиональных судей, во взаимосвязи с положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, определяющими порядок заявления в ходе расследования и разрешения на предварительном слушании ходатайства о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей (пункт 1 части пятой статьи 217, статья 229, пункт 2 части второй и пункт 1 части пятой статьи 231, статьи 236 и 325), исключил возможность ходатайствовать о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей для обвиняемых в преступлениях, предусмотренных в том числе статьями 205, 278 и 279 УК Российской Федерации. При этом субъективное право обвиняемого на рассмотрение его дела определенным составом суда, к подсудности которого оно отнесено законом, основанное на предписании статьи 47 (часть 1) Конституции Российской Федерации, возникает с момента принятия судом решения о назначении уголовного дела к слушанию, вынося которое суд руководствуется процессуальным законом, действующим во время принятия данного решения.
Следовательно, ходатайство обвиняемого о рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей, заявленное ранее на предварительном следствии в порядке статьи 217 УПК Российской Федерации в период действия прежнего процессуального закона, не подлежит удовлетворению судом по результатам предварительного слушания, если на момент принятия соответствующего решения суда действует закон, которым рассмотрение данного дела не отнесено к подсудности суда с участием присяжных заседателей. Иное не только нарушало бы правила о действии закона во времени, но и не соответствовало бы принципу законного суда, закрепленному в статье 47 (часть 1) Конституции Российской Федерации.
Поскольку субъективное право на рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей возникает у обвиняемого не с момента заявления им в ходе предварительного
22
|
расследования соответствующего ходатайства, а лишь с момента принятия решения по |
|
данному ходатайству судом, при том что предполагается проверка судом наличия условий |
|
для распространения на этого обвиняемого новых правил подсудности, уголовно- |
|
процессуальное положение обвиняемого в процессе реализации права на рассмотрение его |
|
дела законным судом (статья 47 Конституции Российской Федерации) не может считать |
|
ухудшившимся в смысле статьи 54 (часть 1) Конституции Российской Федерации, если |
|
ходатайство было заявлено им до даты вступления в силу нового уголовно-процессуального |
|
закона, согласно которому его дело подлежит рассмотрению судом в составе |
|
профессиональных судей. |
|
Соответственно, ходатайство, заявленное обвиняемым после ознакомления с |
|
материалами оконченного предварительного следствия, само по себе не предопределяет |
|
передачу уголовного дела на рассмотрение суда с участием присяжных заседателей, а влечет |
|
лишь обязанность суда назначить по данному основанию предварительное слушание, в ходе |
|
которого обвиняемый вправе свое ходатайство подтвердить либо отказаться от него. |
|
Назначая судебное заседание, суд руководствуется тем законом (в том числе о подсудности |
|
дела), который действует на момент предварительного слушания. Постановление судьи о |
|
рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, принятое на |
|
предварительном слушании, является окончательным, и последующий отказ подсудимого от |
|
рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей не принимается |
|
(часть пятая статьи 325 УПК Российской Федерации). |
Решение КС РФ |
1. Признать положения пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 УПК Российской Федерации (в |
|
редакции Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 321-ФЗ "О внесении изменений в |
|
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия |
|
терроризму") в части, исключающей из подсудности суда с участием присяжных заседателей |
|
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 205 "Террористический акт", 278 |
|
"Насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и 279 "Вооруженный мятеж" |
|
УК Российской Федерации, и, соответственно, передающей такие дела на рассмотрение суда в |
|
составе трех судей федерального суда общей юрисдикции, не противоречащими Конституции |
|
Российской Федерации, поскольку предусмотренный данными положениями переход от |
|
рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей к иной судебной процедуре |
|
осуществлен с учетом запрета назначения исключительной меры наказания в виде смертной казни. |
|
2. Признать положение части второй статьи 325 УПК Российской Федерации, |
|
предусматривающее, что уголовное дело, в котором участвует несколько подсудимых, |
|
рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если |
|
хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном составе, |
|
не противоречащим Конституции Российской Федерации постольку, поскольку данное положение по |
|
своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не |
|
исключает, что суд при проведении предварительного слушания - с учетом обстоятельств, лежащих |
|
в основе ходатайства отдельных обвиняемых против рассмотрения их дела с участием присяжных |
|
заседателей, - правомочен разрешить вопрос о выделении дела для обеспечения его рассмотрения |
|
в отношении этих лиц судом в составе профессиональных судей, если это не препятствует |
|
всесторонности и объективности разрешения уголовного дела, рассматриваемого в составе суда с |
|
участием присяжных заседателей. |
Особое мнение |
Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Гаджиева |
|
Участие присяжных заседателей в отправлении правосудия может рассматриваться как |
|
форма участия граждан в управлении делами государства, причем непосредственного |
|
участия (ч. 1 ст. 32 Конституции РФ). Участие граждан в управлении публичными делами |
|
опирается на конституционный принцип демократии (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ). |
|
Участие присяжных заседателей в отправлении правосудия является одной из |
|
разновидностей управления публичными делами, и в силу этого право обвиняемого на суд |
|
присяжных не является простой функцией законодателя, а приобретает вполне |
|
самостоятельное нормативное содержание, ограничение которого регламентируется |
|
Конституцией РФ в статье 55. Значит ли это утверждение, что законодатель не может |
|
изменять в сторону ограничения подсудность дел суду присяжных, и в частности исключать |
|
из их подсудности дела о терроризме? На наш взгляд, это было бы неверным утверждением, |
|
не оценивающим в достаточной мере конституционные полномочия федерального |
|
законодателя. |
|
Всякое ограничение возможности проявлять милость должно быть тщательно |
|
аргументировано и обосновано. Таково веление статьи 55 (часть 3) Конституции России. В данном |
|
же случае законодатель не обосновал, почему, например, в подсудности суда присяжных остались |
|
такие составы, как неуважение к суду (ст. 297, ч. 1, - наказание - штраф в размере от 100 до 200 |
|
МРОТ), а шпионаж исключен. |
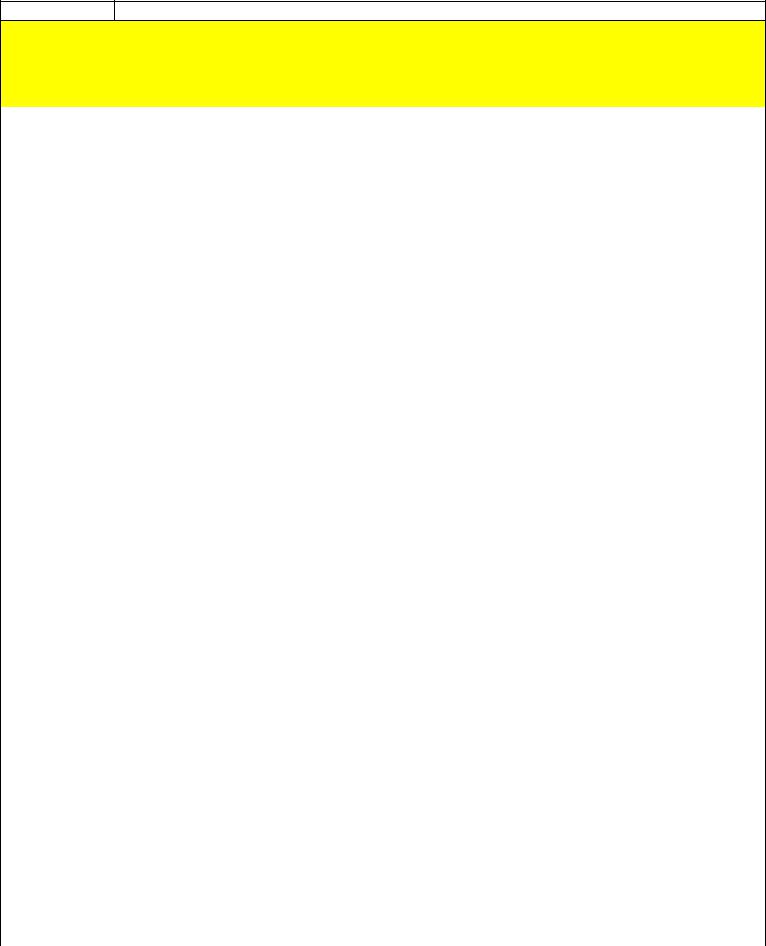
23
Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2011 г N 27-П "По делу о проверке конституционности статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Эстонской Республики А.Т. Федина"
Заявитель |
гражданин Эстонской Республики А.Т. Федин |
Основание |
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, |
рассмотрения |
соответствуют ли Конституции Российской Федерации положения статьи 107 УПК Российской |
|
Федерации. |
Позиция |
Как следует из представленных им материалов, Постановлением судьи Смольнинского районного |
заявителя |
суда города Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 года А.Т. Федину, обвиняемому в совершении |
|
преступлений, предусмотренных частями второй и третьей статьи 210 (участие в преступном |
|
сообществе, совершенное с использованием своего служебного положения) и частью четвертой |
|
статьи 159 (мошенничество, совершенное в составе организованной группы, в особо крупном |
|
размере) УК Российской Федерации, мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с |
|
истечением предельного срока содержания под стражей (18 месяцев) была изменена на меру |
|
пресечения в виде домашнего ареста, а местом домашнего ареста определена однокомнатная |
|
квартира в городе Санкт-Петербурге, принадлежащая его матери. |
|
Надзорные жалобы защитника А.Т. Федина на это Постановление были оставлены без |
|
удовлетворения. Постановлением следователя от 22 декабря 2010 года также отказано в |
|
удовлетворении ходатайства защитника заявителя об отмене меры пресечения в виде домашнего |
|
ареста, а Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга Постановлением от 11 февраля |
|
2011 года отказал в принятии к рассмотрению жалобы на данное решение следователя, поданной в |
|
порядке статьи 125 УПК Российской Федерации. |
|
В жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации А.Т. Федин утверждает, что на момент |
|
обращения в Конституционный Суд Российской Федерации общее время ограничения его свободы - |
|
пребывания под стражей и под домашним арестом - составило более 24 месяцев, в течение которых |
|
он лишен возможности трудоустройства и получения какого-либо легального дохода. По его мнению, |
|
оспариваемые им статьи 107 и 109 УПК Российской Федерации, как допускающие существенное |
|
превышение установленного законом предельного срока содержания под стражей, несоразмерно |
|
ограничивают его право на свободу и личную неприкосновенность и тем самым противоречат |
|
статьям 22 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации. А.Т. Федин, как следует из |
|
его жалобы, связывает нарушение своих прав с продолжительностью домашнего ареста. |
|
Между тем статья 109 УПК Российской Федерации регулирует сроки содержания под стражей и |
|
порядок их продления. При этом, по смыслу пункта 2 части десятой и части двенадцатой данной |
|
статьи, в срок содержания под стражей - как при первоначальном, так и при повторном избрании |
|
заключения под стражу в качестве меры пресечения - засчитывается время домашнего ареста. Тем |
|
самым положения данной статьи, будучи гарантией обеспечения конституционного права граждан на |
|
свободу и личную неприкосновенность при применении меры пресечения в виде заключения под |
|
стражу, не могут рассматриваться как нарушающие в конкретном деле заявителя его |
|
конституционные права в указанном им аспекте. |
|
Соответственно, производство по данной жалобе в части, касающейся проверки конституционности |
|
статьи 109 УПК Российской Федерации, подлежит прекращению в силу пункта 2 части первой статьи |
|
43 и статьи 68 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской |
|
Федерации". |
|
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по |
|
настоящему делу являются положения статьи 107 УПК Российской Федерации, |
|
регламентирующие применение в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения |
|
в виде домашнего ареста. |
Позиция КС РФ |
Выявляя конституционно-правовой смысл понятия "лишение свободы", Конституционный Суд |
|
Российской Федерации в Постановлении от 16 июня 2009 года N 9-П установил, что это понятие |
|
имеет автономное значение, заключающееся в том, что любые вводимые в отраслевом |
|
законодательстве меры, если они фактически влекут лишение свободы, должны отвечать критериям |
|
правомерности именно в контексте статьи 22 Конституции Российской Федерации и статьи 5 |
|
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, составляющих нормативную основу |
|
регулирования ареста, задержания, заключения под стражу и содержания под стражей в сфере |
|
преследования за совершение уголовных и административных правонарушений в качестве мер |
|
допустимого лишения свободы; арест, задержание, заключение под стражу и содержание под |
|
стражей, несмотря на их процессуальные различия, по сути есть лишение свободы. Никто не может |

24
быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный или слишком продолжительный срок, а законодатель обязан установить четкие и разумные временные рамки допускаемых ограничений прав и свобод (Постановления от 24 июня 2009 года N 11-П и от 20 июля 2011 года N 20-П, Определение от 14 июля 1998 года N 86-О).
Следовательно, всякое ограничение или лишение права на свободу и личную неприкосновенность в связи с необходимостью изоляции лица от общества, применяемой в виде меры пресечения в процессе судопроизводства либо в виде уголовного или административного наказания, должно обеспечиваться судебным контролем и другими правовыми гарантиями его справедливости и соразмерности, исходя из его законодательно установленных пределов.
Приведенные требования Конституции Российской Федерации и международно-правовых актов и основанные на них правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, распространяющиеся на правовое регулирование применения такой непосредственно сопряженной с ограничением права на свободу и личную неприкосновенность меры пресечения, как домашний арест, при котором лицо находится в изоляции и не может свободно реализовать свои права, предполагают обязанность законодателя определить в законе время пребывания лица под домашним арестом в соответствии с принципами справедливости и равенства, с тем чтобы исключить возможность произвольного и несоразмерного ограничения права на свободу и личную неприкосновенность.
Срок домашнего ареста, порядок его установления, продления, а также его предельная продолжительность в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, в том числе в его статье 107, не указаны, как не предусмотрено в нем и распространение на домашний арест ограничений, закрепленных законом для содержания под стражей. Домашний арест, который в силу закона применяется лишь при наличии оснований и в порядке, установленных для заключения под стражу, никак не регламентируется статьей 109 УПК Российской Федерации об исчислении и продлении сроков содержания под стражей. В части десятой данной статьи лишь указано, что в срок содержания под стражей засчитывается и время домашнего ареста (а часть третья статьи 72 УК Российской Федерации предусматривает, что время содержания под стражей включается, в свою очередь, в срок уголовного наказания - лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или ареста - из расчета один день за один день).
По смыслу, придаваемому положениям статьи 107 УПК Российской Федерации сложившейся правоприменительной практикой, срок применения домашнего ареста не ограничивается: согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 года N 22 "О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста" избранная на стадии предварительного расследования мера пресечения в виде домашнего ареста продолжает действовать на всем протяжении предварительного расследования и нахождения уголовного дела у прокурора с обвинительным заключением, а также в суде при рассмотрении дела (абзац четвертый пункта
26).
Некоторые суды общей юрисдикции применяют положения статьи 107 УПК Российской Федерации, устанавливая и продляя срок домашнего ареста по правилам статьи 109 данного Кодекса. Между тем такая практика, хотя и направленная на защиту конституционного права граждан на свободу и личную неприкосновенность и согласующаяся с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, которая изложена в Определении от 27 января 2011 года N 9-О-О, принятом по жалобе гражданина А.И. Аноприева на нарушение его конституционных прав статьей 107 УПК Российской Федерации, сама по себе не свидетельствует о том, что оспариваемые законоположения отвечают требованиям определенности, точности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их согласованности в системе действующего правового регулирования.
При отсутствии оснований для изменения избранной лицу меры пресечения домашний арест может применяться с превышением установленных для содержания под стражей (части вторая и третья статьи 109 УПК Российской Федерации) предельных сроков - вплоть до вынесения судом приговора, причем в отношении лиц, скрывшихся от органов расследования или иным способом нарушивших условия домашнего ареста, изменение меры пресечения в таких случаях с домашнего ареста на более строгую (заключение под стражу) невозможно, поскольку в соответствии с пунктом 2 части десятой этой статьи время домашнего ареста включается в совокупный срок содержания под стражей как его составная часть, а при достижении предельных сроков содержания под стражей дальнейшее продление таких сроков не допускается. Тем самым лица, соблюдающие условия домашнего ареста, в нарушение конституционного принципа справедливости ставятся в худшее положение по сравнению с лицами, скрывшимися от органов расследования или иным образом не выполняющими данные условия.
25
|
Более того, не исключается пребывание лица под домашним арестом с превышением не |
|
только предельных сроков содержания под стражей, установленных статьей 109 УПК |
|
Российской Федерации, но и сроков наказания, назначаемого судом за соответствующее |
|
преступление по нормам Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской |
|
Федерации, что противоречит закрепленному в статье 49 Конституции Российской Федерации |
|
принципу презумпции невиновности, по смыслу которого до вступления в законную силу |
|
обвинительного приговора на подозреваемого, обвиняемого не могут быть наложены |
|
ограничения, в своей совокупности сопоставимые по степени тяжести, в том числе срокам, с |
|
уголовным наказанием, а тем более превышающие его. |
|
Следовательно, положения статьи 107 УПК Российской Федерации - как сами по себе, |
|
так и во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса, - порождают |
|
неопределенность в вопросе и о продолжительности домашнего ареста, и о порядке его |
|
продления, и о сроке, по истечении которого дальнейшее продление невозможно, и тем |
|
самым позволяют устанавливать временные пределы ограничения конституционного права |
|
на свободу и личную неприкосновенность в произвольном порядке и исключительно по |
|
правоприменительному решению. |
|
Конституционный Суд Российской Федерации, обращаясь к вопросу о судебной защите прав и |
|
свобод человека и гражданина при применении мер пресечения, указывал, что в ситуациях, |
|
связанных с ограничением права на свободу и личную неприкосновенность, гарантии права на |
|
судебную защиту приобретают особое значение; гарантии данного права не могут быть |
|
компенсированы лишь закреплением в законе предельных сроков ограничения или лишения |
|
свободы и личной неприкосновенности, равно как и возможности обжалования гражданином в |
|
судебном порядке продолжающегося ареста (поскольку при этом в нарушение статей 22 и 46 |
|
Конституции Российской Федерации допускается ограничение указанного конституционного права |
|
вне судебного контроля в течение значительного времени, в том числе до момента рассмотрения |
|
судом соответствующей жалобы) (Постановления от 14 марта 2002 года N 6-П и от 22 марта 2005 |
|
года N 4-П). |
|
Ограничение права на свободу и личную неприкосновенность может иметь место только при |
|
наличии как факторов, отвечающих указанным в статье 55 (часть 3) Конституции Российской |
|
Федерации целям, так и разумных сроков, контролируемых судом, с тем чтобы данный вопрос не мог |
|
решаться произвольно или исходя из каких-либо формальных условий, а суд основывался на |
|
самостоятельной оценке существенных для таких решений обстоятельств (Определение |
|
Конституционного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2006 года N 101-О). |
|
Таким образом, статья 107 УПК Российской Федерации, как не конкретизирующая срок, на |
|
который избирается мера пресечения в виде домашнего ареста, не определяющая основания |
|
и порядок его продления и не ограничивающая предельную продолжительность пребывания |
|
лица под домашним арестом, - в силу неопределенности как самой по себе данной статьи, так |
|
и ее положений во взаимосвязи с другими положениями Уголовно-процессуального кодекса |
|
Российской Федерации, - порождает противоречивую правоприменительную практику, |
|
позволяет налагать ограничения, сопоставимые по степени тяжести с уголовными |
|
наказаниями и даже превышающие их, снижает гарантии судебной защиты и тем самым не |
|
соответствует статьям 19 (части 1 и 2), 22 (часть 1), 46 (части 1 и 2), 49 и 55 (часть 3) |
|
Конституции Российской Федерации. |
Решение КС РФ |
1. Признать не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 |
|
и 2), 22 (часть 1), 46 (части 1 и 2), 49 и 55 (часть 3), положения статьи 107 УПК Российской |
|
Федерации в той мере, в какой они не конкретизируют срок, на который избирается мера пресечения |
|
в виде домашнего ареста, не определяют основания и порядок его продления и не ограничивают |
|
предельную продолжительность пребывания лица под домашним арестом, в том числе с учетом |
|
срока содержания под стражей в качестве меры пресечения. |
|
2. Правоприменительные решения в отношении гражданина Эстонской Республики Федина |
|
Александра Тимофеевича, основанные на положениях статьи 107 УПК Российской Федерации, |
|
признанных настоящим Постановлением не соответствующими Конституции Российской Федерации, |
|
подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий. |
|
3. При внесении в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации необходимых |
|
изменений федеральному законодателю следует руководствоваться требованиями Конституции |
|
Российской Федерации и основанными на них правовыми позициями Конституционного Суда |
|
Российской Федерации, изложенными в настоящем Постановлении, относительно установления и |
|
продления срока домашнего ареста, его предельной продолжительности, в том числе с учетом срока |
|
содержания под стражей, и обеспечения при применении домашнего ареста эффективного |
|
судебного контроля ограничения права на свободу и личную неприкосновенность. |
|
|

26
Постановление Конституционного Суда РФ от 20.12.2011 N 29-П "По делу о проверке конституционности положения подпункта 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества "Авиационная компания "Полет" и открытых акционерных обществ "Авиакомпания "Сибирь" и "Авиакомпания "ЮТэйр"
Заявитель |
ЗАО "Авиационная компания "Полет", ОАО "Авиакомпания "Сибирь" и ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" |
Основание |
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, |
рассмотрения |
соответствует ли Конституции Российской Федерации положения подпункта 3 пункта 2 статьи 106 |
|
Воздушного кодекса Российской Федерации. |
Позиция |
Заявители по настоящему делу - ЗАО "Авиационная компания "Полет", ОАО "Авиакомпания |
заявителя |
"Сибирь" и ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", которым решениями арбитражных судов первой |
|
инстанции, оставленными без изменения постановлениями арбитражных судов апелляционной |
|
инстанции, было отказано в удовлетворении исковых требований к Российской Федерации в лице |
|
Министерства финансов Российской Федерации о взыскании убытков в размере расходов, |
|
понесенных ими в связи с оказанием услуг по льготной перевозке детей в возрасте от двух до |
|
двенадцати лет, просят признать подпункт 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного кодекса Российской |
|
Федерации не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 15 (часть 4), 19 |
|
(части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1 и 3) и 55 (часть 3). |
|
По мнению заявителей, устанавливая соответствующее обременение без какой-либо |
|
компенсации затрат на перевозку детей в соответствии с льготным тарифом и без учета |
|
такого важного обстоятельства, как социальная нуждаемость пассажиров, с которыми |
|
следуют дети, оспариваемое нормативное положение, по существу, возлагает на |
|
авиакомпании социальные обязательства государства без соблюдения баланса |
|
конституционно значимых интересов, приводит к принудительному отчуждению имущества |
|
для государственных нужд без какого-либо возмещения, нарушая тем самым |
|
конституционные принципы равенства, охраны права частной собственности и свободы |
|
предпринимательской деятельности; кроме того, лишение авиакомпании законного права |
|
получать плату за оказанные пассажирам услуги в полном объеме (так называемое законное |
|
ожидание) нарушает право на уважение собственности, гарантированное статьей 1 Протокола |
|
N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Таким образом, предметом |
|
рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу является |
|
положение подпункта 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного кодекса Российской Федерации, |
|
предусматривающее, что дети в возрасте от двух до двенадцати лет перевозятся в |
|
соответствии с льготным тарифом с предоставлением им отдельных мест. |
Позиция КС РФ |
В силу названных положений Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьей 71 |
|
(пункт "в"), относящей регулирование и защиту прав и свобод человека и гражданина к ведению |
|
Российской Федерации, федеральный законодатель вправе определять в рамках предоставленных |
|
ему дискреционных полномочий порядок и условия осуществления предпринимательской |
|
деятельности, устанавливать с учетом специфики тех или иных видов предпринимательской |
|
деятельности дополнительные требования к занимающимся ею лицам - при соблюдении |
|
соответствия вводимых ограничений критериям, закрепленным в Конституции Российской |
|
Федерации, ее статье 55 (часть 3), согласно которой права и свободы человека и гражданина могут |
|
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты |
|
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, |
|
обеспечения обороны страны и безопасности государства. В случае необходимости защиты общих |
|
(общественных) интересов в той или иной сфере федеральный законодатель вправе использовать в |
|
регулировании соответствующих отношений сочетание частноправовых и публично-правовых |
|
элементов, которое наиболее эффективным образом будет обеспечивать взаимодействие частных и |
|
публичных интересов в данной сфере. Располагая при этом широкой свободой усмотрения в выборе |
|
правовых средств, он вместе с тем связан конституционно-правовыми пределами использования |
|
публично-правовых начал, определяемыми статьями 7, 8, 17 (часть 3) и 55 (части 2 и 3) Конституции |
|
Российской Федерации. |
|
Как разновидность публичных договоров, введенных в правовое регулирование в качестве одного из |
|
способов ограничения в конституционно значимых целях свободы договора, договор воздушной |
|
перевозки пассажиров (учитывая массовый характер перевозок воздушным транспортом) |
|
предполагает стандартность его условий для всех потребителей данной транспортной услуги, т.е. |
|
влечет для перевозчика определенные изъятия из общих принципов заключения договоров. В |
|
частности, как следует из пунктов 2 и 3 статьи 426 ГК Российской Федерации применительно к |
|
договору воздушной перевозки, цена услуг, а также иные условия такого публичного договора |
|
устанавливаются одинаковыми (в пределах выбранного тарифа) для всех потребителей этих услуг, |
27
|
за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление |
|
льгот для отдельных категорий потребителей; отказ от его заключения при наличии возможности |
|
предоставить потребителю соответствующие услуги не допускается; при необоснованном уклонении |
|
организации-перевозчика от заключения публичного договора другая сторона вправе обратиться в |
|
суд с требованием о понуждении заключить договор. |
|
Таким образом, деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров воздушным |
|
транспортом является социально необходимой и публично значимой, т.е. воплощает в себе |
|
публичный интерес, что обусловливает правомочие федерального законодателя при |
|
регулировании общественных отношений в этой сфере закрепить в законе условия |
|
осуществления данного вида предпринимательской деятельности с учетом социально- |
|
экономического значения воздушного транспорта и необходимости обеспечения доступности |
|
предоставляемых услуг для граждан с точки зрения возможности реализации ими своих |
|
конституционных прав и свобод. При этом, как неоднократно указывал Конституционный Суд |
|
Российской Федерации, федеральный законодатель должен соблюдать вытекающее из |
|
конституционных принципов правового государства, равенства и справедливости |
|
требование определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы и ее |
|
согласованности с системой действующего правового регулирования. |
|
Применительно к регулированию отношений в области воздушных перевозок это означает, |
|
что федеральный законодатель, учитывая потребность граждан в предоставлении |
|
определенного объема публично значимых услуг должного качества и вместе с тем - |
|
необходимость создания благоприятных условий для осуществления ими обязанности по |
|
воспитанию и содержанию детей, вправе предусматривать адекватные правовые средства, |
|
которые обеспечивали бы пассажирам с детьми возможности для ее выполнения. |
|
Поскольку перевозка воздушным транспортом представляет собой социально значимую функцию, |
|
федеральный законодатель вправе - в силу статей 7, 8 (часть 1), 17 (часть 3), 34, 35 и 38 (часть 1) |
|
Конституции Российской Федерации - предусмотреть дополнительные требования к субъектам |
|
данного вида предпринимательской деятельности, в том числе дифференцировать условия |
|
предоставления перевозчиком соответствующих услуг в отношении определенных категорий |
|
потребителей этих услуг. Однако такое регулирование - поскольку оно связано со вторжением в |
|
право собственности и свободу предпринимательской деятельности - должно обеспечивать баланс |
|
публичных и частных интересов как конституционно защищаемых ценностей, имея в виду |
|
соблюдение экономических прав и интересов перевозчиков и обеспечение доступности |
|
предоставляемых ими услуг для пассажиров, на основе конституционных принципов, в силу которых |
|
Российская Федерация является правовым государством с социально ориентированной рыночной |
|
экономикой (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2004 года |
|
N 3-П). |
|
Расходы, которые в связи с этим несут авиакомпании, бюджетное законодательство |
|
Российской Федерации не относит прямо к расходным обязательствам Российской |
|
Федерации или расходным обязательствам субъектов Российской Федерации. Кроме того, |
|
определенные подпунктом 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного кодекса Российской Федерации |
|
условия перевозки детей от двух до двенадцати лет ни сама норма, ни соответствующее |
|
подзаконное регулирование не называют льготой, что, как подтверждается |
|
правоприменительной практикой, препятствует применению в отношении авиаперевозчиков |
|
пункта 5 статьи 790 ГК Российской Федерации, предусматривающего возмещение |
|
транспортной организацией за счет средств соответствующего бюджета расходов, |
|
понесенных ею в связи с установленными законом или иными правовыми актами льготами |
|
или преимуществами по провозной плате за перевозку грузов, пассажиров и багажа. |
|
Установление платы за воздушные перевозки пассажиров статья 64 Воздушного кодекса |
|
Российской Федерации возлагает на перевозчика (пункт 5), который при этом должен |
|
руководствоваться принятыми во исполнение предписания пункта 1 той же статьи |
|
Правилами формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки |
|
пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации (утверждены |
|
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 сентября 2008 года N 155), |
|
обязывающими его рассчитывать стоимость перевозки на основе применяемых тарифов, их |
|
комбинаций, сборов, предусмотренных данными Правилами, а при международных |
|
перевозках - с учетом правил применения международных тарифов (пункт 42). |
Решение КС Рф |
1. Признать положение подпункта 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного кодекса Российской |
|
Федерации - постольку, поскольку федеральный законодатель правомочен установить правило, в |
|
силу которого пассажир воздушного судна имеет право перевозить с собой детей в возрасте от двух |
|
до двенадцати лет в соответствии с льготным тарифом с предоставлением им отдельных мест, - не |
|
противоречащим Конституции Российской Федерации. |
|
2. В настоящем деле Конституционный Суд Российской Федерации воздерживается от |

28
признания положения подпункта 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного кодекса Российской Федерации не соответствующим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования, включая положения иных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы тарифной политики в области перевозок пассажиров воздушным транспортом, им не предусматривается механизм возмещения авиакомпании-перевозчику расходов на перевозку детей в возрасте от двух до двенадцати лет в соответствии с льготным тарифом с предоставлением им отдельных мест.
3. Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом настоящего Постановления - внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения, направленные на соблюдение конституционного баланса публичных и частных интересов в сфере перевозок воздушным транспортом детей в возрасте от двух до двенадцати лет в соответствии с льготным тарифом с предоставлением им отдельных мест.
Особое мнение Мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Гаджиева
Оспариваемая норма Воздушного кодекса Российской Федерации устанавливает императивное требование к воздушному перевозчику в отношении услуг, которые он должен предоставить любому пассажиру в виде льготного тарифа при перевозке с собой детей в возрасте от двух до двенадцати лет. Данная гражданско-правовая норма регулирует оказание соответствующих услуг потребителям и не имеет никакого отношения к социальному законодательству. Вряд ли юридические нормы, касающиеся защиты слабой стороны в экономических отношениях, выводимы из обязанностей, присущих социальному государству.
Особенность рассматриваемого дела состоит в том, что принимаемое юридическое решение имеет очевидный экономический смысл. Возможные варианты истолкования оспоренной нормы нуждаются в проверке методами экономического анализа права. Так, если исходить из первого варианта истолкования, когда государство жестко регламентирует объем льготирования, то возникают неблагоприятные экономические последствия. Основным базовым тарифом на перевозки пассажиров является тариф экономического класса, в который авиаперевозчик включает все расходы, связанные с перевозками и технологическим процессом обслуживания пассажиров. Для расчета тарифов расходы перевозчика делятся на предполагаемое количество пассажиров на данном рейсе, груза, багажа, т.е. на предполагаемую коммерческую загрузку. Учитывая риски, связанные с отсутствием стопроцентной коммерческой загрузки рейса, для расчета тарифа, как правило, принимается семьдесят пять процентов загрузки рейса. Если компания-авиаперевозчик при определении базового тарифа на перевозки будет исходить из предположения (экономической презумпции), что каждый взрослый пассажир потенциально может везти ребенка в возрасте от двух до двенадцати лет, то тогда все расходы, связанные с льготным пятидесятипроцентным провозом детей, будут включены в себестоимость провоза всех взрослых пассажиров, что приведет к росту цен на авиаперевозки. Однако выяснение таких обстоятельств вправе осуществлять законодатель, а не Конституционный Суд Российской Федерации, который должен воздерживаться от установления фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию иных органов (статья 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации").
В силу изложенного Конституционный Суд Российской Федерации вправе воздержаться от выбора одного из возможных вариантов истолкования оспоренной нормы, поскольку возможные варианты ее интерпретации имеют экономические последствия, подлежащие оценке законодателем.

29
Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2012 N 17-П "По делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора Российской Федерации - Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации"
Заявитель |
Группа депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации |
Основание |
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, |
рассмотрения |
соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемый в запросе не вступивший в силу |
|
международный договор Российской Федерации. |
Позиция |
Заявители по настоящему делу - группа депутатов Государственной Думы, обратившихся в |
заявителя |
Конституционный Суд Российской Федерации 20 июня 2012 года на основании статьи 125 (пункт "г" |
|
части 2) Конституции Российской Федерации (28 июня 2012 года запрос был дополнен), просят |
|
признать Протокол как не вступивший в силу международный договор Российской Федерации и |
|
приложения к нему в неразрывной связи с Марракешским соглашением и всеми прилагаемыми к |
|
нему многосторонними торговыми соглашениями не соответствующими Конституции Российской |
|
Федерации, а потому не подлежащими введению в действие и применению в Российской |
|
Федерации. |
|
Нарушение статей 48 (часть 1), 55 (часть 3), 62 (часть 3), 68, 72, 101 (часть 4) и 118 (часть 1) |
|
Конституции Российской Федерации заявители усматривают в несоблюдении процедуры |
|
ратификации (непредставление в Государственную Думу текста Марракешского соглашения со |
|
всеми приложениями к нему на русском языке, а также текстов протоколов о присоединении к нему |
|
других государств, являющихся членами ВТО, представление незаверенной копии официального |
|
текста Протокола, нарушение сроков представления документов, необходимых для его |
|
ратификации, невыполнение иных регламентных требований), а также требований, вытекающих из |
|
закрепленного Конституцией Российской Федерации разграничения предметов ведения между |
|
органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |
|
(отсутствие согласования Протокола с субъектами Российской Федерации по вопросам, |
|
относящимся к сфере совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской |
|
Федерации, как на стадии подготовки, так и на этапе внесения в Государственную Думу |
|
законопроекта о его ратификации). В контексте вопроса о ратификации Протокола заявители |
|
указывают также на неопределенность статуса ВТО (является ли она межправительственной или |
|
межгосударственной организацией). |
|
Заявители считают также, что положения являющейся неотъемлемой частью Марракешского |
|
соглашения Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, которыми |
|
предусматривается учреждение и деятельность в рамках ВТО Органа по разрешению споров, |
|
передаваемых на рассмотрение на основе соответствующих положений соглашений, перечисленных |
|
в Дополнении 1 к Договоренности, позволяют сделать действия Российской Федерации предметом |
|
обязывающего вмешательства международной организации, чем нарушают суверенитет Российской |
|
Федерации и конституционный принцип разделения властей, создают угрозу национальной |
|
безопасности Российской Федерации и, следовательно, противоречат статьям 4 (часть 1), 10, 55 |
|
(часть 3) и 79 Конституции Российской Федерации. |
|
Кроме того, заявители ставят вопрос о социально-экономических последствиях присоединения |
|
России к ВТО, в том числе в части его влияния на внутренние, внешние и транзитные тарифы для |
|
грузовых железнодорожных перевозок, тарифы на газ, условия экспорта продукции цветной |
|
металлургии, условия доступа к природным ресурсам и т.д. |
Позиция КС РФ |
При этом в силу части третьей статьи 3 названного Федерального конституционного закона |
|
Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы права и, |
|
следовательно, не оценивает политическую и экономическую целесообразность заключения |
|
международного договора Российской Федерации, подлежащего ратификации |
|
Государственной Думой или утверждению иным федеральным органом государственной |
|
власти, в том числе с точки зрения влияющих на реализацию социальных прав человека и |
|
гражданина последствий его действия для тех или иных отраслей экономики или для |
|
доходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. |
|
Марракешское соглашение, определяющее статус и основы деятельности ВТО, |
|
предусматривает, что первоначальными членами ВТО являются Договаривающиеся Стороны |
|
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного 30 октября 1947 года, на |
|
момент вступления в силу Марракешского соглашения, а также Европейские сообщества, которые |
|
удовлетворяют требованиям, выдвигаемым в отношении первоначальных членов ВТО в |
|
соответствии со статьей 11 Марракешского соглашения; иные же государства или отдельные |
|
таможенные территории, обладающие полной автономией в осуществлении своих внешнеторговых |
|
отношений и в отношении других вопросов, предусмотренных в Марракешском соглашении и |
30
|
многосторонних торговых соглашениях, могут лишь присоединяться к нему, причем на условиях, |
|
подлежащих дополнительному согласованию между соответствующим государством и ВТО; при |
|
этом присоединение к Марракешскому соглашению означает одновременное присоединение и ко |
|
всем прилагаемым к нему многосторонним торговым соглашениям; решение о присоединении |
|
принимается Конференцией министров, являющейся органом ВТО (статьи 11, 12 и 14). |
|
Следовательно, согласие Российской Федерации, не являющейся первоначальным членом |
|
ВТО, на обязательность для нее Марракешского соглашения и тем самым на имплементацию |
|
данного Соглашения и права ВТО в целом в правовую систему России может быть выражено |
|
исключительно путем присоединения к Марракешскому соглашению на условиях, согласованных с |
|
ВТО и подлежащих юридическому закреплению в отдельном международном договоре, каковым и |
|
является оспариваемый в Конституционном Суде Российской Федерации Протокол. Соответственно, |
|
само Марракешское соглашение и являющиеся приложением к нему многосторонние торговые |
|
соглашения - в силу закрепленного в нем условия вступления государства в члены ВТО - не |
|
относятся к международным многосторонним соглашениям (договорам) Российской Федерации, |
|
которые непосредственно подлежат подписанию, одобрению Правительством Российской |
|
Федерации и ратификации Государственной Думой или утверждению иным федеральным органом |
|
государственной власти. Таким образом, по смыслу статьи 125 (пункт "г" части 2) Конституции |
|
Российской Федерации, подпункта "г" пункта 1 части первой статьи 3, статей 86, 89 и 90 |
|
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", |
|
Марракешское соглашение и прилагаемые к нему многосторонние торговые соглашения (право ВТО) |
|
сами по себе не могут быть предметом проверки в конституционном судопроизводстве с точки |
|
зрения их соответствия Конституции Российской Федерации, в том числе по форме и содержанию. |
|
Заявители просят дать оценку Протоколу как не вступившему в силу международному |
|
договору Российской Федерации не только по порядку его подписания и одобрения |
|
Правительством Российской Федерации и по содержанию норм, но и по порядку его принятия |
|
в процедуре ратификации в связи с внесением соответствующего законопроекта в |
|
Государственную Думу, т.е., по существу, настаивают на проверке конституционности |
|
непринятого федерального закона о ратификации международного договора по порядку |
|
принятия, чего Конституционный Суд Российской Федерации в силу статьи 125 (пункты "а", |
|
"г" части 2) Конституции Российской Федерации и конкретизирующих ее положений |
|
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" |
|
делать не вправе. …. Таким образом, не вступивший в силу международный договор Российской |
|
Федерации - Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об |
|
учреждении Всемирной торговой организации подписан и одобрен в порядке, не противоречащем |
|
конституционным основам деятельности органов государственной власти Российской Федерации в |
|
международной сфере. |
|
Таким образом, Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому |
|
соглашению не противоречит Конституции Российской Федерации и в той части, в какой его |
|
положения предполагают доступ иностранных граждан к деятельности в качестве патентных |
|
поверенных на территории Российской Федерации. |
Решение КС РФ |
1. Признать не вступивший в силу международный договор Российской Федерации - Протокол |
|
о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной |
|
торговой организации соответствующим Конституции Российской Федерации по порядку принятия - |
|
на стадии его подписания и одобрения Правительством Российской Федерации. |
|
2. Признать не вступивший в силу международный договор Российской Федерации - Протокол |
|
о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной |
|
торговой организации соответствующим Конституции Российской Федерации по содержанию норм в |
|
той части, в какой его положения влекут за собой распространение на Российскую Федерацию |
|
прилагаемой к Марракешскому соглашению и являющейся его неотъемлемой частью |
|
Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, которая |
|
предусматривает учреждение и деятельность в рамках Всемирной торговой организации Органа по |
|
разрешению споров, а также в той части, в какой ими устанавливаются специфические |
|
обязательства Российской Федерации в отношении допуска лиц к оказанию юридических услуг на |
|
территории Российской Федерации. |
|
|
