
POSTANOVLENIYa_KS_
.pdf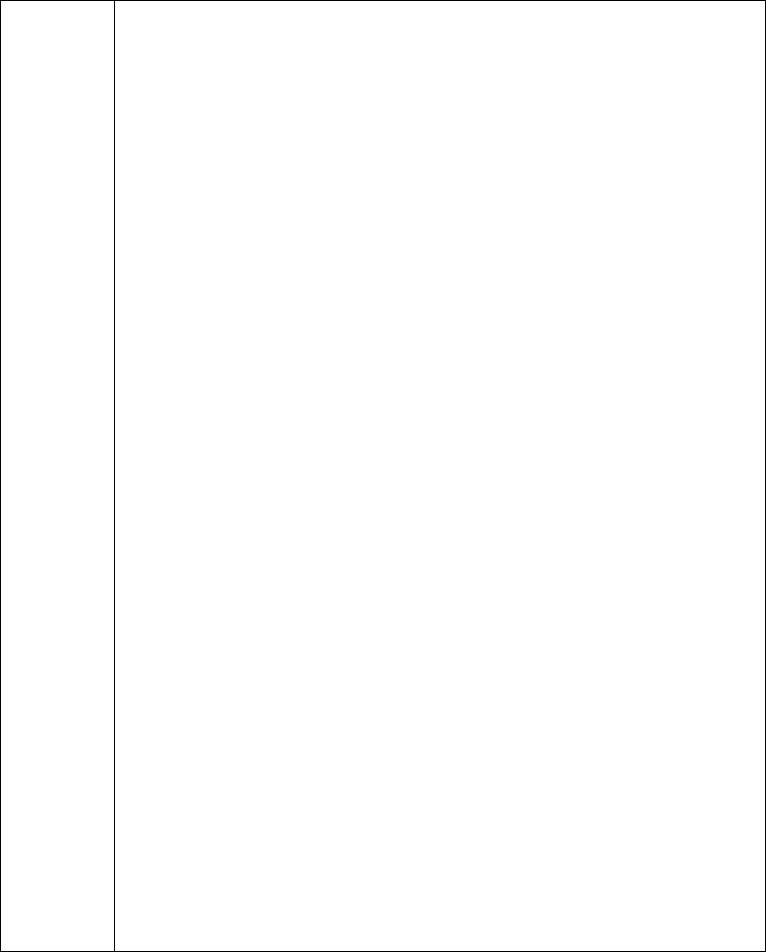
11
Как следует из статьи 125 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 118, 120, 126 и 128 и из конкретизирующих их подпункта "а" пункта 1 части первой статьи 3, статьи 86 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", статей 18, 19 и 23 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации",
полномочие по разрешению дел о соответствии Конституции Российской Федерации федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, нормативных актов Правительства Российской Федерации, конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, принадлежит только Конституционному Суду Российской Федерации, который как федеральный судебный орган конституционного контроля осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства; суды общей юрисдикции и арбитражные суды не могут признавать названные акты не соответствующими Конституции Российской Федерации и потому утрачивающими юридическую силу; рассмотрение судом общей юрисдикции или арбитражным судом дел о проверке указанных в статье 125 (пункты "а" и "б" части 2 и часть 4) нормативных актов уровня ниже федерального закона (в том числе, следовательно, постановлений Правительства Российской Федерации), в результате которого такой нормативный акт может быть признан противоречащим федеральному закону, не исключает последующей их проверки в порядке конституционного судопроизводства.
Если же при рассмотрении заявления об оспаривании нормативного акта Правительства Российской Федерации Верховный Суд Российской Федерации придет к выводу о неконституционности федерального закона, на соответствие которому проверяется акт Правительства Российской Федерации, он приостанавливает производство по делу и обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности данного федерального закона в порядке статьи 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации и статьи 101 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации".
Решение суда общей юрисдикции о том, что нормативный акт Правительства Российской Федерации противоречит федеральному закону и является недействующим, не только не препятствует соответствующим органам государственной власти в порядке статьи 125 (часть 2) Конституции Российской Федерации и статей 84 и 85 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности как федерального закона, так и нормативного акта Правительства Российской Федерации, но и, напротив, обосновывает допустимость обращения в Конституционный Суд Российской Федерации, если заявитель вопреки указанному решению считает нормативный акт Правительства Российской Федерации подлежащим действию. При этом Конституционный Суд Российской Федерации выступает в качестве судебной инстанции, окончательно разрешающей такие публично-правовые споры.
Согласно правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации (Постановления от 16 июня 1998 года, от 11 апреля 2000 года, от 18 июля 2003 года, определения от 5 ноября 1998 года, от 8 февраля 2001 года, от 19 апреля 2001 года), а также исходя из предписаний частей второй, четвертой и пятой статьи 87 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Верховный Суд Российской Федерации вправе по инициативе уполномоченных государственных органов подтверждать недействительность, т.е. утрату юридической силы, положений нормативных актов Правительства Российской Федерации, если они аналогичны по содержанию нормам других актов, ранее признанных Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской Федерации и потому недействительными, а также если они основаны на ранее признанных Конституционным Судом Российской Федерации неконституционными положениях федерального закона либо воспроизводят их. Принятый в 2002 году Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации является федеральным законом. Следовательно, закрепив полномочия Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению дел об оспаривании нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в федеральном законе (лишь соответствующее полномочие Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации предусмотрено Федеральным конституционным законом "О военных судах Российской Федерации"), законодатель не выполнил требование статьи 128 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а также вступил в противоречие с постановлениями Конституционного Суда Российской Федерации, сохраняющими свою силу. Вместе с тем необходимо учесть, что признание пункта 2 части первой статьи 27, частей первой,
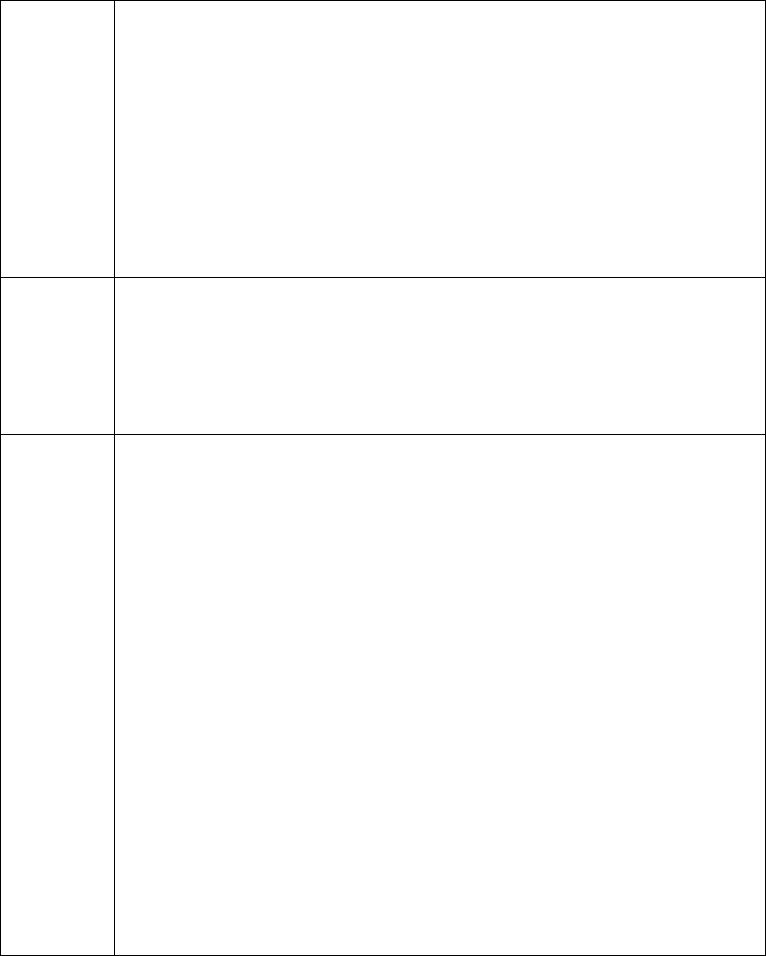
12
второй и четвертой статьи 251, частей второй и третьей статьи 253 ГПК Российской Федерации - в части, определяющей полномочия Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению дел об оспаривании нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, - не соответствующими Конституции Российской Федерации по форме акта, в котором установлены эти полномочия, предопределило бы и признание неконституционности по тому же основанию указанных положений, закрепляющих в целом полномочия судов общей юрисдикции разрешать дела об оспаривании нормативных правовых актов, а также других положений данного Кодекса, касающихся полномочий судов общей юрисдикции, что привело бы к существенному ограничению деятельности судов по осуществлению правосудия и дало бы возможность поставить под сомнение конституционность других принятых после вступления в силу Конституции Российской Федерации федеральных законов, устанавливающих полномочия судов. Такой результат противоречил бы целям конституционного судопроизводства.
Поэтому Конституционный Суд Российской Федерации в настоящем деле воздерживается от признания положений пункта 2 части первой статьи 27, частей первой, второй и четвертой статьи 251, частей второй и третьей статьи 253 ГПК Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской Федерации по форме правового акта, однако обращает внимание Федерального Собрания на то, что принятие федерального конституционного закона о полномочиях судов общей юрисдикции неоправданно затянулось.
Решение КС РФ 1. Признать взаимосвязанные положения пункта 2 части первой статьи 27, частей первой, второй и четвертой статьи 251, частей второй и третьей статьи 253 ГПК Российской Федерации - в части,
наделяющей Верховный Суд Российской Федерации полномочием рассматривать и разрешать дела о признании недействующими нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку эти положения - по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего нормативного регулирования - не предполагают разрешение Верховным Судом Российской Федерации дел об оспаривании нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, принятых во исполнение полномочия, возложенного на него непосредственно федеральным законом.
Особое мнение Особое Мнение Судьи Конституционного Суда Российской Федерации А.Л. Кононова Изменяя, по сути, компетенцию Верховного Суда Российской Федерации в части нормативного
контроля за правомерностью постановлений Правительства Российской Федерации и фактически изымая из нее в свою пользу ряд случаев, когда такая проверка возможна только в порядке конституционного судопроизводства, Конституционный Суд Российской Федерации, однако, не дает ясного и однозначного разрешения этой компетенции. В разных местах мотивировочной части Постановления она представлена в описательно-оценочных категориях и не совпадающих по объему и содержанию формулировках. Так, Конституционный Суд Российской Федерации относит к своей компетенции случаи, когда Правительство Российской Федерации обязано было осуществить собственное правовое регулирование в силу прямого предписания закона. В другом месте речь идет о регулировании, не получившем конкретного содержания в данном законе. Верховный Суд Российской Федерации вправе рассматривать такие акты, если при этом не затрагивается вопрос об их конституционности или о конституционности федерального закона, и не вправе, когда проверка невозможна без установления их соответствия Конституции Российской Федерации с точки зрения принципа разделения властей и разграничения компетенции между федеральными органами законодательной и исполнительной власти. В другом случае к этому добавляется и соответствие содержания акта Конституции Российской Федерации. Наконец, в резолютивной части речь идет об актах, принятых во исполнение полномочия, возложенного на Правительство Российской Федерации непосредственно федеральным законом. Не вполне понятно, исключает ли данный вывод предыдущие требования, но и здесь очевидно возникновение вопросов, каким законом и какое полномочие было возложено на Правительство Российской Федерации, было ли оно возложено вообще, в какой степени оно связано с последующим регулированием и т.д. Далеко не всегда такая связь с очевидностью вытекает из простого сопоставления текстов. При всем разнообразии
приведенных формулировок они не складываются в единое непротиворечивое и ясное установление подведомственности нормативного контроля этих актов, представляются явно непригодными для этого и в силу своей критической неопределенности могут привести к произвольному их применению на практике.
Таким образом, обоснование ограничения установленной законом компетенции судов общей юрисдикции в сфере нормоконтроля путем различения понятий законности и конституционности акта, по нашему мнению, не является убедительным и противоречит правовой природе нормоконтроля.
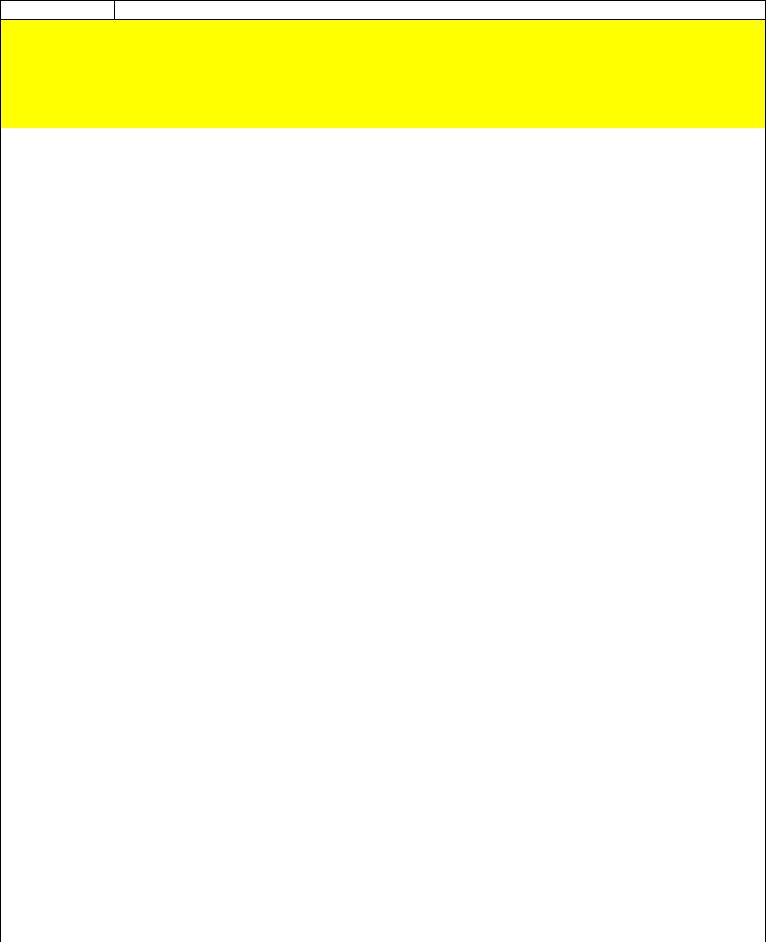
13
Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. N 13-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи с жалобами ряда граждан"
Заявитель |
Поводом к рассмотрению дела явились жалоба гражданина В.Ф. Гришкевича, а также жалобы |
|
граждан Н.С. Манжиковой, Э.С. Моргасова и Ж.А. Санжаповой, Н.А. Анфилатовой, В.И. Гурова, М.В. |
|
Полежаева и А.Н. Попова, А.Н. Варакиной, А.В. Моисеенко, М.Е. Осовского, Н.Б. Смольянова и С.Н. |
|
Тремасовой, О.В. Бабинского, М.Ю. Вдовенко, В.П. Колотова, Е.В. Клюшниковой, В.П. Небальзина, |
|
П.Т. Тимофеева, Е.А. Федотова и А.С. Якушевой, Ю.В. Богуша, И.А. Жарской и О.Г. Маерова, Ю.Э. |
|
Гоголева, В.Л. Лунева, Г.Г. Новикова, О.С. Носова и И.Е. Панкратова, С.С. Букина, В.А. Гудеева и |
|
К.Ю. Кулдасова, А.Н. Милостных и В.М. Скрипкина, О.Д. Дячкина, В.И. Качанова, В.А. Крысанова, |
|
С.А. Нефедова и В.Ф. Щедрина, А.В. Лопарева, Н.П. Лыхина, Б.Б. Надеждина, С.В. Рудакова, В.В. |
|
Сиднева, Г.Е. Соколовой и К.П. Фокина, В.И. Иванова, И.А. Лебедевой и В.В. Ульянова, Е.А. |
|
Двилянской, Ю.А. Скворцова и С.А. Тарасова, А.Б. Зайцева и В.В. Попова, Ю.В. Буханца, С.А. |
|
Жиркова, М.Ю. Максимова и В.А. Орехова. |
Основание |
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, |
рассмотрения |
соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителями положения |
|
Федерального закона от 6 октября 1999 года "Об общих принципах организации законодательных |
|
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской |
|
Федерации" (в редакции Федерального закона от 11 декабря 2004 года "О внесении изменений в |
|
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и |
|
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в |
|
Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме |
|
граждан Российской Федерации"). |
Позиция |
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации В.Ф. Гришкевич оспаривает |
заявителя |
конституционность статьи 18 Федерального закона "Об общих принципах организации |
|
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов |
|
Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 11 декабря 2004 года) в части, |
|
закрепляющей, что гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями высшего |
|
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа |
|
государственной власти субъекта Российской Федерации) по представлению Президента |
|
Российской Федерации законодательным (представительным) органом государственной власти |
|
субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном данным Федеральным законом и |
|
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, а также конституционность |
|
соответствующих положений Федерального закона от 11 декабря 2004 года "О внесении изменений |
|
в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и |
|
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в |
|
Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме |
|
граждан Российской Федерации". |
|
По мнению заявителя, оспариваемые законоположения, как предусматривающие наделение |
|
гражданина Российской Федерации полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской |
|
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта |
|
Российской Федерации) по представлению Президента Российской Федерации законодательным |
|
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а не в |
|
результате прямых выборов населением соответствующего субъекта Российской Федерации, как это |
|
было установлено Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных |
|
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской |
|
Федерации" в первоначальной редакции, неправомерно ограничивают конституционное право |
|
граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и тем самым противоречат |
|
статьям 17, 18, 32 и 55 (часть 2) Конституции Российской Федерации. |
|
По мнению заявителей, оспариваемые ими законоположения чрезмерно ограничивают право |
|
граждан на участие в управлении делами государства и их избирательные права, нарушают |
|
конституционные принципы разделения властей, разграничение предметов ведения и полномочий |
|
между Российской Федерацией и ее субъектами, не соответствуют конституционным положениям о |
|
полномочиях Президента Российской Федерации, а потому противоречат статьям 10, 11 (часть 2), 32 |
|
(части 1 и 2), 55 (часть 2), 71 (пункт "г"), 72 (пункты "л", "н" части 1), 73, 78, 83, 84, 85, 96 (часть 2), 117 |
|
(часть 5) и 125 (часть 2) Конституции Российской Федерации. |
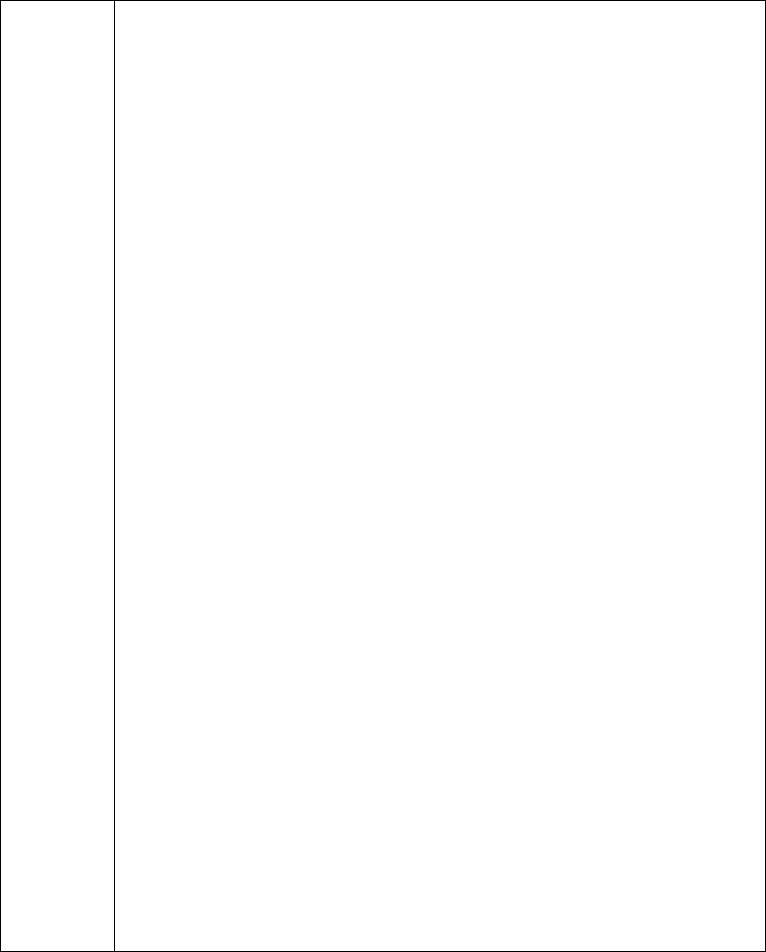
14
Позиция КС РФ В частности, Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что само по себе право законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации на участие в
формировании исполнительного органа власти данного субъекта Российской Федерации не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации; такое участие, однако, не должно приводить к парализации деятельности входящих в единую систему исполнительной власти в Российской Федерации органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и лишать их самостоятельности при осуществлении принадлежащих им полномочий в конституционноправовой системе разделения властей.
Поэтому, признавая неконституционными соответствующие положения Устава (Основного Закона) Алтайского края, Конституционный Суд Российской Федерации исходил из недопустимости избрания главы администрации Алтайского края его законодательным органом государственной власти - Алтайским краевым Законодательным Собранием, которому действовавшим на тот момент законодательством Алтайского края - в отсутствие специального федерального закона, регулирующего общие принципы организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации - были предоставлены полномочия по утверждению (по представлению главы администрации края) структуры администрации и Совета администрации, принимающего решения по важнейшим вопросам жизни края, по даче согласия главе администрации края на назначение и освобождение от должности его первого заместителя, руководителей краевых органов - внутренних дел, юстиции, финансов, социальной защиты населения, по управлению государственным имуществом края, поскольку в таком случае исполнительная власть целиком и полностью выводилась бы из-под контроля народа и не была бы ответственна перед ним, а избираемый в таком порядке глава администрации не мог считаться легитимным независимым представителем исполнительной власти (Постановление от 18 января 1996 года N 2-П).
Правовые позиции, сформулированные в названных решениях, имеют значение для оценки конституционного статуса высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в механизме разделения государственной власти в субъектах Российской Федерации. Вместе с тем они не могут быть в полной мере использованы для оценки нового порядка наделения полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, предполагающего участие в нем как законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, так и Президента Российской Федерации.
Оспариваемые заявителями положения Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" предусматривают внесение кандидатуры высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации Президентом Российской Федерации, что предполагает выбор Президентом Российской Федерации, в частности на основе таких критериев, как профессионализм, компетентность, опыт, соответствующей кандидатуры из числа граждан Российской Федерации, удовлетворяющих требованиям, которым должно отвечать высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Это подтверждается и положениями Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 1603 "О порядке рассмотрения кандидатур на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации" (в редакции от 29 июня 2005 года). Что касается законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, формирующегося путем проведения выборов на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании, то он в соответствии со статьями 1 (часть 1), 3 (части 1, 2 и 3), 5 (часть 3), 10, 11, 66, 72, 73, 77 (часть 1), 134 и 136 Конституции Российской Федерации и положениями пункта 2 статьи 1, статьи 4 и пункта 3 статьи 10 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" является, как указано в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2002 года N 9-П по делу о проверке конституционности положений статей 13 и 14 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", полноправным органом народного представительства и потому принимает все государственно-властные решения, входящие в круг его полномочий, в том числе, следовательно, решение о наделении полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), выражая волю населения субъекта Российской Федерации, отстаивая его интересы.
Таким образом, положения о наделении гражданина Российской Федерации полномочиями
15
|
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего |
|
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), |
|
предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 18 Федерального закона "Об общих принципах |
|
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов |
|
государственной власти субъектов Российской Федерации" в редакции Федерального закона |
|
от 11 декабря 2004 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах |
|
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов |
|
государственной власти субъектов Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об |
|
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан |
|
Российской Федерации", не могут рассматриваться как нарушающие необходимые для |
|
обеспечения прав и свобод человека и гражданина конституционные принципы разделения |
|
властей, федерализма и организации исполнительных органов государственной власти в |
|
Российской Федерации, баланс полномочий и законных интересов Российской Федерации и |
|
ее субъектов; не нарушают они и закрепленные в Конституции Российской Федерации права |
|
граждан участвовать в управлении делами государства, избирать и быть избранными в |
|
органы государственной власти и как таковые не противоречат Конституции Российской |
|
Федерации. |
Решение КС РФ |
1. Признать не противоречащими Конституции Российской Федерации положения, содержащиеся в |
|
пунктах 1 и 2 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года "Об общих принципах |
|
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной |
|
власти субъектов Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 11 декабря 2004 года |
|
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных |
|
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской |
|
Федерации" и в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие |
|
в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которым гражданин Российской |
|
Федерации наделяется полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации |
|
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской |
|
Федерации) по представлению Президента Российской Федерации законодательным |
|
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации. |
|
2. Прекратить производство по жалобе гражданина В.Ф. Гришкевича в части, касающейся положений |
|
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и |
|
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", о проверке |
|
конституционности которых он ходатайствовал в заседании Конституционного Суда Российской |
|
Федерации, а по жалобам других граждан - в части, касающейся проверки конституционности |
|
пунктов 4 и 4.1 статьи 9, подпунктов "б" и "г" пункта 1, пунктов 5, 6, 9 и 11 статьи 19, пунктов 3, 3.1, 4 |
|
и 6 статьи 29.1 названного Федерального закона. |
Особое мнение |
Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации А.Л. Кононова |
№1 |
Главным и фатальным противоречием Постановления является упорное отрицание |
|
Конституционным Судом права каждого избирать и быть избранным главой исполнительной власти |
|
региона. Конституционный Суд утверждает, что такое право (Конституционный Суд называет его то |
|
правом, то правомочием, то возможностью) не закреплено в Конституции, не вытекает из ее |
|
содержания, не относится к общепризнанным правам и свободам и не является необходимым |
|
составным элементом избирательного права граждан, как и права на участие в управлении делами |
|
государства и на доступ к государственной службе. |
|
Представляется, что это отрицание разительно не согласуется с нормами и принципами |
|
Конституции Российской Федерации, которая утверждает демократическое федеративное правовое |
|
государство с республиканской формой правления (статья 1) и соответственно этим основам |
|
признает многонациональный народ единственным источником власти, осуществляющим эту власть |
|
как непосредственно, так и через органы государственной власти и местного самоуправления, а |
|
высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы |
|
(статья 3). Права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти, право |
|
участвовать в управлении делами государства непосредственно и через своих представителей, |
|
равный доступ к государственной службе (статья 32) как важнейшие политические права и свободы |
|
человека являются высшей ценностью (статья 2) и выражением демократии и народовластия. Они |
|
неотчуждаемы, являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и |
|
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти (статьи 17 и 18). |
|
Прямые выборы глав администраций всех уровней и во всех территориальных единицах были |
|
предусмотрены еще Законом РСФСР 1991 года. После принятия Конституции 1993 года |
|
законодательство последовательно приводилось в соответствие с конституционными стандартами |
|
демократии, и прямые выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации были |
|
закреплены в законах об основных гарантиях избирательных прав и об общих принципах |
|
организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов |
16
|
Российской Федерации, а также в региональных конституциях и уставах. Эти законы имеют прямую |
|
отсылку к Конституции Российской Федерации. Можно ли при этом сомневаться, что указанное право |
|
существует и вытекает из Конституции? Из указанных выше норм Конституции, из международной |
|
практики применения общепризнанных принципов и норм о правах человека, из учения о толковании |
|
правовых норм следует, что их интерпретация правоприменителем во всяком случае не может |
|
приводить к уменьшению объема признанных прав и свобод. К сожалению, Конституционный Суд |
|
поступил иначе. |
|
Не могут служить оправданием ликвидации выборов глав субъектов Российской Федерации |
|
примеры формирования Совета Федерации или назначения Председателя Правительства и |
|
министров. Во-первых, Совет Федерации по Конституции - представительный и законодательный |
|
орган, и Конституционный Суд, как известно, так и не рассматривал вопрос о конституционности |
|
порядка его формирования. Во-вторых, гораздо больше аналогий у главы субъекта Российской |
|
Федерации с главой государства, чем с Председателем Правительства или министрами |
|
(полномочия по формированию исполнительной власти, представительские функции, формы |
|
участия в законодательном процессе, взаимодействие с представительными органами и т.д.). |
|
Весьма цинично, однако, было бы утверждать, что народу вполне достаточно было бы |
|
выбирать и иметь только одного представителя в исполнительной власти - Президента Российской |
|
Федерации, с тем чтобы он назначал остальных. Руководитель региона, бесспорно, является |
|
фигурой, представляющей важное значение для жизни и интересов населения, особенно (как это |
|
отмечалось в настоящем процессе) при сильном ослаблении местных парламентов и зависимости |
|
их от исполнительной власти. Новый механизм, таким образом, лишил население не только права |
|
избирать и быть избранным, но и права отстаивать свои права и интересы на региональном уровне, |
|
в том числе путем ответственности перед ним выборного лица. |
|
Так, Конституционный Суд, признавая правомочие гражданина избирать и быть избранным |
|
посредством прямых выборов на должность высшего должностного лица субъекта |
|
Российской Федерации, утверждает, что исключение этого правомочия федеральным |
|
законодателем не может рассматриваться как нарушение статей 32 и 55 Конституции |
|
Российской Федерации. Но часть 2 ее статьи 55 содержит прямой запрет законодателю |
|
издавать законы, отменяющие и умаляющие права и свободы человека и гражданина. |
Особое мнение |
Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации В.Г. Ярославцева |
№2 |
Полагаю, что названные положения не соответствуют Конституции Российской Федерации, ее |
|
статьям 3 и 32 (части 1 и 2), по следующим основаниям. |
|
Народовластие является существенным элементом и качественным показателем |
|
демократического правового государства как такового. Отсюда с очевидностью следует, что |
|
отчуждение народа от принятия государственно-властных решений, в частности посредством |
|
запрета свободных выборов органов государственной власти, ведет к искажению самой сути такого |
|
государства. Порядок формирования исполнительной власти субъекта Российской Федерации на |
|
основе прямого избрания глав администраций предусматривается в большинстве принятых уставов |
|
субъектов Российской Федерации. В Уставе Алтайского края (статья 83 в редакции от 2 октября 1995 |
|
года) установлено иное: главу администрации избирает Законодательное Собрание; им может быть |
|
избран гражданин Российской Федерации, отвечающий предусмотренным требованиям. Тем самым |
|
Законодательное Собрание превращено в своеобразную избирательную коллегию, решение которой |
|
подменяет прямое волеизъявление избирателей. Такой порядок избрания не соответствует |
|
Конституции Российской Федерации и действующему законодательству. Избранный в таком порядке |
|
глава администрации не может считаться легитимным независимым представителем |
|
исполнительной власти, поскольку ни законодательная, ни исполнительная власть не вправе |
|
определять одна для другой ее представителя, в том числе в федеральных органах. |
|
В заключение хотелось бы выразить озабоченность тем обстоятельством, что государство, |
|
созидаемое на основе "управляемой" демократии и "властной" вертикали, о чем свидетельствует и |
|
новый порядок наделения полномочиями глав субъектов Российской Федерации, все больше |
|
преобразуется в "мегамашину" <*>, т.е. в общество, которое, включая всех своих членов, |
|
уподобляется огромной централизованно управляемой машине. Однако при всей своей |
|
привлекательности государство-"мегамашина" с неизбежностью обречено на саморазрушение, в |
|
основе которого лежит отторжение народа от власти, сопровождающееся приходом к управлению |
|
"мегамашиной" любого, кому будет "даровано" право доступа к ней на многочисленных уровнях |
|
бюрократической администрации. |
|
|
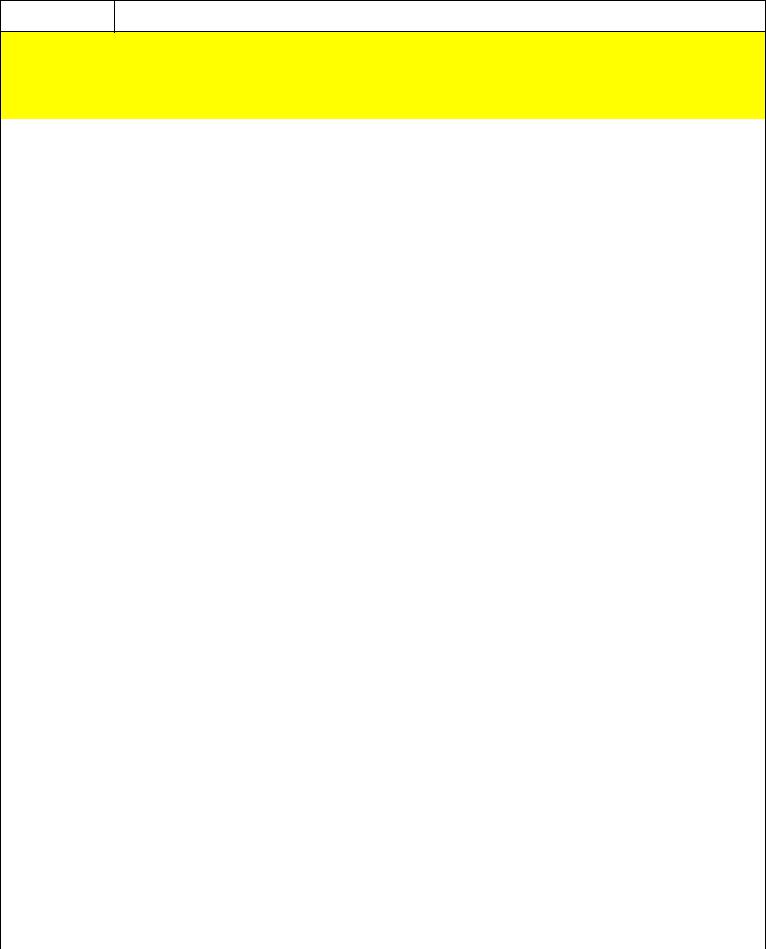
17
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 марта 2007 г. N 3-П по делу о проверке конституционности ряда положений статей 6 и 15 Федерального Конституционного Закона "О Референдуме Российской Федерации" в связи с жалобой граждан В.И. Лакеева, В.Г. Соловьева И В.Д.
Уласа
Заявитель |
граждане В.И. Лакеев, В.Г. Соловьев и В.Д. Улас |
Основание |
нарушение их конституционных прав положениями пункта 6 части 5, части 7 статьи 6 и части 13 |
рассмотрения |
статьи 15 Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 года "О референдуме Российской |
|
Федерации". Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в |
|
вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые в жалобе |
|
законоположения. |
Позиция |
Как утверждают заявители, положение пункта 6 части 5 статьи 6 Федерального конституционного |
заявителя |
закона "О референдуме Российской Федерации" противоречит статьям 3 (части 2 и 3), 19 (части 1 и |
|
2), 32 (часть 2), 55 (часть 3), 94, 105, 106, 108 и 114 (пункт "а" части 1) Конституции Российской |
|
Федерации, поскольку по смыслу, придаваемому ему правоприменительными органами, позволяет |
|
запрещать вынесение на референдум Российской Федерации какого бы то ни было вопроса, |
|
касающегося федерального бюджета и обязанностей государства нести соответствующие расходы, |
|
при том что любой вопрос так или иначе затрагивает бюджет и связан с расходами государства. |
|
Часть 7 статьи 6 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации", |
|
по мнению заявителей, противоречит статьям 19, 32 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции |
|
Российской Федерации, поскольку допускает расширительное и произвольное толкование |
|
правоприменительными органами содержащихся в ней требований. Противоречие статьям 2, 10, 11, |
|
19, 32 (части 1 и 2), 55 (часть 3) и 94 Конституции Российской Федерации положения части 13 статьи |
|
15 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации" заявители |
|
усматривают в том, что в соответствии с ним Центральная избирательная комиссия Российской |
|
Федерации наделяется полномочием, которое, как они полагают, может принадлежать только |
|
обладающим соответствующей компетенцией конституционным органам государственной власти. |
Позиция КС РФ |
В соответствии с Конституцией Российской Федерации носителем суверенитета и единственным |
|
источником власти в Российской Федерации как демократическом федеративном правовом |
|
государстве с республиканской формой правления является ее многонациональный народ; народ |
|
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы |
|
местного самоуправления; высшее непосредственное выражение власти народа - референдум и |
|
свободные выборы (статья 1, часть 1; статья 3, части 1, 2 и 3). |
|
Референдум как всенародное голосование граждан Российской Федерации по вопросам |
|
государственного значения и свободные выборы как способ формирования органов народного |
|
представительства и других выборных органов государственной власти являются, согласно |
|
правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в |
|
Постановлении от 11 июня 2003 года N 10-П, высшими формами непосредственной демократии, |
|
которые, при том что каждая имеет собственное предназначение в процессе осуществления |
|
народовластия, равноценны и, будучи взаимосвязаны, дополняют друг друга; статьями 84 (пункт "в"), |
|
92 (часть 3) и 135 (часть 3) Конституции Российской Федерации в системной связи с ее статьями 3, |
|
32 (части 1 и 2) и 71 (пункты "а", "в") обусловливаются характер и содержание законодательного |
|
регулирования условий и порядка проведения референдума и выборов в органы публичной власти, с |
|
тем чтобы свободное волеизъявление граждан было обеспечено как при осуществлении права |
|
участвовать в референдуме, так и при осуществлении избирательных прав; устанавливая |
|
регламентацию соответствующих прав, федеральный законодатель обладает достаточной свободой |
|
усмотрения, которая тем не менее ограничена особенностями высших форм непосредственного |
|
народовластия, их предназначением и соотношением. |
|
Следовательно, осуществляя правовое регулирование отношений, связанных с |
|
референдумом Российской Федерации, федеральный законодатель должен обеспечить такие |
|
условия и порядок их реализации, чтобы референдум не мог использоваться как институт, |
|
подменяющий иные институты непосредственной демократии, либо как противовес |
|
институтам представительной демократии, в том числе в нарушение исключительных |
|
прерогатив Федерального Собрания или других федеральных органов государственной |
|
власти, которые должны осуществляться в иных конституционно установленных формах |
|
законотворчества как способа принятия государственных решений. Устанавливая правовые |
|
пределы использования института референдума, федеральный законодатель предусмотрел |
|
в статье 6 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации", |
|
что на референдум Российской Федерации могут выноситься вопросы государственного |
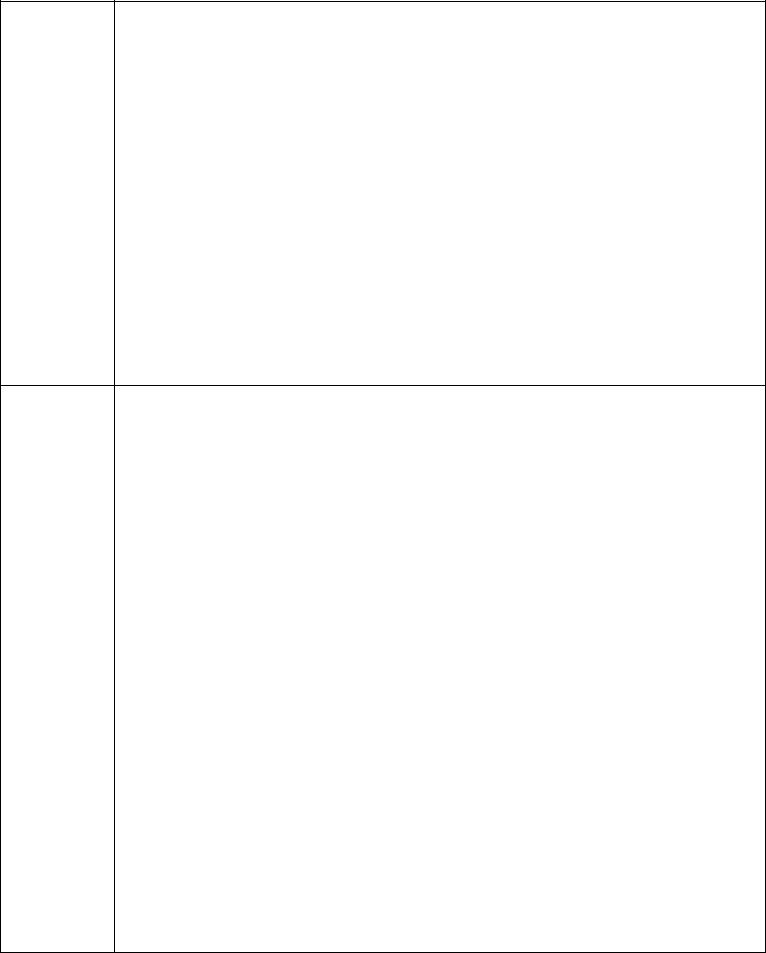
18
значения, отнесенные Конституцией Российской Федерации к ведению Российской Федерации и к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (часть 4), и одновременно перечислил вопросы, которые на референдум выноситься не могут, назвав в их числе вопросы о принятии и об изменении федерального бюджета и вопросы об исполнении и изменении внутренних финансовых обязательств Российской Федерации (пункт 6 части 5). Выявляя особую правовую природу федеральных законов о федеральном бюджете, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 23 апреля 2004 года N 9-П указал следующее.
В силу принципа разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную утверждение бюджета, установление состава доходов и расходов бюджета традиционно относится к сфере законодательного регулирования. Как вытекает из статьи 71 (пункт "з") Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 10, 76 (часть 1) и 106 (пункт "а"), федеральный бюджет как форма образования и расходования денежных средств для обеспечения деятельности публичной власти - самостоятельная сфера правового регулирования, отнесенная к ведению Российской Федерации, а юридической формой, в которую он облекается, служит специальный федеральный закон о федеральном бюджете.
Таким образом, запрет на вынесение на референдум вопросов о принятии и об изменении федерального бюджета, сформулированный в пункте 6 части 5 статьи 6 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации", вытекает непосредственно из приведенных положений Конституции Российской Федерации. Отсутствие такого запрета, обусловленного особой природой федерального закона о федеральном бюджете, могло бы приводить к подмене закрепленного в Конституции Российской Федерации механизма принятия решений по указанным вопросам Федеральным Собранием как его исключительной прерогативы. Данные требования не могут рассматриваться как противоречащие Конституции Российской Федерации и нарушающие какие-либо конституционные права и свободы.
Решение КС РФ 1. Признать соответствующим Конституции Российской Федерации положение пункта 6 части 5 статьи 6 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации", согласно которому на референдум не могут выноситься вопросы о принятии и об изменении федерального бюджета.
2.Признать не противоречащим Конституции Российской Федерации положение пункта 6 части 5 статьи 6 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации", согласно которому на референдум не могут выноситься вопросы об исполнении и изменении внутренних финансовых обязательств Российской Федерации, поскольку по своему конституционноправовому смыслу в системе действующего правового регулирования данное законоположение не допускает вынесение на референдум вопросов, связанных с собственно бюджетными обязательствами Российской Федерации, и не предполагает при этом запрет вынесения на референдум вопросов, ответы на которые могут повлечь изменение расходных обязательств Российской Федерации, учитываемых при формировании расходов федерального бюджета и принятии расходных обязательств, за пределами срока действия федерального закона о федеральном бюджете.
3.Признать не противоречащей Конституции Российской Федерации часть 7 статьи 6 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации", согласно которой вопрос, выносимый на референдум, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, чтобы на него можно было дать только однозначный ответ и чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу названное законоположение предполагает, что формулировка вопроса, выносимого на референдум, должна позволять воспринять его как единое целое, с тем чтобы участвующий в референдуме гражданин не был вынужден голосовать одновременно за несколько не связанных между собой вопросов, соединенных в одном предложении; один и тот же вопрос не должен относиться к разным уровням законодательства, обусловленным его иерархией и федеративным устройством Российской Федерации; не должно иметь место сочетание составленного в общих выражениях предложения и вопроса принципиального характера; вопрос должен быть сформулирован таким образом, чтобы правовые последствия принятого на референдуме решения были определенными по своему содержанию и по возлагаемым на соответствующие федеральные органы государственной власти полномочиям.
4.Признать не противоречащим Конституции Российской Федерации положение части 13 статьи 15 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации", как закрепляющее полномочие Центральной избирательной комиссии Российской Федерации осуществлять предварительную проверку соответствия вопроса (вопросов) референдума требованиям, предусмотренным статьей 6 данного Федерального конституционного закона.
Признать не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 18, 47 (часть
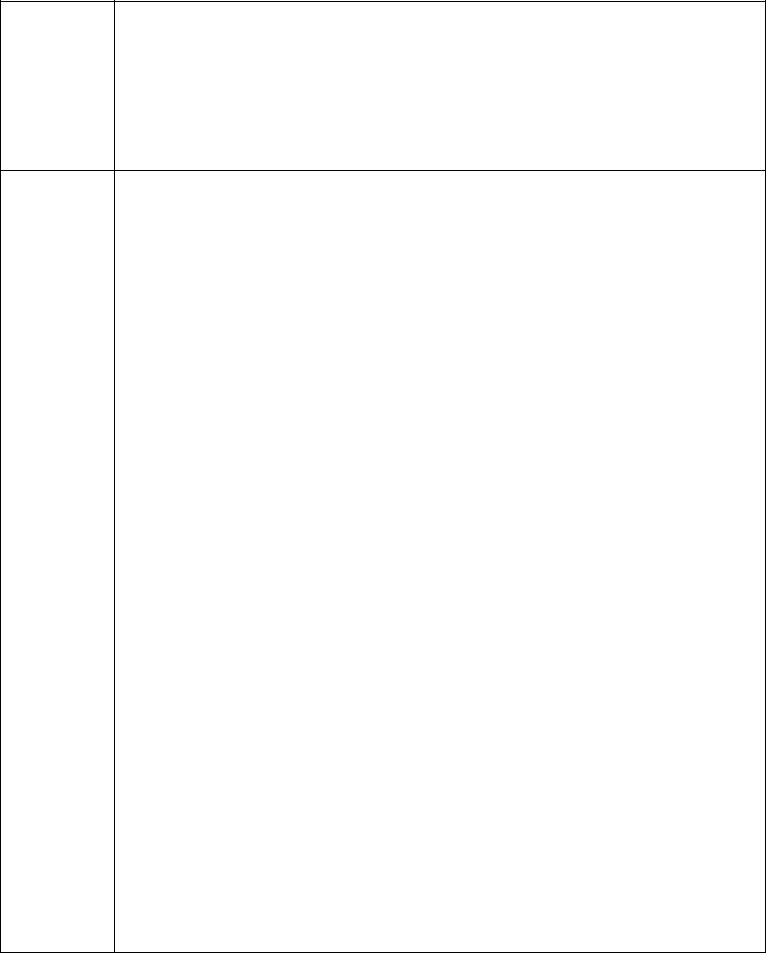
19
1), 118 (часть 2), 125 и 126, указанное законоположение во взаимосвязи с положениями части 17 той же статьи и статьи 6, как устанавливающее механизм судебной проверки решений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, который не предполагает разрешение юридических споров, являющихся по своей природе, характеру и последствиям конституционными, в порядке конституционного судопроизводства.
Федеральному законодателю надлежит, исходя из статьи 128 (часть 3) Конституции Российской Федерации, урегулировать в федеральном конституционном законе соответствующие полномочия по судебному конституционному контролю за разрешением споров, возникающих из признания Центральной избирательной комиссией Российской Федерации вопросов референдума Российской Федерации не отвечающими требованиям статьи 6 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации".
Особое мнение Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации С.М. Казанцева 1. Конституционный Суд Российской Федерации, даже действуя из лучших побуждений, не
имеет права по собственной инициативе расширять предмет обращения. Заявители по данному делу не просили проверить конституционность части 17 статьи 15 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации" ни самой по себе, ни в системной связи с иными положениями той же статьи и его статьи 6. Ни в своей жалобе, ни в выступлениях в заседании Конституционного Суда Российской Федерации они не оспаривали механизм судебной проверки споров о соответствии вопросов референдума требованиям статьи 6.
Следовательно, выйдя за пределы требований заявителей, Конституционный Суд Российской Федерации фактически по собственной инициативе рассмотрел вопрос о соответствии указанных законоположений Конституции Российской Федерации, что является беспрецедентным нарушением статьи 125 Конституции Российской Федерации, а также части первой статьи 36 и части третьей статьи 74 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации".
Таким образом, содержащееся в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21 марта 2007 года N 3-П (пункт 5.2 мотивировочной части и пункт 4 резолютивной части) утверждение о том, что все конституционные споры должны рассматриваться только в порядке конституционного судопроизводства, не опирается на прежние правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. Эта фактически новая правовая позиция обосновывается лишь тем, что "в противном случае нарушались бы закрепленные Конституцией Российской Федерации принципы, лежащие в основе организации и осуществления правосудия, разграничения видов судебной юрисдикции, обеспечения прав и свобод граждан (статья 18; статья 47, часть 1; статья 118, часть 2; статьи 125 и 126)".
На мой взгляд, из тех же статей Конституции Российской Федерации следует сделать прямо противоположный вывод: не все споры, которые по своей юридической природе, характеру и последствиям являются конституционными, разрешаются в порядке конституционного судопроизводства, а только те, которые отнесены к подведомственности Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных судов субъектов Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, конституциями (основными законами) субъектов Российской Федерации и законами о конституционных судах.
Утверждение Конституционного Суда Российской Федерации о необходимости разрешения всех конституционных споров в порядке конституционного судопроизводства предполагает, что законодатель обязан наделить Конституционный Суд Российской Федерации полномочиями рассматривать в том числе споры о конституционности всех правоприменительных актов (не только Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, но и судов, а также иных правоприменительных органов) и, видимо, даже не вправе ограничивать круг лиц, которые могут обратиться в конституционные суды, оспаривая конституционность правоприменительных актов. Данное утверждение абсолютно противоречит принципу, положенному в основу Конституции Российской Федерации, да и практически всех зарубежных конституций, которые предусматривают существование конституционных судов: перечень полномочий конституционного суда является исчерпывающим, а не примерным. Этот перечень может быть расширен непосредственно Конституцией Российской Федерации или законом, но не собственным постановлением Конституционного Суда Российской Федерации. В противном случае его полномочия становятся неограниченными.
Вывод Конституционного Суда Российской Федерации о невозможности проверки конституционности вопросов, выносимых на референдум, в Верховном Суде Российской Федерации сомнителен еще и потому, что Конституционный Суд Российской Федерации признал право Центральной избирательной комиссии Российской Федерации проводить такую проверку.
Таким образом, из какого бы толкования (широкого или узкого) абзацев второго и третьего пункта 4 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской
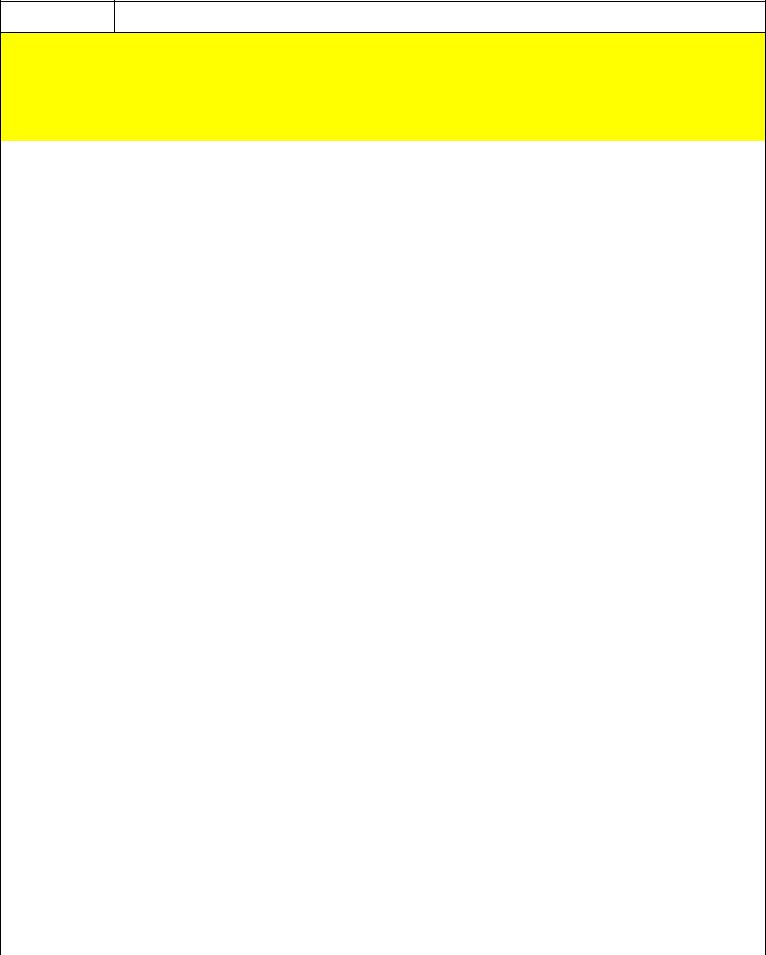
20
Федерации ни исходить, сформулированные в них положения следует признать необоснованными.
Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2010 N 8-П "По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и запросом Свердловского областного суда"
Заявитель |
граждане Р.Р. Зайнагутдинов, Р.В. Кудаев, Ф.Р. Файзулин, А.Д. Хасанов, А.И. Шаваев и |
|
Свердловский областной суд |
Основание |
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, |
рассмотрения |
соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителями положения |
|
пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса |
|
Российской Федерации. |
Позиция |
Судья Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики Постановлением от 25 марта 2008 |
заявителя |
года удовлетворил ходатайство 34 обвиняемых, в том числе Р.В. Кудаева, о рассмотрении |
|
уголовного дела судом с участием присяжных заседателей и отказал в удовлетворении ходатайства |
|
о его рассмотрении коллегией из трех профессиональных судей, заявленного другими 24 |
|
обвиняемыми, в том числе А.И. Шаваевым. Впоследствии по ходатайству стороны обвинения |
|
Постановлением судьи Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2009 года |
|
уголовное дело в целом было направлено для рассмотрения судом в составе трех судей |
|
федерального суда общей юрисдикции с указанием на то, что уголовные дела о преступлениях, |
|
предусмотренных статьями 205 и 279 УК Российской Федерации, в силу части второй статьи 30 УПК |
|
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 321-ФЗ) не |
|
подлежат рассмотрению судом с участием присяжных заседателей. |
|
Как утверждают Р.В. Кудаев и А.И. Шаваев, оспариваемое ими нормативное регулирование - |
|
по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, - не соответствует Конституции |
|
Российской Федерации, ее статьям 20 (часть 2), 32 (часть 5), 47, 55 и 64, поскольку фактически |
|
лишает их права на допускаемый Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации выбор |
|
законного состава суда, в том числе с участием присяжных заседателей, не только в отношении |
|
преступлений, дела по которым исключены Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 321-ФЗ |
|
из подсудности суда с участием присяжных заседателей, но и в отношении других вменявшихся им |
|
по совокупности преступлений, которые по-прежнему относятся к предмету рассмотрения суда с |
|
участием присяжных заседателей. |
|
По завершении предварительного следствия уголовное дело по обвинению граждан Ф.Р. |
|
Файзулина, А.Д. Хасанова и других в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе в |
|
приготовлении к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного |
|
строя Российской Федерации (часть первая статьи 30 и статья 278 УК Российской Федерации), было |
|
направлено в суд. В удовлетворении заявленных ими 29 декабря 2008 года ходатайств о |
|
рассмотрении данного уголовного дела судом с участием присяжных заседателей было отказано |
|
Постановлением судьи Верховного суда Республики Татарстан от 29 января 2009 года со ссылкой на |
|
то, что согласно пунктам 2 и 3 части второй статьи 30 УПК Российской Федерации (в редакции |
|
Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 321-ФЗ) уголовные дела о преступлении, |
|
предусмотренном статьей 278 УК Российской Федерации, из подсудности суда с участием |
|
присяжных заседателей исключены. |
|
Гражданину Р.Р. Зайнагутдинову, обвиняемому в совершении ряда преступлений, в том числе |
|
в приготовлении к такому особо тяжкому преступлению, как совершение террористического акта в |
|
составе организованной группы (часть первая статьи 30 и пункт "а" части второй статьи 205 УК |
|
Российской Федерации), Постановлением следователя от 12 марта 2009 года со ссылкой на |
|
Федеральный закон от 30 декабря 2008 года N 321-ФЗ было отказано в удовлетворении ходатайства |
|
о рассмотрении его уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Постановлением от |
|
14 апреля 2009 года судья Верховного суда Республики Башкортостан назначил дело к |
|
рассмотрению судом в составе коллегии из трех профессиональных судей. |
|
Как утверждают заявители, в результате применения в их делах пунктов 2 и 3 части второй |
|
статьи 30 УПК Российской Федерации в редакции Федерального закона от 30 декабря 2008 года N |
|
321-ФЗ они - в нарушение статей 17 (часть 1), 18, 19 (части 1 и 2), 20 (часть 2), 32 (часть 5), 45, 47, 55 |
|
и 64 Конституции Российской Федерации - были лишены права на рассмотрение уголовных дел |
|
судом с участием присяжных заседателей. |
|
По мнению Свердловского областного суда, часть вторая статьи 325 УПК Российской |
|
Федерации, требующая рассмотрения уголовного дела, в котором участвует несколько обвиняемых, |
|
судом с участием присяжных заседателей в отношении всех этих обвиняемых, если хотя бы один из |
