
книги2 / 281
.pdf
а нормативистская (догматичная) – призывала к «должному» поведению. Но в результате трансформации политической экономии в современную экономическую науку
вявном виде в качестве основополагающей предпосылки экономических исследований осталась рациональная нормативная установка, которая предполагает наличие регулярностей в поведении человека (поддающиеся математическому «просчету»), в отличие от иррациональных страстей, которые потому и являются таковыми, поскольку не поддаются строгому или относительно строгому математическому анализу. Таким образом, дискурс о нерациональности человеческой «природы» на протяжении последующей истории экономической науки вышел за рамки парадигмы – мейнстрима и стал скорее маргинальным течением. Но на рубеже XX–XXI вв. совместные усилия экономистов и психологов привели к открытию (насколько данное открытие можно считать таковым, мы рассмотрим далее) способов анализа и выявлению закономерностей в нерациональной «природе» поведения экономических агентов.
Однако попытка поиска научных способов объяснения иррациональных факторов была воспринята в экономике неоднозначно. С одной стороны, за последние два десятилетия были присуждены не менее двух Нобелевских премий именно за поведенческие исследования, что говорит о принятии научным сообществом иррациональных предпосылок
вповедении экономических агентов. С другой – представители экономического мейнстрима не готовы отказаться от фундаментального принципа рациональности вследствие множества различных причин, например, невозможности классификации иррациональных факторов (Капелюшников, 2013. С. 17–18). Такая поляризация экономистов приводит к ожесточенным спорам о статусе как новых поведенческих исследований, так и всей экономической науки (по крайней мере, микроэкономики), как основывающейся на релевантных предпосылках (принцип рациональности). Поскольку споры о статусе новых исследований пока не привели
301
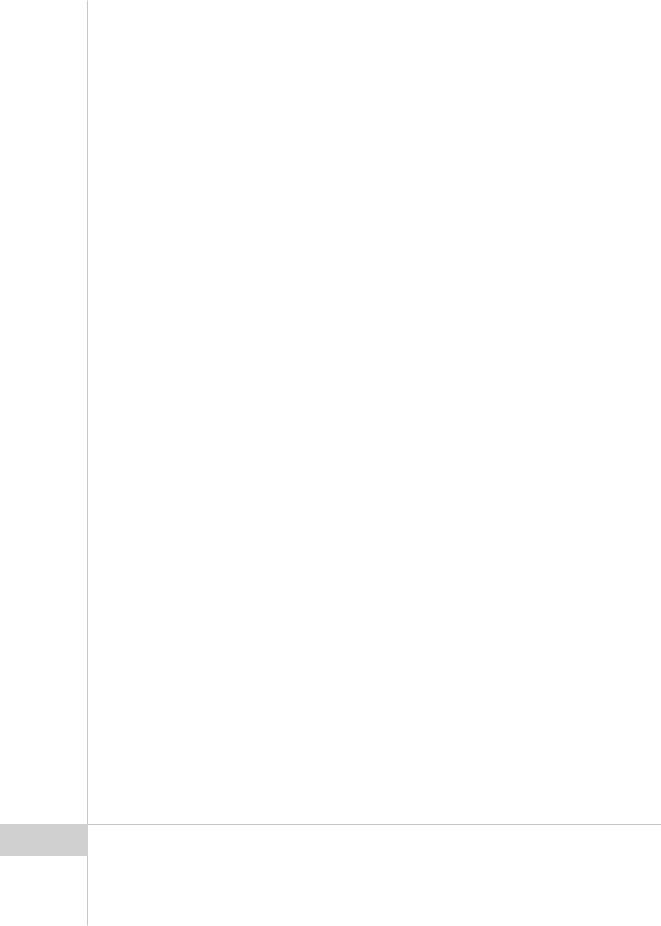
302
Т.О. Проволович • Истоки и направления осуществления институционально-когнитивно-экономического синтеза
к значимым результатам, постольку наиболее эффективной стратегией можно считать поиск способа синтеза предшествующих рациональных исследований и современных нерациональных.
Экономический агент между рациональностью и иррациональностью
Как мы уже упоминали, основная линия напряжения (которая одновременно является явной демаркационной линией) в спорах между рационалистами и иррационалистами проходит относительно основополагающего допущения классического принципа рациональности. Идеализированное классическое представление об экономическом агенте и его выборе предполагает, что индивид стремится к максимизации полезности и избеганию возможных рисков. Сторонники данного тезиса полагают, что только такое представление об экономическому агенте позволит строить формализованные модели, которые необходимы для точных прогнозов (Капелюшников, 2020. С. 36). Таким образом, классическое представление о рациональности экономического агента не подразумевало реалистичной, антропоморфной онтологии, поскольку имело исключительно инструменталистский (было направлено лишь на разработку методологического аппарата), а не дескриптивный характер (Кошовец, 2022. С. 221). Когда на рубеже веков в экономические исследования стали проникать данные и представления о человеке и его поведении из наук, для которых проблема объяснения поведения является не второстепенной, а главной проблемой и задачей (в первую очередь, психология и биология) произошла актуализация исследований экономического поведения в сторону пересмотра базовых постулатов. В результате стали появляться возможные варианты синтеза экономики и подходов из этих дисциплин, меняющих не только основные, но и методологические, а вслед за ними и онтологические представления об экономическом выборе (но и не только экономическом) и факторах, на него влияющих.

С одной стороны, появление новых синтетических подходов происходило эволюционным путем, через ограниченную рациональность (Саймон, 1993. С. 16–38) к иррациональности (Талер, 2020. С. 34–35). С другой – нельзя утверждать, что концепт иррациональности закрепился в экономических исследованиях и вошел в дискурс ученых-экономистов. Если идея о необходимости учитывать при построении моделей не полную, а ограниченную рациональность относительно приемлема для экономических подходов, то иррациональность представляется излишней и опасной, поскольку не вписывается в методологический аппарат (возникает проблема учета в экономических моделях всего множества нерациональных факторов). Поэтому первоочередной задачей является наиболее полное описание и классификация тех факторов, которые иррационализируют поведение агента.
Реализация данной задачи должна быть сопряжена с разъяснением как онтологических, так и методологических аспектов исследования экономического поведения. Как уже было упомянуто, классический принцип рациональности не предполагает какой-либо онтологии, поскольку является лишь идеализированной, абстрактной моделью. Но из-за отсутствия или пренебрежения онтологическим анализом возникает и непонимание, и столкновение разных способов репрезентации поведения экономического агента. Каждый из подходов (рациональный, ограниченно рациональный и иррациональный) опирается на собственное, явно не обозначаемое, интуитивное представление об агенте, тем самым задавая границы предметного содержания. Опираясь на классический принцип рациональности, экономисты заранее ограничивают себя в способе отображения экономического агента, предполагают, что все «аномалии» в экономическом поведении являются несущественными для построения прогноза, они лишь исключение из общего правила наиболее рационального поведения. Концепт ограниченной рациональности не произвел радикального изменения в представлении об агенте. Ограниченная рациональность лишь явно артику-
303
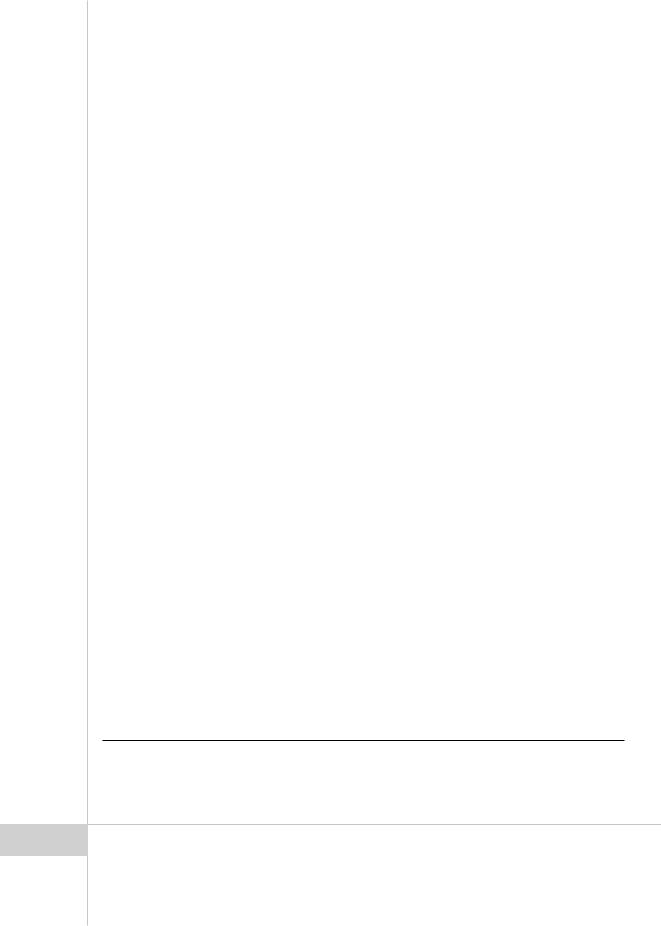
304
Т.О. Проволович • Истоки и направления осуществления институционально-когнитивно-экономического синтеза
лировала наличие «погрешностей» в экономическом поведении, но сохранила общий вектор к принципу рациональности, т. е. сведение нерациональных форм к рациональным первоосновам (Талер, 2020. С. 41). А иррациональные подходы6 напротив кроются на совершенно иных основаниях. Они активно используют экспериментальную методологию в своих исследованиях. Также для них представляется очевидным, что экономика, как одна их социальных наук, должна представлять экономического агента не только и не столько как математическую модель, но как социальное существо. Таким образом, меняется специфика экономического знания.
В результате в иррациональных подходах объяснение экономического поведения отличается не только онтологически (формализованная онтология заменяется на социально ориентированную) и методологически (с математизации на экспериментирование), но и эпистемологически. Но данная эпистемологическая трансформация не является столь же очевидной как онтологическая и методологическая. Если классическая (традиционная) эпистемологическая программа предполагала «конвенциональную» модель рационального выбора (Капелюшников, 2013. С. 12), то современные эпистемологические программы – либо натурализованную эпистемологию (данная программа реализована в синтезе (привнесении) психологии и экономики в поведенческих исследованиях), либо социальную (поиски истоков рациональности и иррациональности в специфике социальной среды, в которую погружен экономический агент) (Улановский, 2010. С. 279–298). Третья программа может стать способом сопряжения традиционной и натурализованной программы, поэтому ее развитие представляется наиболее перспективной.
Несмотря на то, что натурализованная и социальная эпистемологии могут показаться тождественными, поскольку подразумевают под экономическим агентом реально-
6.На данный момент в науке существует несколько отличных друг от друга иррациональных подходов.
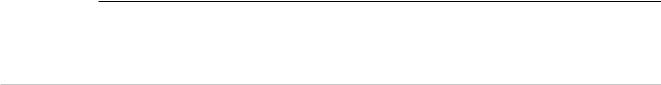
го субъекта, они все же опираются на разные основания. Натурализованная эпистемология, прекрасно реализованная основателями поведенческой экономики Д. Канеманом и А. Тверски, опирается на вскрытие психолого-биологических истоков поведения человека. В большинстве своем поведенческие экономики связывают иррациональные «погрешности» в экономическом поведении с неосознаваемыми мотивами действий, в основе которых не всегда лежит стремление к максимизации выгоды. Проведенные эксперименты (Талер, 2020; Ариели, 2022) выявили отсутствие в поведении людей рационального анализа при совершении экономических действий. Оказалось, что чаще всего испытуемые действуют на рефлекторном (бессознательном) уровне из-за наличия у них когнитивных искажений и лишь ретроспективно могут попытаться найти рациональное обоснование своих действий. В результате вскрытия поведенческими экономистами бессознательных мотивов стали появляться «каталоги иррациональностей», обилие которых не позволяет выстраивать предсказательные модели (Капелюшников, 2013. С. 18). В отличие от натурализованной социальная эпистемология представляет экономического агента не только как субъекта с психологическими качествами, но и как часть социальной реальности, в которую он погружен и с которой он неразрывно связан. Социальная эпистемология не предполагает отказа от классической или натурализованной эпистемологии, но предлагает их дополнение социокультурным компонентом.
Для построения новой7 социальной эпистемологической программы необходим концептуальный анализ понятия иррациональности. Если принцип рациональности имеет строгие границы применения (Camerer, 2003. Pр. 1214–1215), то понятие иррациональности используется для обозначения множества неочевидных для внешнего наблюдателя поведенческих реакций экономического агента. Как мы уже упоми-
7.Новой для решения проблемы (ир)рациональности экономического агента, но не для соци- ально-гуманитарных наук в целом.
305
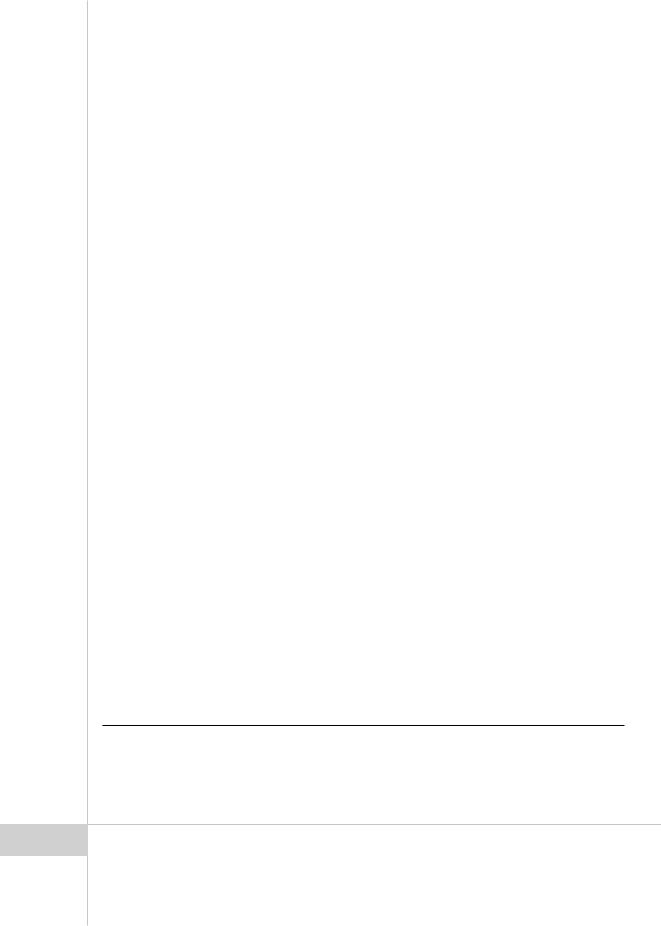
306
Т.О. Проволович • Истоки и направления осуществления институционально-когнитивно-экономического синтеза
нали, выделенные поведенческой экономикой когнитивные факторы предопределяют на бессознательном (дорефлексивном8) уровне поведение агента в ситуации неопределенности. Но появляется вопрос, откуда возникает данная бессознательная предопределенность. Если натурализованная эпистемология предполагает врожденность когнитивных искажений, а значит и иррациональность экономического выбора, то социальная эпистемология – что иррациональность не предзадана «природой», а является результатом закрепления на когнитивном уровне социального взаимодействия агентов. Таким образом, социальная эпистемология дополняет натурализованную объяснением появления иррациональных мотивов и показывает неразрывную связь между экономикой, психологией, социально-культурным контекстом. Но социальная эпистемология нуждается в методологическом и концептуальном анализе, поскольку ее основное представление о соци- ально-экономическом агенте должно предполагать методы
испособы познания (вероятнее всего, экспериментальные исследования пока остаются наиболее валидными) и схему связи между когнитивным бессознательным уровнем агента
исоциальной средой, т. е. теоретическое объяснение способа закрепления социального опыта на бессознательном уровне.
Первоочередным шагом в поиске способа объяснения данной связи является разграничение рационального (сознательного) и иррационального (рефлекторного, бессознательного) поведения. Данное разграничение необходимо для классификации факторов, влияющих на экономическое поведение. С одной стороны, поведение экономического агента
иего выбор зависят от того в каком из состояний (рациональном или иррациональном) находится агент. С другой – необходимо выделить те факторы, которые не являются биологическими (но могут быть связаны или закреплены в мозге), но которые могут предопределять поведение агента вне зависи-
8.Упомянутый ранее термин «рефлекторный» обозначает автоматические, неосознаваемые (бессознательные) действия. А под термином «рефлексивный» мы предлагаем понимать сознательное (осознаваемое) поведение.

мости от того, в каком состоянии он находится. В результате нового способа классификации может быть обозначен вектор на новую методологическую программу, включающую не только формализованные практики моделирования (Вольчик, 2014. С. 6–12), но и, например, экспериментальные (Ариели, 2022), нарративные (Вольчик, 2017. С. 132–144), дискурсивные (Вольчик, 2020. С. 49–69; Ефимов, 2011. С. 5–79) и др.
Важным этапом для реализации новой социальной эпистемологической программы является учет социальнокультурной среды. Признание важности средовых факторов связано, во-первых, с нейрофизиологическими исследованиями, показывающими закрепление в мозге (а значит, и последующее влияние) опыта социального взаимодействия (в отличие от нейроэкономических проектов предлагается обнаружение исключительно корреляционнных, а не кау- зально-физикалистских связей (Koshovets, Varkhotov, 2019. Pр. 6–19; Кошовец, 2022. С. 225–229)). Во-вторых, средовые факторы определяют способ интерпретации (сознательного восприятия) субъектами внешних ситуаций, на основе которого осуществляется выбор. Средовые факторы могут влиять как на экономическое поведение конкретного индивида, так и на модели поведения и способы принятия решений в сообществе. Поэтому из множества факторов, влияющих на поведение человека, необходимо выделять такое подмножество факторов, влияющих на конкретного субъекта, которые могут не учитываться в статистических прогнозах поведения социальной группы.
Социально-когнитивная (ир)рациональность
«Включение» в поведенческие исследования средовых факторов связано с тем, что и классические, и поведенческие подходы сталкиваются с рядом затруднений: необходимо выявить причины вариативности потребления, прояснить появление иррациональных мотивов в экономическом поведении и определить переход агента из рационального состояния в иррациональное и наоборот (Седова, 2020. С. 251–252).
307
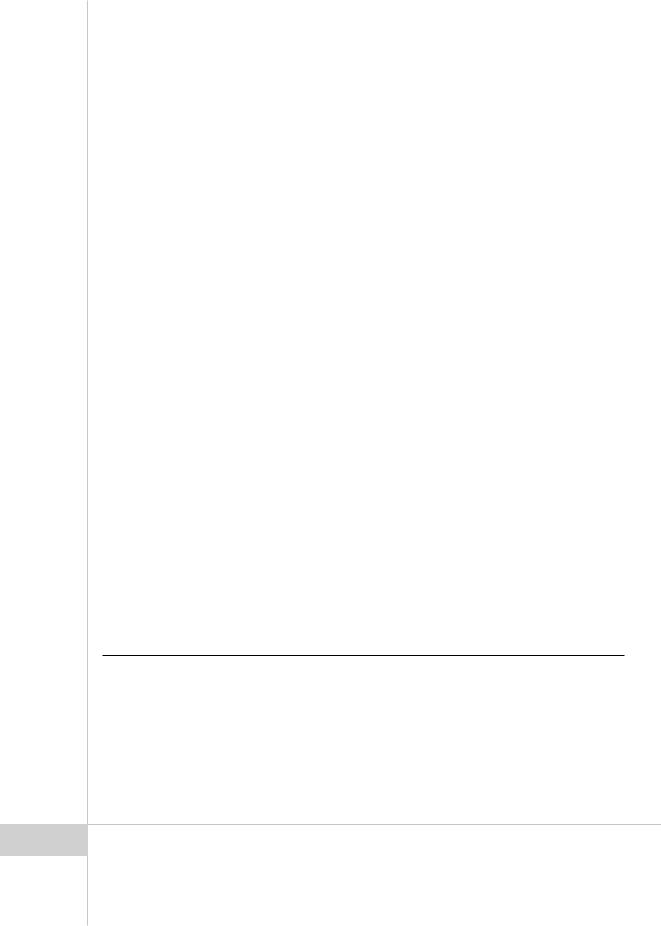
308
Т.О. Проволович • Истоки и направления осуществления институционально-когнитивно-экономического синтеза
Поскольку данные затруднения не удается разрешить средствами экономического анализа, мы обратимся к современным нейронаучным и институциональным исследованиям, с помощью которых они поддаются объяснению.
Одновременно с поведенческой экономикой на стыке социальных и нейробиологических исследований начала оформляться социальная когнитивная нейробиология. Появление данной области связано, в первую очередь, с исследованиями нейробиологов по поводу закрепления поведенческих реакций на нейрофизиологическом уровне. Несмотря на то, что исследования в области социальной когнитивной нейробиологии проводятся уже несколько десятилетий9, они пока носят несогласованный характер. Но благодаря усилиям по систематизации имеющихся нейробиологических данных американским нейропсихологом М. Либерманом можно констатировать появление нового способа объяснения связи между социальным, ментальным (психологическим) и нейробиологическим уровнями. В одной из своих первых работ он описал схему-связь между этими тремя уровнями. Вступая в социальное взаимодействие, участники приобретают социальный опыт, который Либерман называет неявным обучением: «Интуиция является феноменологическим и поведенческим коррелятом знаний, полученных в результате неявного обучения» (Lieberman, 2000. P. 110). Для того, чтобы этот социальный опыт закрепился у человека на когнитивном10 уровне, происходит неявное обучение, которое в свою очередь закрепляется в базальных ганглиях. Таким образом, базальные ганглии являются нейроанатомической основой как неявного обучения, так и социальной интуиции.
9.Историю появления социальной когнитивной нейробиологии (social cognitive neuroscience) относят к 1990-м гг., хотя смежные исследования мозга проводились ранее, и начиная с 1980-х гг. был накоплен значительный объем данных о его работе (Lieberman, 2012. P. 432–436).
10.Под данным понятием мы понимаем внутренние ментальные, т. е. психические процессы. Данное понимание тесно сопряжено с категориальным аппаратом социально-когнитивной нейробиологии. Более полное и подробное изложение основных положений представлено в работе (Lieberman, 2007. Pp. 259–289).

Важно отметить, что данная схема связи между тремя уровнями (социальным, когнитивно-психологическим и нейробиологическим) предполагает не редукционистское сведение (восходящая схема от более низшего уровня к более высшим) всех процессов к нейрофизиологическим, а напротив – нисходящую схему перехода от явлений более высокого порядка (социальных) к низшим (нейрофизиологическим). В результате нейробиологические процессы становятся не причиной действия людей в социуме, а местом репрезентации социального опыта. Участвуя в социальном взаимодействии, его участники получают определенный опыт, который по мере его накопления и воспроизводства закрепляется на когнитивном и нейробиологическом уровнях и постепенно переходит в разряд автоматического, рефлекторного поведения. Поэтому причиной иррационального, неосознаваемого поведения в экономике может быть закрепленный предшествующий опыт экономического взаимодействия. Необходимо отметить, что тип связи между этими тремя уровнями не является однотипным. Связи между социальным и нейрофизиологическим уровнями являются опосредованными, а между социальным
икогнитивным (ментальным) и когнитивным (ментальным)
инейробиологическим – непосредственными, и поэтому наблюдаются транзитивные типы связи между социально-эко- номической и нейрофизиологической реальностью.
Данный подход является дополнением к поведенческим исследованиям поскольку показывает, что поведенческие ошибки являются не просто когнитивными, которые присуще «природе» человека, а следствием нейрофизиологического закрепления социального опыта (по аналогии с условными рефлексами опыта моторных действий, которые закрепляются на моторных нейронах). Дополняющим (косвенным) подтверждением данного тезиса являются исследования, которые показывают связь между социально-экономическими факторами социальной среды индивида (например, доход родителей, собственный доход и т. д.) и уровнем когнитивной активности (Jednorog et al., 2012. P. 5). Чем благоприят-
309
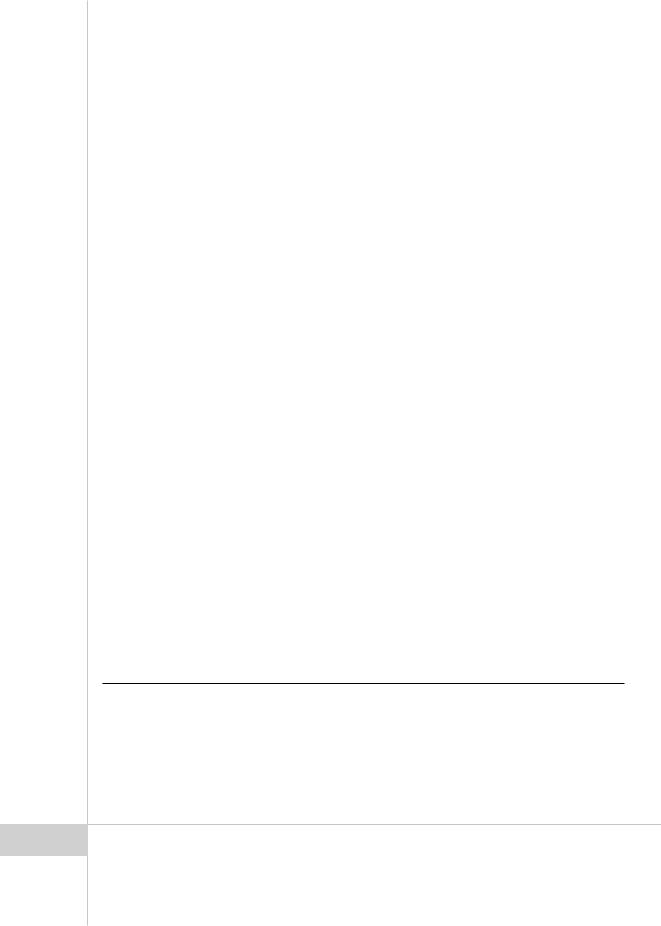
310
Т.О. Проволович • Истоки и направления осуществления институционально-когнитивно-экономического синтеза
нее социально-экономическая среда, тем больше существует условий и возможностей для индивида для развития своих когнитивных способностей, но вместе с их развитием на нейробиологическом уровне закрепляется связь между тем, в каких условиях существует индивид и тем, как он поступает.
Второй областью исследования, подтверждающей необходимость учета социально-культурного фактора при прогнозировании экономического поведения, является теория поведенческого дизайна. Данный подход, как и предшествующие исследования, также является новой областью анализа, но его отличия от социальной когнитивной нейробиологии заключаются в анализе исключительно психологического уровня закрепления поведения и поиске способа изменения поведенческих привычек. Поведенческий дизайн предполагает, что автоматические действия (рефлекторные, т. е. иррациональные), которые обозначаются как привычки, являются следствием предыдущего многократно повторенного опыта (Neal, Wood, Quinn, 2006. Pp. 198–202). Для изменения автоматического действия, привычки исследователи предлагают разложить последнюю на составные элементы: определить, когда и при каких обстоятельствах она появилась, например, привычка каждодневной покупки кофе по дороге на работу; определить триггер, который вызывает привычное поведение, например, ощущение слабости и сонливости по пути на работу; отслеживать автоматические действия для выработки новой привычки взамен предыдущей, например, небольшая прогулка на свежем воздухе перед рабочем днем для получения необходимого количества энергии вместо рефлекторной покупки кофе11. Подход, предложенный поведенческим дизайном, можем стать способом объяснения появления
11.Пример с кофе выбран не случайно, поскольку продолжительное его употребление вырабатывает нейрофизиологическую зависимость от кофеина. Поэтому данная привычка является как социальной – осуществлять однотипные действия с определенной регулярностью, так и физиологической. Но для ее изменения на обоих уровнях необходимо сознательно (отслеживая собственные действия) заменить одну неявную привычку иной, специально выбранной.
