
Учебники / Уголовное право / 388- Уголовное право. Особенная часть_отв ред Козаченко И.Я_2008 -1008с
.pdf
конодательству. В нем впервые выделялись Общая и Особенная части. В последней все наказуемые деяния классифицировались на: преступления против веры; государственные преступления; преступления против правительства; преступления чиновников по службе; против безопасности, жизни и прав общественного состояния лиц; преступления, нарушающие различного рода уставы (о повинностях, казенного управления, благоустройства); против семьи; половые и имущественные преступления; лживые поступки. С изданием Свода законов началась разработка
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, проект которого был утвержден в 1845 г.
Характеризуя кратко Особенную часть данного Уложения, отметим, что она строилась на многоуровневом принципе организации материала; разделы, главы, часто — отделения, иногда — отдельные группы. При этом определенный смысл обнаруживается в последовательности расположения разделов Особенной части. Первое место традиционно занимал раздел, именуемый «О преступлениях против веры и нарушении ограждающих оную постановлений». Следует заметить, что в отличие от Артикула воинского, признававшего клятвопреступление посягательством на интересы правосудия, в Уложении среди многочисленных глав данного раздела («О богохулении и порицании веры», «Об отступлении от веры и постановлений церкви», «Об оскорблении святыни и нарушении церковного благочиния», «О святотатстве, разрытии могил и ограблении мертвых тел») находилась также глава «О лжеприсяге». Далее следовал раздел об ответственности за государственные преступления, который охватывал посягательства не только на жизнь, здоровье и честь императора, выступления против существующего строя (бунт) и государственную измену, но и так называемые преступления против народного права (например, против некоторых других государств, их представителей). Вместе с тем, определяя термин «преступления государственные», законодатель формально не включал в его содержание наказуемые деяния, нарушающие интересы государственной казны, порядка управления, гражданской и воинской службы, правосудия и т. п. Если в целом при конструировании составов преступлений против веры и государства законодатель в большей мере ориентировался на принципы, используемые при подготовке Соборного уложения 1649 г. и Артикула воинского, то при разработке статей о наказуемости деяний против общества — на
Наказ Екатерины II. В связи с этим указанные статьи распределялись по двум разделам, нормы одного из которых («О преступлениях и проступках против общественного благоустройства и благочиния») были направлены на уголовно-правовую охрану здоровья населения, общественного порядка, общественной нравственности, торговой и промышленной деятельности, другого («О преступлениях и проступках против законов о состояниях») — на криминализацию деяний, касающихся семьи (в частности, похищение или подмена малолетних), рабства (продажа в рабство и участие в торге неграми), порядка получения и пользования сословными преимуществами (званиями, титулами) и т. д. В заключительных разделах Уложения о наказаниях содержались статьи, защищающие блага частных лиц: в первом разделе — принадлежащие всякому физическому лицу жизнь, здоровье, честь, достоинство, свободу, спокойствие; во втором — члену семьи (супругу, детям и родителям) или родственнику (в случаях кровосмешения); в третьем — владельцу имущества (завладение, уничтожение, похищение чужой собственности) или имущественных прав (нарушение имущественных обязательств). Таким образом, положив в основу четырехчленное исходное деление защищаемых интересов — религии, государства, общества, отдельных лиц, — Уложение о наказаниях придерживалось аксиологического подхода в расположении основных видов преступлений.
На момент своего принятия Уложение о наказаниях включало 2304 статьи, что в четыре—семь раз превышало по объему уголовные кодексы многих зарубежных государств. Подавляющее большинство этих статей относилось к Особенной части. Однако отсутствие в Уложении четкого разграничения преступлений и проступков, объемность этого акта послужили причинами принятия в 1864 г. Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, а также разработки и утверждения Уголовного уложения 1903 г. Это Уложение устанавливало 36 видов преступлений, каждому из которых была посвящена отдельная глава. Вместе с тем в Особенной части нового Уложения не было главы, специально посвященной государственным преступлениям (преступлениям против государства). Данное обстоятельство скорее всего объясняется тем, что с таковыми законодатель увязывал не один, а несколько видов преступлений, именуемых: 1) «О бунте против Верховной Власти и о преступных деяниях против Священной Особы Императора и Членов Императорского Дома»;

2) «О государственной измене»; 3) «О смуте»; 4) «О неповиновении власти»; 5) «О противодействии правосудию»; 6) «О нарушении постановлений о воинской и земских повинностях». Во всяком случае, будучи рядом расположенными, указанные главы Особенной части этого Уложения, по сути дела, оказались обособленными как от статей, предусматривающих наказание за нарушение постановлений о вере, так и от статей, устанавливающих основания ответственности за нарушение постановлений, касающихся народного здравия, общественной и личной безопасности, народного благосостояния, общественного спокойствия, общественной нравственности и др. Примечательно, что в проекте Уголовного уложения среди последних предлагалось поместить и посягательства религиозного характера,
т.е. считать их преступлениями против общества. Однако эта рекомендация не была принята и соответствующие статьи были включены в первую главу Особенной части. Анализ данного Уложения позволяет обнаружить сходство в объектах уголов- но-правовой защиты в таких главах, как: «О лишении жизни», «О телесных повреждениях и насилии над личностью», «О поединке», «Об оставлении в опасности», «О преступных деяниях против личной свободы», «О непотребстве», ибо все это непосредственно затрагивает личные неотчуждаемые блага. Указанные главы вместе с двумя другими («Об оскорблении» и «О разглашении тайн»), в которых в качестве потерпевших признавались как физические, так и юридические лица в конечном счете посягали на частный интерес. Если в Уложении 1845 г. в рамках данного вида выделялись также преступления против частной собственности, в Уложении 1903 г. предусматривалось уже наказуемость за преступления против чужой собственности,
т.е. объект посягательства имел более широкий смысл. Это позволило отнести статьи о них к заключительной группе глав Особенной части, в которых речь шла о деяниях, способных причинять вред разным интересам: частным, общественным, государственным (казенным). Помимо имущественных посягательств (повреждение, присвоение, похищение чужого имущества, так называемая недобросовестность по имуществу, самовольное пользование им), данный вид деяний охватывал и преступления, совершаемые по службе государственной и общественной. Таким образом, несмотря на то что законодатель фактически не закрепил деление посягательств на преступления против веры, против государства и общества, преступления
против частных лиц, преступления «смешанного характера» (т. е. преступления, вред от которых может причиняться любому из названных объектов уголовно-правовой охраны), он за счет унификации составов преступлений значительно сократил их общее количество.
Можно спорить о принципах построения системы Особенной части Уголовного уложения 1903 г., но в любом случае она была более логичной, чем системы уголовных законов многих зарубежных государств того периода. Так, довольно широкое распространение в них получил подход, предложенный в УК Франции 1810 г., где за основу был взят принцип двухчленной систематизации составов преступлений. В соответствии с ним они классифицировались на преступные деяния против публичного строя и деяния, направленные против частных лиц: первые объединяли посягательства на безопасность государства (внешнюю и внутреннюю) и преступления против прав гражданства, правосудия, общественного спокойствия, интересов службы и т. д.; вторые — преступления против личности и собственности. Такой подход приводил к тому, что зарубежное уголовное законодательство было вынуждено слишком часто отступать от принятого деления преступных деяний при очередном определении места расположения статей, предусматривающих ответственность за преступления, например, против авторских и изобретательских прав и др.
Советская уголовно-правовая доктрина объявила неприемлемыми принципы буржуазного права вообще, в том числе ранее выработанные принципы построения Особенной части уголовного закона. Первый УК РСФСР (1922 г.) отказался вообще от наказуемости преступлений против веры, предусмотрев ответственность за нарушение правил отделения церкви от государства. Ориентируясь в наименовании и в последовательности расположения материала Особенной части больше на Уложение о наказаниях 1845 г., чем на Уголовное уложение 1903 г., советский законодатель счел наиболее опасными контрреволюционные преступления и преступления против порядка управления, объединив оба этих вида деяний в главе «Государственные преступления». Вслед за ней шли главы о должностных (служебных) преступлениях, нарушении правил об отделении Церкви от государства, хозяйственные преступления. Далее законодатель формулировал статьи, предусматривающие наказуемость посягательств на жизнь, здоровье, свободу и достоинство

личности. Аналогичные приоритеты были положены в основу конструирования глав «Имущественные преступления» и «Нарушение правил, охраняющих народное здравие, общественную безопасность и публичный порядок». Между этими главами располагалась новая, ранее не упоминавшаяся в отечественном законодательстве, глава «Воинские преступления». Указать ка- кое-либо единое, исходное начало системы Особенной части УК РСФСР 1922 г. не представляется возможным, тем более что нередко содержание статей, объединенных в отдельные главы, мало согласовывалось с их наименованием.
Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. не только не исправил ситуацию, но и из-за постоянно вносимых в него дополнений, не учитывающих уже закрепленную структуру Особенной части, еще больше усугубил положение. Первоначально, например, лишь глава «Преступления воинские» законодателем рассматривалась как заключительная, но затем появилась еще одна: «Преступления, составляющие пережитки родового быта». Отнюдь не в лучшую сторону изменилась и точка зрения законодателя на понятие государственных преступлений: после принятия в 1927 г. специального положения о них часть преступлений против порядка управления («особо для СССР опасных») была признана разновидностью государственных преступлений, а часть — нет. Сходная тенденция вскоре начала проявляться в отношении преступлений против социалистической собственности, с той лишь разницей, что одни из них считались имущественными преступлениями, другие приравнивались к государственным, а третьи вообще не были включены в систему Особенной части УК РСФСР 1926 г. и регламентировались специальными законами, например Законом от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». Непоследовательная позиция законодателя в решении вопросов принадлежности многих конкретных составов к тому или иному нормативно закрепленному виду посягательств, отсутствие логики в структуре отдельных глав Особенной части отталкивали ученых от ее исследования в своих работах.
Разработчики УК РСФСР 1960 г. внесли немало нововведений в систему Особенной части уголовного закона: впервые были сформулированы в качестве самостоятельных видов преступления против правосудия и против политических и трудовых
прав граждан. Две самостоятельные разновидности приобрели имущественные посягательства (преступления против социалистической и личной собственности); были переосмыслены родовые характеристики многих конкретных составов (хулиганства, покупки заведомо похищенного и т. д.); унифицирован ряд статей, в том числе предусматривающих ответственность за нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви; уточнен порядок расположения статей в каждой главе Особенной части; расширены основания ответственности за отдельные виды деяний (преступления против природы, транспортные преступления и др.); криминализированы отдельные виды возможных посягательств на мир и безопасность человечества; изменено место нахождения глав «Хозяйственные преступления» и «Воинские преступления»; исчез принцип аналогии закона и т. д. Вместе с тем разработчиками УК РСФСР 1960 г. не был решен и даже не обсуждался главный вопрос построения системы Особенной части: об отправном, наиболее общем делении всех предусматриваемых составов преступлений.
Еще в первые годы своего существования советская уголов- но-правовая доктрина провозгласила неприемлемость многих буржуазных институтов, в том числе непосредственно касающихся принципов исходного, первичного деления посягательств по их направленности против личности, общества и государства. С одной стороны, советская уголовно-правовая наука анализировала виды преступлений, вычленение которых так или иначе связывалось с представлениями о соотношении личности и общества, общества и государства, а с другой — отвергала классификации преступлений по их направленности по причине недопустимости противопоставления в условиях социализма личных и общественных интересов. Такой подход не позволял четко разработать методологические основы систематизации материала Особенной части. Предлагавшиеся взамен этого абстрактные рассуждения об объекте преступления как критерии такой систематизации, разграничении объекта посягательства на общий, родовой и непосредственный не могли служить исходными началами для вычленения составов преступлений в качестве самостоятельных видов, правильного уяснения их сути, взаимосвязи с другими видами и местонахождения соответствующих статей в структуре Особенной части УК. Если при конструировании Уголовных кодексов 1922 и 1926 гг. законодатель
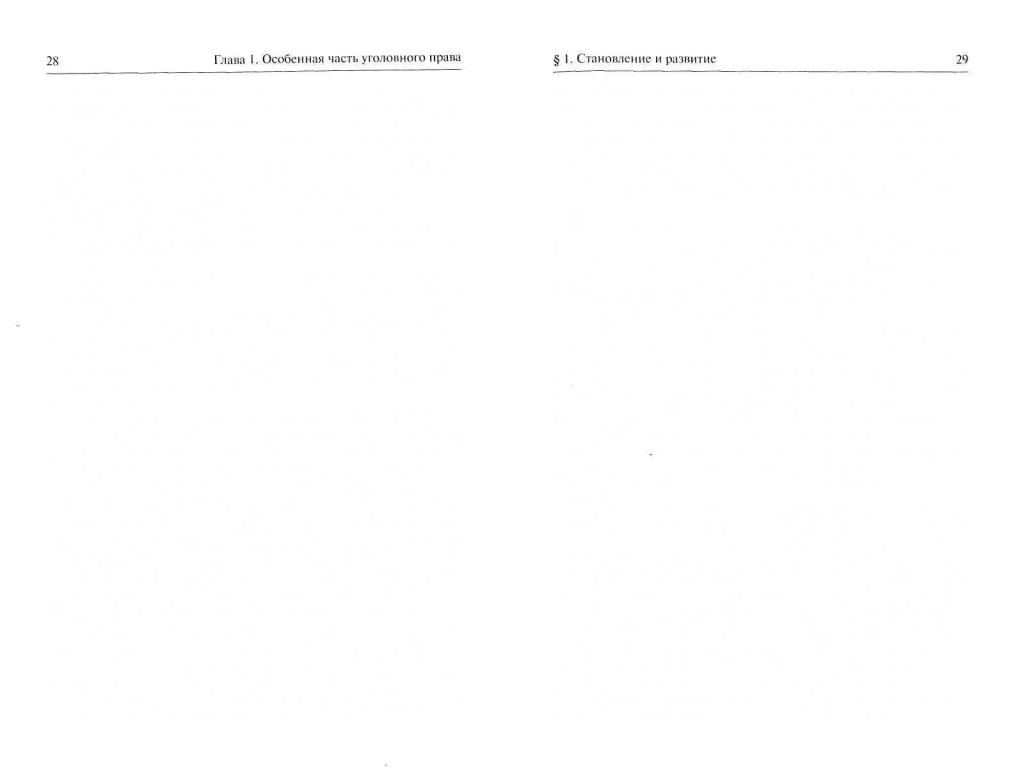
(пусть и не совсем последовательно) еще как-то использовал принцип дихотомического деления наказуемых деяний на: «а) направленные против основ советского строя, установленного в Союзе ССР волею рабочих и крестьян, и потому признаваемые наиболее опасными; б) все остальные преступления», то при разработке УК РСФСР 1960 г. и такого рода основание потеряло свое значение и было использовано лишь для систематизации статей, предусматривающих ответственность за государственные преступления. Пожалуй, лишь представлениями законодателя о типовой опасности видов посягательств можно объяснить принятую им последовательность расположения глав Особенной части.
С точки зрения конструкции Особенной части ныне действующий Уголовный кодекс РФ 1996 г. во многом отличается от советского уголовного законодательства. Не касаясь всех деталей (о них пойдет речь при характеристике отдельных видов посягательств), укажем на два принципиально важных момента, один из которых непосредственно касается различных уровней деления составов преступлений, а другой — последовательности расположения вычленяемых на разных уровнях видов преступлений.
В первом случае обратим внимание на то, что в статьях Общей части Уголовного кодекса достаточно четко закреплена классификация всех деяний, объявляемых преступными, на преступления, опасные для: 1) личности, 2) общества или 3) государства (ч. 2 ст. 2). Полагаем, в данном случае речь идет об основных типах посягательств, в рамках которых различаются виды посягательств. Такое деление нашло свое отражение в наименованиях разделов Особенной части: «Преступления против личности» (разд. VII), «Преступления в сфере экономики» (разд. VIII), «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» (разд. IX), «Преступления против государственной власти» (разд. X), «Преступления против военной службы» (разд. XI), «Преступления против мира и безопасности человечества» (разд. XII). Непосредственно в УК РФ не раскрывается, какие именно виды посягательств (разделы Особенной части) образуют содержание каждого из перечисленных в ст. 2 УК РФ типов преступлений против: личности; общества; государства. Более того, рассуждая с формальных позиций, можно упрекнуть здесь законодателя в определенной непоследовательности. И действительно, элементарная логика позво-
ляет сделать однозначный вывод о том, что нельзя, не вступая в противоречие с требованиями теории классификации, один и тот же член деления (преступления против личности) рассматривать составной частью одновременно как трехчленного (указанного в Общей части), так и шестичленного (подразумеваемого разделами Особенной части) деления. Однако все это вовсе не исключает необходимости «привязки» разделов (видов преступлений) к первичному делению посягательств на их типы.
Надо полагать, что со временем отечественная уголов- но-правовая наука выработает определенную позицию в решении этого вопроса. Что же касается законодателя, то его взгляд на данную проблему более или менее очевиден лишь в отношении принадлежности преступлений против личности (разд. VII) к первому типу посягательств: преступления, опасные для личности. С некоторой долей условности можно сказать, что в качестве вида посягательств данного типа преступлений исходя из УК РФ можно рассматривать посягательства на: жизнь и здоровье (гл. 16); свободу, честь и достоинство личности (гл. 17); половую неприкосновенность и половую свободу личности (гл. 18); конституционные права и свободы человека (гл. 19); семью и несовершеннолетних (гл. 20). Каждый из перечисленных видов в свою очередь имеет разновидности (например, преступления против жизни, преступления против свободы), а они — более мелкие группы (к примеру, преступления против жизни включают в себя умышленные и неосторожные деяния).
Сложнее решается вопрос о том, какие именно виды преступлений имеет в виду законодатель под деяниями, образующими
второйтип посягательств: преступления, опасныедля общества.
Казалось бы, в их число следовало бы включить деяния, предусмотренные следующими двумя разделами Особенной части: «Преступления в сфере экономики» и «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка». Принадлежность последнего вида посягательств к преступлениям, опасным для общества, больших сомнений не вызывает и, стало быть, видами таковых нужно признавать преступления против общественной безопасности (гл. 24), преступления против здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25), экологические преступления (гл. 26), преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта (гл. 27) и

преступления в сфере компьютерной информации (гл. 28). Совсем иначе обстоит дело с уяснением возможности рассмотрения в качестве деяний, опасных для общества, посягательств, признаки которых содержатся в разделе «Преступления в сфере экономики». Уголовный кодекс РФ данный вопрос оставляет открытым. Нет однозначного ответа на него и в юридической литературе, в которой чаще всего ранее речь шла лишь о преступлениях против собственности и при этом они характеризовались то как преступления против частных лиц (преступления против частных интересов), то как преступления против общества (преступления против публичных интересов).
Если ориентироваться на Уголовный кодекс РФ, то третий тип посягательств — деяния, опасные для государства, вне всякого сомнения образуют такие, которые включены в раздел X «Преступления против государственной власти». Обращает на себя внимание, однако, то, что данное название раздела явно требует более широкой формулировки, ибо оно оказывается более узким даже по сравнению с наименованием одной из его глав: «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». Надо полагать, что этот раздел должен обозначаться несколько иначе: «Преступления против государства». Но если это так, то помимо традиции, сохраняющейся со времен Петра I, нет никаких оснований для перечисления преступлений против военной службы в самостоятельном разделе и исключения тем самых последних из числа видов преступлений против государства. В итоге видами преступлений против государства можно назвать преступления: против основ конституционного строя (гл. 29), против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30), против правосудия (гл. 31) и против порядка управления (гл. 32), а также преступления против военной службы (гл. 33).
Сообразуясь с логикой упомянутой классификации всех посягательств на деяния, опасные для личности, общества или государства, одним из видов преступлений против государства следовало бы признавать преступления против мира и безопасности человечества (разд. XII УК РФ). Представляется, что такой подход вряд ли заслуживает поддержки, поскольку посягательства на мир и безопасность человечества предполагают свой объект уголовно-правовой охраны. Специфика их направленно-
сти, исключительно высокий уровень общественной опасности, международно-правовой характер решения вопросов об основаниях ответственности и т. п. позволяют утверждать, что такие деяния составляют четвертый тип преступлений, самостоятельный по отношению к преступлениям против личности, общества и государства.
Особенности данного типа преступлений, нередко именуемых как международные преступления, требуют уяснения не только их соотношения с иными типами посягательств, но и мотивов, побудивших законодателя поместить статьи об ответственности за преступления против мира и безопасности человечества в заключительном разделе Особенной части Уголовного кодекса РФ. Со времен Соборного уложения 1649 г. была принята такая последовательность основных видов преступлений, которая, как считается, отражала сравнительную ценность объекта уголовно-правовой охраны, причем предпочтение всегда отдавалось защите интересов государства. Разработчики Уголовного кодекса РФ, отказавшись от такой традиции, на первое место выдвинули интересы личности, на второе — общества, на третье — государства, на четвертое — мира и безопасности человечества. Такое решение вопроса в литературе часто связывают с признанием интересов личности высшей социальной ценностью, однако подобного рода объяснение не бесспорно. Если допустить, что именно наибольшей значимостью интересов личности диктуется целесообразность помещения в Особенной части раздела «Преступления против личности» на первом месте, то придется согласиться с утверждением, согласно которому все другие разделы подразумевают: а) какие-то иные, не принадлежащие личности интересы; б) то, что последние характеризуются сравнительно меньшей ценностью. Между тем в Особенной части Кодекса все без исключения разделы, главы и статьи имеют в конечном счете своей целью защиту интересов (благ) личности и вопрос состоит лишь в том, какие из них имеются в виду в каждом конкретном случае и какому кругу лиц они принадлежат: отдельному лицу (индивиду), большому или малому кругу лиц, всему человечеству. Это во-первых. Во-вторых, по меньшей мере, странной выглядит позиция законодателя, считающего, что безопасность отдельной личности имеет приоритет по отношению к безопасности человечества в целом. В этой связи последовательность расположения материала в Особенной части, думается, должна объясняться не аксио-

логическими соображениями, а логикой: от простого к сложному, от причинения вреда отдельному лицу к причинению вреда общества или государству либо человечеству.
§2. Понятие Особенной части уголовного права
Всовременной отечественной уголовно-правовой литературе можно встретить немало вариантов конструирования понятия Особенной части. Если не все, то большинство их в качестве исходного положения закрепляют тезис, согласно которому она представляет собой некоторую совокупность уголовно-право- вых норм. Придерживаясь этой посылки, авторы, к сожалению, не считают нужным приводить аргументы в обоснование своей позиции, считая ее, видимо, очевидной и бесспорной. Между тем как раз в этом отношении существующие ныне определения Особенной части нуждаются в уточнении, ибо в сущности своей основываются на отождествлении статей Уголовного кодекса РФ и содержащихся в нем норм права.
Наиболее отчетливо такое отождествление обнаруживается в случаях, когда речь идет о структуре уголовно-правовых норм, в связи с чем высказывается утверждение, согласно которому их диспозиция и санкция предусматриваются Особенной частью, а гипотеза в целях экономии законодательно-технических средств и компактности Уголовного кодекса РФ вынесена в Общую часть. Вопрос о том, могут ли именоваться нормой ее отдельные структурные элементы, остается при этом без ответа. Точно так же обходят его и авторы, придерживающиеся иных трактовок взаимосвязи Общей и Особенной частей УК РФ. Так, полагая, что положения Общей части не являются общими для норм Особенной части по той причине, что их содержание, предусматривающее конкретный состав преступления, одновременно формируется из признаков, закрепленных в статьях Общей и Особенной частей уголовного закона. Некоторые ученые (А. В. Наумов и А. С. Новиченко) утверждают, что между нормами Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ существует связь не общего, особенного и отдельного, а одного общего понятия (норма Общей части) с другим общим понятием (норма Особенной части), совокупность которых дает нам содержание и объем третьего общего понятия — понятия применяемой уголовно-правовой нормы, предусматривающей конкретный состав преступления. Примечательно, кстати, и то,
что, говоря о статьях Особенной и Общей частей, в отношении первых стало общепринятой экстраполяция на них представлений о структуре норм права, т. е. выделение в таких статьях диспозиции и санкции, а в отношении вторых — статей Общей части — по сути дела отказ от структурно-элементного их анализа.
Обстоятельный анализ всех аспектов соотношения нормы права и статей Уголовного кодекса РФ — проблема, требующая своего рассмотрения в рамках учения об уголовном законе. Тем не менее применительно к понятию Особенной части не будет лишним сделать акцент на том, что всякая правовая норма есть компонент права и, стало быть, определение ее понятия и структуры (гипотезы, диспозиции, санкции) должно осуществляться с учетом задач и функций, выполняемых нормой в механизме регулирования общественных отношений. Так как эти задачи и функции являются едиными для Общей и Особенной частей, то видеть в этих частях взаимосвязь разных видов уго- ловно-правовых норм нет никаких оснований. В отличие от норм статьи уголовного закона есть внутреннее подразделение нормативного правового акта, отражающее логически обособленную часть его текста и включающее одно или несколько (в большинстве случаев сложных) предложений, членами которых, как известно, служат подлежащее, сказуемое, определение, дополнение и обстоятельство. Эти члены предложения, а также наименование, примечание, выделяемые части, пункты, абзацы и т. п. и есть структура статей нормативного правового акта, которые в свою очередь выступают структурными образованиями, объединяемыми в ныне действующем законодательстве в главы, а последние — в разделы. В аналогичной плоскости осуществляется группировка разделов Кодекса, вследствие чего формируются части Общая и Особенная, играющие роль элементов первичного деления кодифицированного материала. Если, однако, Общая и Особенная части, разделы, главы и статьи уголовного закона лежат в одной и той же плоскости группировки законодательного материала, то вывод может быть только один: обе части Уголовного кодекса представляют собой разные совокупности не уголовно-правовых норм, а статей уголовногозакона.
Отмечая недопустимость отождествления статей Особенной или Общей части с уголовно-правовыми нормами, нельзя впадать в крайность иного рода: противопоставлять одно другому.

В Особенной части нет и не может быть статей, которые могли бы применяться независимо от статей Общей части. Аналогичное нужно сказать и относительно последней, положения которой также не имеют самостоятельного регулятивного значения. Обращая внимание на это, некоторые авторы объясняют неразрывную связь Общей и Особенной частей обычно тем, что обе они являются внутренними подразделениями одного и того же целого — Уголовного кодекса — и, следовательно, содержание любой их них обусловливается решением единой задачи. С такого рода соображениями, безусловно, можно согласиться, но лишь при условии, что имеется в виду характеристика всех статей Особенной и Общей частей. Но могут ли данные соображения служить достаточным основанием для объяснения причин, по которым применение отдельных уго- ловно-правовых норм требует учета соответствующих статей Особенной и Обшей частей Уголовного кодекса? Конечно, нет, поскольку все без исключения уголовно-правовые нормы призваны служить решению одной и той же задачи — охраны интересов личности, общества и государства, однако в каждом конкретном случае применяются лишь некоторые из них. Очевидно, что совместное применение статей Особенной и Общей частей при вынесении решения по отдельному уголовному делу диктуется иными соображениями. Суть их состоит в том, что
статьи Особенной и Общей частей описывают признаки не разных, а одних и тех же уголовно-правовых норм. Иначе говоря, всякая норма уголовного права устанавливается одновременно (совместно) статьями и Особенной, и Общей частей Уголовного кодекса РФ. Именно то, что ни те ни другие сами по себе полностью не раскрывают содержание уголовно-правовой нормы, исключает возможность толкования и применения ее лишь на основе статей какой-либо одной части Уголовного кодекса РФ. Стало быть, с позиций норм уголовного права речь должна идти не о том, что различает, а как раз о том, что объединяет отдельные положения Общей и Особенной частей Уголовного кодекса в единое целое.
Единство, неразрывность Особенной части с Общей, конечно же, не снимает вопроса об их специфике. Но, уясняя ее, нельзя опять же не считаться с тем, что в данном случае находит свое проявление взаимосвязь категорий особенного и общего. К сожалению, и с этой точки зрения существующие ныне определения Особенной части явно небезупречны.
Раскрывая ее понятие, ученые нередко, например, ограничиваются указанием на круг решаемых в ней вопросов, вследствие чего она трактуется как совокупность положений, устанавливающих, какие общественно опасные деяния признаются преступлением и какие наказания может применить суд к лицам, виновным в их совершении. Такое понимание круга вопросов в принципе возражений вызывать не должно, поскольку охватывает собой содержание не только всех статей Особенной части, описывающих основания и пределы ответственности за содеянное, но и примечания к некоторым этим статьям, предусматривающим специальные виды освобождения от уголовной ответственности. Вместе с тем следует иметь в виду, что и статьи Общей части в конечном счете решают вопросы, непосредственно касающиеся преступности и наказуемости деяний, в том числе оснований и видов освобождения от уголовной ответственности. Но если это так, то напрашивается вывод: специфика каждой из частей Уголовного кодекса РФ должна усматриваться не в том, какие они вопросы решают, а в чем-то ином.
Вероятно, именно подобного рода соображения побудили многих авторов к конструированию несколько другого определения Особенной части Уголовного кодекса РФ: такого, в котором ее отличия связываются не столько с тем, какие вопросы она решает, сколько с тем, применительно к каким именно деяниям они решаются. При этом Особенная часть обычно трактуется как совокупность того, что устанавливает или содержит признаки преступности и наказуемости, как подчеркивается, «определенных», «конкретных», «отдельных» и т. п. деяний. В сопоставлении с положениями Общей части данный подход имеет в виду, конечно же, не то, что им свойствен неопределенный, неконкретный (абстрактный) характер, но то, что, в отличие от Особенной части, они формулируют признаки не отдельных, а всех или некоторого множества преступных посягательств. Следуя логике соотношения Особенной и Общей частей, лежащей в основе рассматриваемого типа определений, можно с некоторой долей условности констатировать: в первом случае предметом служат признаки преступности и наказуемости одного (определенного, конкретного, отдельного) деяния, во втором — признаки всякого деяния, предусматриваемого законом в качестве преступного и наказуемого, или какой-то их группы.

Не останавливаясь на иных предлагаемых учеными-правове- дами вариантах конструирования понятия Особенной части, необходимо обратить внимание на главное: отличительные черты той и другой части Уголовного кодекса РФ должны фиксироваться, как отмечалось, на основе и с учетом взаимосвязи философских категорий особенного и общего, в которой все, что отличает сравниваемые предметы, должно рассматриваться как особенное, а то, что указывает на их сходство, — как общее. Применительно к статьям Особенной и Общей частей это означает, что первые должны фиксировать различия между уго- ловно-правовыми нормами, в том числе и различия между описываемыми ими признаками составов преступлений, вторые — повторяющиеся в уголовно-правовых нормах признаки указанных в них составов преступления. Стало быть, именно такая специфика должна найти отражение в определении понятия Особенной части.
Как известно, взаимосвязь философских категорий общего и особенного носит относительный характер, т. е. в определенных случаях общее может выполнять роль особенного, а особенное выступать в качестве общего. Применительно к интересующей нас части Уголовного кодекса РФ это говорит о том, что, с одной стороны, ряд отличительных, специфических признаков содеянного находит свое закрепление в статьях Общей части, а с другой — некоторые общие признаки преступных посягательств получают закрепление в статьях Особенной части. Так, конструируя в ней составы преступлений и описывая в них признаки оконченного посягательства, законодатель обычно специально не предусматривает в статьях Особенной части ответственности за неоконченную преступную деятельность. Приняв во внимание, что она не исключена во многих умышленных посягательствах, он счел более целесообразным указать на ее отличительные признаки в Общей части. Подобным образом им решен вопрос й в отношении соучастия в преступлении. Что же касается отражения общего непосредственно в статьях Особенной части, то иногда это осуществляется в форме примечания, толкующего содержание какого-либо признака состава преступления (чаще всего связанного с размером причиненного вреда) применительно ко всем или некоторым статьям, охватываемым конкретной главой Особенной части. Не отказался законодатель и от практики закрепления в ней общего понятия некоторых видов преступлений: хищений; преступлений против военной службы.
Наличие некоторого вида особенностей в направленности является общим отличительным признаком ряда посягательств и позволяет объединить их в главы и разделы. Все это дает основание сделатьвыводотом, чтозакрепляемые в статьях Особенной части Уголовного кодекса РФ отличительные признаки могут быть присущинетолькоодномусоставупреступления(носитьиндивидуальный, неповторимый характер), но и нескольким составам (приобретать для них значение общего признака).
Относительный характер указанных философских категорий, однако, вовсе не означает, что законодатель может произвольно, по своему усмотрению включать или не включать те или иные правоположения в Особенную (или Общую) часть Кодекса. В связи с этим, например, вполне логичным является, к примеру, место нахождения в Общей, а не в Особенной части Кодекса дефиниции, содержащейся в примечании к ст. 318 УК РФ и определяющей, что «Представителем власти в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости». Это — с одной стороны. С другой — весьма сомнительной представляется позиция законодателя по вопросу о месте расположения предписаний, непосредственно касающихся замены штрафа видом наказания в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ (ч. 5 ст. 46 УК РФ), обязательных работ — ограничением свободы, арестом или лишением свободы (ч. 3 ст. 49 УК РФ), исправительных работ — ограничением свободы, арестом или лишением свободы (ч. 4 ст. 50 УК РФ), ограничения свободы — лишением свободы (ч. 4 ст. 53 УК РФ) в случаях злостного уклонения от данных видов наказания. Предпочитая говорить во всех перечисленных статьях Общей части Уголовного кодекса РФ именно о замене наказания, законодатель, думается, не учел должным образом то, что злостное уклонение есть разновидность деяния, позволяющая рассматривать его самостоятельной разновидностью криминального поведения, подобно, например, уклонению от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК РФ), и, стало быть, требующее включения его в Особенную часть в число составов преступлений против правосудия. Предполагая иную оценку правовой природы злостного

уклонения от указанных в статьях Общей части видов наказания, такое решение вопроса согласуется и с представлениями о понятии Особенной части. Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод: Особенная часть Уголовного кодекса РФ есть совокупность статей, объединяемых в разделы и главы, которая, будучи неразрывно связанной со статьями Общей части Уголовного кодекса РФ, решает вопросы преступности и наказуемости отдельных деяний, определяя исчерпывающий перечень такого рода деяний и формулируя применительно к каждому из них отличительные признаки и пределы наказуемости.
§ 3. Система Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации и уголовно-правовая квалификация
В отечественной правовой литературе стало традицией выделять двоякое значение термина «квалификация»: в одном случае им обозначают сделанный правоприменителем логический вывод, конкретную уголовно-правовую оценку содеянного, предполагающую указание соответствующей статьи (части, пункта) уголовного закона; в другом случае под данным термином подразумевают саму деятельность, направленную на получение такого вывода и складывающуюся из определенных логических этапов или стадий. Подчеркивая единство и взаимосвязь двух указанных значений, авторы обычно определяют понятие квалификации как установление и юридическое закрепление соответствия (точного соответствия, тождественности) признаков совершенного деяния и признаков состава преступления, предусмотренного уголовно-правовыми нормами.
К сожалению, с подобного рода дефинициями трудно согласиться. Увязывая суть квалификации с определением соответствия (тождества) чего-либо с чем-либо, все они предполагают наличие признаков содеянного и уголовно-правовой нормы, содержащей признаки состава преступления, с которыми производиться сопоставление. Но когда вопрос об уголовно-право- вой норме, подлежащей применению, решен, пусть даже предположительно, то выяснение соответствия содеянного ее признакам имеет своей задачей не квалификацию как таковую (она уже проведена), а ее проверку. Однако суть квалификации не может сводиться к представлениям о той или иной ее разновидности: обоснованной или необоснованной, полной или неполной, предположительной (первоначальной) или окончательной, учитывающей все ее правила или неучитывающей и т. д.
В связи с этим становится очевидной необходимость уточнения основной цели квалификации: смещения акцента с установления тождества на установление правовой нормы, подлежащей применению в конкретном случае.
В некоторой корректировке нуждается и характеристика основных «составляющих» понятия квалификации, ее элементов. Часто встречающееся в юридической литературе выражение «квалификация преступления» требует обратить особое внимание на недопустимость отождествления того, что квалифицируется, с одной стороны, с тем, как, в каком качестве производится квалификация — с другой. В первом случае имеется в виду ее объект, во втором — одна из возможных оценок содеянного, содержащаяся в уголовно-правовой норме. Следует констатировать, что при уголовно-правовой квалификации объектом служит не само преступление, а отдельное деяние, которое с позиций действующего законодательства должно или не должно рассматриваться в качестве преступления. В итоге, имея в виду структурные элементы любой оценочной деятельности, в действиях лица, осуществляющего уголовно-правовую квалификацию, нужно различать:
—ее цель (установление конкретных статей, их частей, пунктов, подлежащих применению в каждом случае);
—объект (отдельно взятое деяние лица);
—основание (действующее уголовное законодательство);
—характер уголовно-правовой оценки (в самом общем виде выражающейся в признании с позиций выявленной нормы деяния преступным или непреступным; в более конкретном —
впризнании его, например, кражей, убийством и т. д.). Что касается самой дефиниции, то, отражая в ней основные особенности содержания данного вида оценочной деятельности правоприменителя, можно исходить из следующего: уголовноправовая квалификация есть не столько, как принято считать, установление и закрепление точного соответствия (тождества) признаков совершенного деяния признакам состава преступления, сколько определение конкретной статьи Уголовного кодекса РФ (в необходимых случаях — статей Уголовного кодекса РФ, их части, пункта), которая с позиций действующего уголовного законодательства подлежит применению при решении вопросов о преступности и наказуемости данного деяния.
Не исключая возможности использования термина «квалификация» в уголовном праве как в смысле результата оценочной

деятельности, так и в смысле некоторого ее логического процесса, приведенная дефиниция не позволяет согласиться с ныне высказываемыми в науке мнениями относительно этапов (стадий) последнего. Так, согласно одной из точек зрения основными этапами квалификации предлагается рассматривать решения об уголовно-правовой оценке содеянного, принимаемые в процессе: а) возбуждения уголовного дела по той или иной статье Уголовного кодекса РФ; б) вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; в) составления обвинительного заключения; г) предания суду; д) вынесения обвинительного приговора; е) изменения приговора в порядке кассации или надзора. Не возражая против характеристики всех перечисленных действий в виде определенных этапов, заметим, что в данном случае подразумеваются этапы не квалификации, а уголовного процесса. Разумеется, каждая из уголовно-процессуаль- ных стадий так или иначе связана с деятельностью по квалификации содеянного. Однако, если характеризовать ее с учетом этой связи, то, принимая во внимание специфику задач, решаемых на конкретном этапе уголовного процесса, более правильно говорить о разных видах квалификации: в начале она осуществляется органами предварительного расследования и потому носит предварительной характер; затем — судом, который принимает окончательное решение. И в том и в другом случае предполагается наличие некоторой совокупности стадий, проходя которые, следователь, прокурор или суд делают вывод об уго- ловно-правовой оценке содеянного. Отождествление — стадия уголовного процесса и уголовно-правовой квалификации; она
неизбежно влечет за собой необоснованное расширение понятия последней и, кстати, вступает в противоречие с предлагаемым авторами пониманием квалификации в уголовном праве как установления соответствия признаков содеянного и признаков состава преступления.
По сходным соображениям вряд ли обоснованно считать стадиями уголовно-правовой квалификации установление: а) фактических обстоятельств дела; б) уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за содеянное; в) тождества признаков квалифицируемого общественно опасного деяния признакам определенного состава преступления. Подобного рода подход, по сути дела, отождествляет процессы квалификации и применения нормы права. Более того, установление фактических обстоятельств, выбор правовой нормы и принятие
решения вообще не могут претендовать на роль стадий (этапов) чего-либо. О чем бы конкретно речь ни шла — стадиях или этапах, — с ними всегда связывается последовательность некоторого процесса развития или движения, когда одно (действие, событие, состояние и т. п.) сменяется качественно другим. Конечно, можно и нужно говорить об относительной самостоятельности фактической и юридической основ правоприменительного процесса, но, думается, не в плане вычленения их как ступеней единого процесса, а в плане различных его сторон, аспектов, элементов и т. п. Нельзя устанавливать фактические обстоятельства, которые должны иметь юридическое значение, не учитывая содержание норм права. Точно так же не может быть и установления юридической основы в отрыве от выявленных фактов. Заметим, что приведенный взгляд на этапы уго- ловно-правовой квалификации уязвим и в других отношениях. Если, скажем, сопоставить представления его сторонников о содержании третьей стадии и самом понятии «квалификация», то придется заключить: в обоих случаях речь идет об установлении тождества признаков квалифицируемого деяния признакам определенного состава преступления, предусмотренного уго- ловно-правовой нормой, т. е. об одном и том же.
Помимо вышеназванных в отечественной литературе можно встретить мнения о том, что на первом этапе уголовно-право- вой квалификации выявляются наиболее общие признаки деяния, устанавливается тип правоотношения. Отмечается, что на этом этапе лицо, осуществляющее правоприменительную деятельность, решает вопрос о том, имеются ли в данном конкретном случае признаки преступления, или же это деяние следует квалифицировать как проступок. При наличии признаков преступления процесс квалификации вступает во второй этап: устанавливается, какой главой Уголовного кодекса охватывается рассматриваемое преступление, т. е. выявляются родовые признаки. Третий этап заключается в выяснении и сопоставлении видовых признаков преступления (в рамках установленной главы Уголовного кодекса РФ определяется конкретная уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за совершенное преступление).
Пожалуй, самым существенным недостатком данного взгляда на стадии уголовно-правовой квалификации является то, как авторы характеризуют ее начальный этап. И действительно, можно ли ставить перед ним задачи установления типа право-
