
Путь.в.философию.Антология.2001
.pdf
Часть жизни как таковой
положность взаимного исключения или опровержения. Если такое иногда и случается, то это всего лишь плод определенного рода не
доразумения, непонимания сущности научного и философского. Ко нечно, философия и наука противоположны в своем отношении к миру. Но действительная их противоположность внутри одного и того же единого человеческого отношения к миру, противополож ность взаимно необходимого, напоминающая ту взаимно необходи мую ПРОТивоположность полов, которая лишь в единстве и связи имеет смысл, в том самом единстве, где эти противоположности ре ализуются не иначе, чем «друг через друга», оставляя за пределами этого единства как для одной, так и для другой пустоту и бессмыслен ность «неистинного. существования.
Вряд ли это такой уж большой секрет - разговоры о том, что вре мя философии прошло, что она больше не нужна, коль скоро мы
имеем развитую науку, что если она и нужна, то следует ее радикаль ным образом перестроить, положив в ее основу принципы строгой научности, и т.д, Конечно, философия имеет в своем составе некото рые области, которые нуждаются в этой перестройке, она имеет свои
недостатки, и наука может предъявлять к ней свои требования (как и
философия свои науке), показывая (в том и другом случае), почему состояние одной не удовлетворяет другую. Однако это отрицание собственного смысла философии не имеет достаточных оснований. Не нужна лишь такая философия. которая подменяет науку, пытаясь перестроить ее по своему образу и подобию. Но не нужна и такая, ко торая перестраивает по образу и подобию науки себя и, таким обра зом, утрачивает философский характер. Поэтому это отрицание фи лософии, ее необходимости, ее нужности и г.д. есть скорее всего продукт плохой философии - а такая действительно никому не нуж на и даже вредна, - ее неспособности выявить свою сущность, свою необходимость, свою несводимость к науке и научности вообще.
Философское отношение есть особая форма человеческого отно шения к миру. Философия в качестве определенного рода мировоз зрения есть то, чем человек обладает до того, как создает школы (в том числе и философские), подобно тому как человеческое познание мира вообще есть то, чем человек обладает до того, как образует ин ституты (в том числе и такие общественные институты, как наука). Философия как такая форма отношения, как мировоззрение, как то, чем человек обладает с самого начала, поскольку не только матери ально относится к миру, но и обладает мышлением о мире и относит ся к миру также и посредством мышления, то есть идеально, как, имея органы материального взаимодействия с миром, имеет при их посредстве и материал знания и знает материальный мир, независи
мо от того, существует ли для него наука в ее сегодняшнем виде, -
философия как определенного рода концепция жизни (развитая или
422
Н. Трубников. Философская проблема. Ее гуманистические основания и критерии
неразвитая, не в этом пока дело), как связанное с тем или иным по ниманием человека мироведение или, что одно и то же, как связанное с тем или иным пониманием мира человековедение - позволяет чело веку понимать, а не только знать, позволяет (в качестве такой кон цепции) осмыслить эту связь знания с действительностью. Не с дей ствительностью «самой по себе», но с действительностью его бытия, истолковать эту действительность в свете знания, как и знания в свете этой действительности, то есть включить знание (а в развитых случаях и науку) в общую картину человеческой жизнедеятельности,
придав ему роль связующего звена между человеком и миром и про ведя тем самым ту предвзятую человеческую и в этом смысле заинте ресованную и субъективную точку зрения, которая оказалась под зап ретом (во всяком случае, под самым радикальным ограничением) в чисто познавательном (научном) отношении к миру и в которой здесь
не только не усматривается ничего дурного, но, напротив, которая кладется здесь в самое основание философского отношения к миру.
И дело вовсе не в том, что философия как бы узурпирует эту мис сию связи человека и мира. Дело в том, что именно то мышление, ко торое берет на себя эту миссию, оказывается в силу самой этой зада чи, которую оно так или иначе решает, философским, ибо решение именно этой задачи дает нам философию как таковую. И когда фило софия связывает человека с его потребностями и интересами, с одной стороны, и мир, понятый не «сам по себе», но как мир человеческого бытия - с другой, дан ли он, как сейчас, при помощи развитой науки
или только в виде ограниченного опыта непосредственного осуществ
ления жизни, в единую систему человеко- и мироведения, заданную изучением мира и заданную миру (в том числе и его изучению) посред ством практического человеческого взаимодействия с миром, практи ческой человеческой деятельности, только тогда философия и сохра няет свой смысл и свое право на существование. Если философия не делает этого, она не нужна. Если она плохо делает это, значит нужна другая философия. Если философия, даже самая хорошая, допускает пробелы в этой связи, перерывы в этой линии, эти пробелы и переры вы тотчас восполняются звеньями неофициальной, доморощенной, какой угодно мудрости, потому что жить в мире и так или иначе не от носиться к нему, не по-нимать его, то есть быть человеком и не быть философом, невозможно.
И философия может делать это, связывать человека и мир, пото му что она с самого начала по-нимает - неважно, хорошо или пло хо, - с самого начала связывает, исходит из «идеи связи», которая, как известно, зародилась «тысячелетия назад». Потому что для нее ни
человек, ни мир, ни человеческое знание о мире никогда не есть «сами по себе» - в этом и заключается ее исходная философская, прямо противоположная научной, предвзятость. И даже больше того.
423

Часть жизни как таковой
с точки зрения философии человек и мир, как и само человеческое знание о мире, любой предмет вообще «сам по себе» лишь посголь КУ, поскольку «не сам по себе», поскольку находится в универсальной связи с миром, оставаясь вне этой связи таковым лишь «по назва нию», как отсеченная от тела рука лишь по названию - это утверж дал еще Аристотель - является таковой.
С самого начала исходя из идеи связи человека и мира, с самого начала рассматривая всякий предмет как существеннейшим и тесней шим образом связанный с миром, философия кладет этот принцип связи В свое основание и оказывается в состоянии воспроизвести даже в условиях дифференцированной науки - конечно, в мышле нии, и в этом также заключается и сила философии, и ее слабость, несамодостаточность - эту универсальную связь и зависимость, и прежде всего связь человека и мира. И когда она это делает, тогда она и сохраняет за собой самостоятельное значение, тогда она приобре тает достоинство общей системы человеческого познания мира, а пото му и свое самостоятельное и в гуманистическом (с точки зрения того, «что нужно человеку») отношении более высокое положение, по скольку ее отношение есть более целостное по сравнению с науками, которые, собственно, и возникают в составе этой целостности и не могут быть поняты иначе, чем частные, и с наукой вообще, предме том которой является лишь одно, хотя и важное, центральное, связу ющее и т.д, звено - но не более, чем звено - в этой трехчленной си стеме по-нимания: человек, знание и мир.
Философия в ее нынешнем состоянии, в отличие, например, от времен досократиков в древнегреческой философии или от европей ской докантовской философии, не создает специального знания о мире. Не добывает знания. Она лишь строит при помощи знания, ка кое добывают науки и какое добывается помимо науки в опыте чело веческой жизнедеятельности, обшую картину мира, необходимую че ловеку, чтобы жить в мире и ориентироваться в его явлениях. И если философия домысливает что-либо «от себя», как домысливала она во времена Пифагора и Лейбница, то она допускает эти домыслы (и вы нуждена это делать, не имеет права не делать этого) лишь там и по
стольку, где и поскольку ей недостает положительного знания, что бы получить более или менее связную и полную картину мира. А недостает ей знания только там, где его недостает науке, то есть там, где научных форм знания оказывается недостаточно.
Отсюда понятно, что обвинения философии в допускаемых ею «философских домыслах», чем иногда любит потешить себя так назы
ваемое положительное знание, есть, по существу, самообвинение этого знания, его самоуличение в собственном грехе неделания, в собственной неполноте и недостаточности. «Философские домыслы» не есть поэтому признак «научной слабости» философии, которая
424
Н. Трубников. Философская проблема. Ее гуманистические основания 11 критерии
должна быть сильной прежде всего философски. Они есть признак научной слабости самой науки, ее неспособности выработать нужное для полной картины мира положительное знание или, если она «ДЛЯ себя» его имеет, ее неумения представить это знание в нужной, при годной ДЛЯ этой картины, «наглядной» форме, позволяющей вклю чить это знание в необходимую для человеческой ориентации карти
ну мира.
Предлагая же иной раз с немалой долей высокомерия «не-нагляд ные» формы, наука ставит себя в глупое положение провинциала, испы
тывающего злорадное чувство превосходства над жителем столиц, ког да тот не понимает его местных «онацыты И «шелешпёнок», В лучшем случае в положение педанта-топографа, который ради «строгой истины» захотел бы изобразить земную поверхность в размерах и формах «нату ры» И отказался бы от употребления масштабов и условных знаков-.
Так обстоит дело с философией в ее связи с наукой.
Принцип «восхождения К основаниям», к «истокам» философско го знания позволяет, таким образом, понять философский процесс, историю философии, как и само человеческое мышление о мире и
его историю, не как нечто независимое от мира и самостоятельное по отношению к более широкому и общему процессу человеческой жиз
недеятельности, не как нечто такое, что определено лишь «внутренни ми» потребностями «познания самого по себе», лишь зависящими от,
так сказать, «кухни научного познанию> теоретико-познавательными
или научно-методологическими интересами, но как процесс постиже ния жизни в понятиях. Постижения не «жизни философии» самой по себе или «жизни науки» самой по себе, и только, но прежде всего той широкой физической и социально-исторической данности, которая составляет мир человеческой жизни и включает и философию, и на уку, и многое другое, «что И не снилось нашим философам»', в фор
мах того осмысленного и осмысливающего эту данность духовного целого и синтеза, какой оказывается во всякий данный исторически определенный и исторически же преходящий момент доступным фи лософскому познанию мира.
Так обстоит дело со всякой действительной философской пробле мой и со всякой действительной философией, ибо ее проблемы, по существу, всегда есть проблемы не только философские, всегда есть проблемы более чем философские, если под философией понимать не которую специальную область духовной деятельности, есть пробле мы человеческой жизнедеятельности, человеческой жизни.
Мы можем, конечно, отвлекаться от этого принципа. Мы можем, еще не осмыслив его, углубляясь лишь в анализ и позабыв о синтезе, прослеживать, как от одного имени к другому, от Платона к Аристо телю, от Канта к Гегелю, от неокантианства к Бергсону, от Дилыея и Гуссерля к Шпенглеру и Хайдеггеру и т.д. изменяется содержание той
425

Часть жизнн как таковой
или иной философской проблемы и ее формулировки. Мы можем
проследить прогресс в одном отношении и упадок в другом, вскрыть
«непоследовательность» одного С точки зрения «последовательности» другого И Т.д., но мы никогда из «самой по себе истории философии», из борьбы философских мнений - а сама по себе, то есть независи мо от жизни, существующая философия никогда не есть что-либо большее, чем эта борьба мнений, - не выведем, если не обратимся к
реальности, синтезу и целому, того ее движущего импульса и источ ника, каковые и составляют ее действительное начало, сообщая дви
жение и ускорение ее мысли и заставляя ее трудиться над ее специ фическим «философским предметом» и «материалом».
В этом смысле поиск оснований, первых истоков проблемы есть первый и важнейший методологический принцип философского по знания в самом строгом смысле этого слова. Этот поиск, и только он, позволяет определить тот необходимый, а часто и единственный пункт, где философия не просто вступает в живой и непосредствен ный контакт с действительностью, с самой реальностью человеческо го бытия, но где она рождается как философия, то есть как специфи чески человеческая духовная деятельность, как специфически человеческое синтетически-аналитическое, как называл это Гегель,
отношение к миру; где она рождается именно из этого связующего контакта мысли с действительностью, если не успела родиться преж де, или возрождается для новой жизни там, где уже существует; где она приобретает или еще раз подтверждает свое неотъемлемое право
на существование.
Короче говоря, это тот самый пункт, где тот или иной вопрос при водится в прямую связь с проблемой смысла и сущности человечес кого бытия. И если мы заметим, что далеко не всякий из человечес ких вопросов может быть поставлен в такую связь, это значит лишь то, что далеко не всякий из них есть философский вопрос, и если да леко не всякая философия такой вопрос ставит, это значит, что дале ко не всякая из человеческих деятельностей, желающих именовать себя философией, имеет право на это имя.
Именно здесь, именно в этом пункте, в этой постановке вопроса
всвязь (вовсе не обязательно в непосредственную, обязательно лишь
впрямую) с проблемой смысла и сущности человеческого бытия мы получаем вопрос философии (вопрос об отношении человеческого мышления и мира, знания и действительности и т.д.). И именно здесь философия «человеческого бытия» смыкается с «человеческим быти ем» философии; «философия жизни» - можно было бы сказать, если
бы это выражение было свободно от груза философской традиции, - и «жизнь философии» обнаруживает свое исходное единство, а вся кий их новый контакт возрождает это единство и позволяет всякий раз заново, новым светом одной осветить темноту другой. Именно
426
Н. Трубннков. Философская проблема. Ее гуманистические основания и критерии
здесь то и другое сливается в единое, единой мыслью определенное и на единый предмет направленное содержание, которое и предста ет перед нами как философское в прямом и собственном смысле сло ва. Где то и другое имеет этот философский смысл и где само здание
философии вырастает перед ищущей мыслью не как разрозненная и все менее обозримая груда заблуждений, осколков мысли, разбив шейся о каменную твердыню мира, - мысли, так и не сложившейся в стройное его изображение, но как все более отчетливо просматри вающийся, постоянно возобновляемый и столетиями, как Кельнский собор, незавершаемый и незавершимый, сначала едва заметный, а чем дальше, тем более отчетливый, замысел, набросок человеческой и человечески значимой, имеющей непосредственный жизненный смысл, картины мира с его вершинами и безднами, с его просветлен ной и лишь на этой картине просветляюшейся тьмой.
Реализация этого принципа позволяет, таким образом, исходя как раз из этого чуть ли не единственного пункта, обозреть процесс фило
софии не как нечто, лишь в слабой степени связанное с так называе мой реальной жизнью и почти самодостаточное и самодвижущееся, но, напротив, как процесс «ореальнения: - да не взышется за это сло во ни на этом, ни на том свете! - человеческой мысли, человеческого
духа и одновременно как процесс человеческого 'осмысления реально сти, ее одухотворения, то есть как вполне взаимный процесс преобра
зования реальности в мысль и мысли в реальность, как процесс не только приведения мысли в согласие с действительностью, но и при ведения действительности в согласие с мыслью, как процесс взаимного согласования мышления и мира, имеющий вполне очевидный жизнен но-значимый и жизненно-заинтересованный смысл.
И именно тут, в этом исходном пункте, в этом основном вопросе
философии или в этом прочтении основного вопроса философии раскрывается вместе с тем та простая и великая мысль, что вся фило
софия, все лучшее, наиболее глубокое и духовно чистое, что заклю чено в человеческом мышлении о мире, имеет смысл и цену лишь как способ и попытка гуманистически осмыслить мир, понять его в свя зи с человеком, как способ и попытка осмыслить человека в его свя зи с миром, как способ и попытка одухотворить реальность челове ческого бытия, сделать реальность содержанием его духа и вступить с миром в по-человечески осмысленный и по-человечески одухотво ренный контакт, сделав себя и мир из связанных игрой случая или, как думали когда-то, прихотью чьей-то злой или доброй воли со-уз
ников бытия в со-юзников, способных понять друг друга и помочь друт другу, а в конечном счете - и для каждого из них - самому себе: самому себе - человеку и самому себе (посредством человеческой
мысли и человеческой деятельности) - миру, потому что именно та ким в самой своей глубокой, наиглубочайшей основе является отно-
427
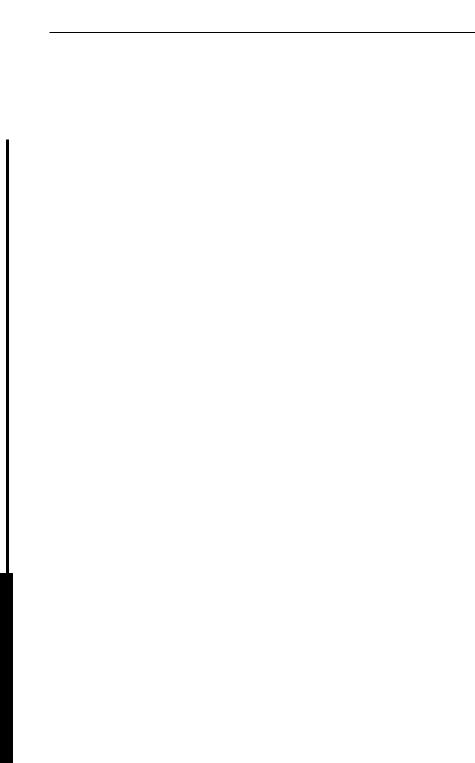
Часть жизни как таковой
шение человека и мира. В нем человек относится к миру как к миру своего человеческого бытия и к себе как к человеку -этого мира. И в нем же мир относится к себе как к гуманистически, посредством это го человеческого к себе отношения, осмысленному миру. И это пер вое и последнее из человеческих отношений к миру есть, быть может,
первое и последнее из ВОзможных для мира Отношений к самому себе.
Предельно непосредственное отношение человека к миру оказы вается в этом смысле предельно опосредованным - через человечес кую историю и культуру - отношением мира к самому себе. Первая человеческая проблема - последней космической проблемой, вели чайшей из проблем вообше.
И только понимание этого отношения может дать сегодня проч
ное основание человеческому самоуважению, без которого нет ни нравственности, ни оптимизма, ни понимания объективной, вселен ски значимой ценности человеческой жизни.
Определение этого пункта позволяет, таким образом, найти не толь ко первоисток философской мысли, но и провидеть ее обшее направле ние, позволяет найти ее внутреннее динамическое, к миру устремленное начало - необходимое начало всякой подлинной философии.
Лишь в свете такого отношения к миру, то есть sub specie питапйанз. процесс философского развития может быть понят как жизненно необходимый процесс, не как экстенсивный процесс накопления «философских данных», не как процесс случайной смены имен, об
ладатели которых приходят, чтобы встать на плечи предшественни ков и увидеть на несколько метров дальше, чтобы уличить прошлое в недостатке зрения и ошибках и описать собственное видение мира, выработав собственные ошибки и задав, таким образом, рабо ту последующим поколения м философов, но как вполне необходи мый процесс (настолько, конечно, насколько сам процесс челове ческой жизни, сама история человечества есть нечто необходимое) гуманистического становления мира, как процесс, тысячью зримых и незримых нитей связанный с жизнью и миром и лишь двумя-тре мя, как ближайшее родословие, лежащими на поверхности, часто внешними, как покрой платья, - с той или иной философской школой или направлением.
Понимание этого принципа, отчет в нем и проведение его в жизнь в философском исследовании позволяют вместе с тем в «частном деле» философии - в исследовании отношения человека и мира, зна ния и действительности, мышления и бытия и т.д. - видеть суше ственно важный и необходимый элемент общего человеческого отно шения к миру и человеческого дела, человеческой миссии в мире, не предмет духовной роскоши, но дело первой человеческой необходи мости - важнейший элемент в осуществлении процесса человечес-
428
Н. Трубников. Философская проблема. Ее гуманистические основания и критерии
кой жизни. И именно это отношение оказывается в этом смысле ис
ходным началом гуманистического отношения к миру. в том числе и философско-гуманистического отношения и философского позна ния, каким бы отвлеченным оно ни показалось иной раз малоиску
шенному взгляду.
***
Гуманистическое отношение к миру является исходным человечес ким отношением. Гуманистические критерии - последними из че ловеческих критериев вообше. Об этом иной раз просто неловко говорить, но об этом слишком легко и слишком часто забывают.
рассматривая те или иные частные критерии эстетизма, научности
и т.д. Как в конце концов, так и с самого начала мир сушествует вовсе не для того. чтобы человек любовался им, как не существу ет и для того, чтобы люди могли познавать его и развивать науку. Человек также живет в мире не только для того, чтобы любовать ся им или преобразовывать его исключительно на эстетических началах, как не живет для того, чтобы познавать и только позна вать. Каким бы художественно значимым ни был критерий эсте тизма, этот критерий отступает перед критерием гуманизма, и то
лучшее, что знает искусство, исходит как раз из этого отношения, из того, что подлинно прекрасным может быть лишь гуманисти
чески прекрасное.
Иное дело с критерием научности. Не секрет, что в современном мышлении Запада все большее распространение приобретает специ фическая идеология сииентизма, особенно заметная и ярче всего про являющаяся именно в научной среде (впрочем, отголоски ее встреча ются иногда не только на Западе). Эта идеология кладет критерий
научности в основание человеческого отношения к миру и представ
ляет критерии научности как высшие и окончательные критерии не только человеческого познания, - а научность есть высший крите рий познания, и с этим было бы просто бессмысленно и даже вред но спорить, - но и всякой человеческой деятельности, чуть ли не са мого процесса человеческой жизни. А это уже подмена критериев,
чреватая, как говорится, весьма серьезными последствиями.
Дело в том, что человек живет в мире с самого начала не для того, чтобы познавать его, и прежде всего не для этого, каким бы «высоким» и «рыцарски благородным» ни показалось ему это дело «чистого познания», «бескорыстного познавательного отношения к миру», «служения чистой истине» и т.д. Человек живет в мире и вынужден познавать его, как вынужден пахать землю и сеять хлеб, если не может вкушать плоды прямо с дерева. Только эта его жизнь, ее возможности и условия, необходимость сохранять эти
429

Часть жизнн как таковой
условия и расширять эти возможности, насколько это оказывается возможным, - а именно этому и служит наука, - задает первые, не
производные от других вопросы и в первую очередь требует ответа. Она же задает и последние вопросы. И только она может быть ис толкована как нечто исходное и окончательное в общем составе че ловеческой жизнедеятельности. В конце концов, если и существуют какие-либо более высокие начала, которые могут быть, как говорит
ся, «дороже жизни», как совесть и отечество, человеческое достоин
ство и борьба за человеческое освобождение и т.д., то ведь все эти
начала суть не что иное, как определения человеческой жизни в ее гуманистическом смысле, и никоим образом не следует понимать под окончательной ценностью человеческой жизни стоимость ее полужи вотного существования, лишенного определений материальной и ду ховной культуры. Можно и нужно иметь в виду гуманистическую ценность человеческой жизни, такой, которая так или иначе форми
рует и так или иначе включает эти определения в свое содержание или должна, по крайней мере в идеале и перспективе, включать в
него всю совокупность гуманистических ценностей.
***
Сказанным определяется отношение критериев гуманизма и науч ности. Именно человеческая жизнь, условия и возможности ее как
гуманистического в этом принципиальном смысле осуществления,
а не знание как таковое, занимающее чрезвычайно важное, но слу жебно важное и промежуточное положение между человеком и ми
ром, есть в этом смысле исходное и окончательное, само цен ное и самоцельное. Критерии научности, необходимые и окончательные в пределах науки, оказываются здесь хотя и необходимыми, но не окончательными в гуманистическом плане. Поэтому, каким бы благородным ни казалось нам дело «чистого познания», каким бы белым ни был халат служителей «чистой истины» И чистым это стремление к истине, чем любит сегодня пощеголять сциентизм - одна из новейших и утонченнейших идеологий агуманизма, - принцип «чистого познания» в его логически завершенной форме
тоже может оказаться вполне агуманистическим, если с самого на чала не будет исходить и до самого конца не будет доводить прин цип гуманистической ценности научной истины. Отвергая этот
принцип, превращая познание в окончательную цель, в нечто са
моцельное и самоценное, сциентизм не может не превратить тем
самым человека лишь в инструмент и средство этого познания ради познания, не может не обречь человека на гуманистически бессмысленное, как Сизифов труд, и гуманистически разруши
тельное существование.
430
Н. Трубников. Фнлософская проблема. Ее гуманистические основания и критерии
Самоценность и самоцельность человеческой жизни и личности, ценности гуманистической культуры, выработанные тысячелетним тяж ким опытом человечества, были бы отвергнуты здесь лишь внешне «бо лее чистым» способом. По существу же и здесь «сциенция» стала бы столь же враждебной человеку и человечеству «потенцией» И «силой», как и всякая иная агуманистическая потенция и сила. И человек должен поэтому противопоставить ей исходные основания и конечные крите рии гуманизма, потому что больше не может противопоставить ничего.
«Scientia potentia est» - в этом лозунге научного ВОЗРОЖдения се годня, в условиях величайшей научно-технической революции, мо жет прозвучать угроза и вызов человечеству, если критерием этой ре волюции будут лишь критерии научности и техницизма, если она не станет одновременно революцией гуманистической.
28.11.1974
431

Часть жизнн как таковой
ЕЛ НИКИТИН
Николай Николаевич Трубников
14 февраля 1929 г. - 19 мая 1983 г. День первый - День последний. А между ними - большая (не мерою физической, но мерой челове ческой), сложная, наполненная событиями жизнь. Событиями духов ными. Открытиями смыслов и закрытиями бессмыслиц.
Он известен читателю значительно меньше, чем заслуживает. Его наиболее интересные и зрелые, «собственно трубниковекие. работы практически не печатались. Стоило ему открыть себя, как для него закрылся путь к читателю. За свои последние 12 лет он издал всего две-три статьи, да и те порой были заредактированы до неузнаваемо сти. Еще обиднее то, что отчасти поэтому он написал гораздо мень
ше, чем мог и хотел написать.
Правда, казалось, что поначалу все складывалось нормально и благополучно. Учеба на философском факультете МГУ, аспирантура в секторе диалектического материализма Института философии АН
СССР (научный руководитель - Э.В. Ильенков), успешная защита (1965) и опубликование кандидатской диссертации (<<О категориях "цель", "средство", "результат"». М., 1967) и, наконец, работа в сек торе. Еще будучи аспирантом, он начинает писать статьи по гносео логии для коллективных трудов сектора (см.: Познание как форма предметной деятельности // Историко-философскиеочерки. М., 1964; Бесконечный процесс углубления познания закономерной свя зи явлений // Ленин об элементахдиалектики. М., 1965). Это были хорошие, добротные статьи, но в них он еще во всем следует своему руководителю - и в понимании характера проблем философии (В духе определенной интерпретации идеи совпадения диалектики и те ории познания), и в методах анализа, и в манере письма.
Но вот в конце 1970 г. он пишет и затем предлагает вниманию коллег по работе доклад «Философия И методология науки (о сегод няшнем понимании предмета и специфики философского знания)», обозначавший крутой перелом в его творческом развитии. В ряде от ношений доклад был очень странным, однако последующие работы, сходные с ним в этом смысле, но значительно более обстоятельные и обоснованные, снимали ощущение странности (правда, лишь у бли жайших друзей автора, ибо обычно он давал читать эти работы только им). Каковы же эти «странности»?
Начать с того, что доклад, по сути дела, представлял собой статью, правда, за одним исключением. Известно, что любой наш «нормаль ный» философ, садясь писать статью, изначально следил за ее «про
ходимостью», ТО есть смотрел на нее одновременно и глазами «редак тора»; доклад же явно писался без участия этих «вторых глаз».
432
Е.П. Никитин. Николай Николаевич ТрубllllКОВ
Поскольку столь же, а порой и более раскованными оказались и последующие работы, напрашивался вывод: человек поборол в себе «внутреннего цензора» и заботился лишь о том, чтобы по возможно
сти ясно и верно изложить то, что думает.
Странным было и содержание. Докладчик упрекал философов в излишнем увлечении методологией науки и гносеологией. По тем (да еще и по нынешним) временам это могло восприниматься как рет роградство, ибо оживление нашей философской мысли, начавшееся в середине 50-х годов, пожалуй, в наибольшей мере проявилось именно в области методологически-гносеологической. К 70-м годам именно здесь были получены результаты, едва ли не полностью ис черпывавшие собой всю тогдашнюю перестройку философии. Но он не был ретроградом. Напротив, он, по сути дела, звал к дальней шей - более широкой и фундаментальной - перестройке. Ни в коей
мере не подвергая сомнению важность методологически-гносеологи ческих исследований и результатов, он только возражал против сведе ния к ним всей философии. Она не имеет права ограничиваться «об служиванием» науки (в процессах своего функционирования) или «обобщением» данных науки (в процессах своего роста), но должна со относиться с более широким - предельно широким - контекстом жизни (публикуемая здесь статья и статья «О соотношении философии и специально-научного знания» (1976». И дело не только и даже не
столько в том, что, вопреки многочисленнымпозитивистскимзакли наниям и прогнозам, философия в «век науки» отнюдь не потеряла своей самоценности,а, напротив, приумножилаее и потому не долж на терять и чувства собственногодостоинства.Дело в том, что ныне,
когда мир раздираютстрашные противоречия,тесно связанные с глу бокими рассогласованиямив самомдуховном мире - например, меж ду наукой и нравственностью, да и внутри самой нравственности (На ука и нравственность (о духовном кризисе европейской культуры) // Заблуждаюшийсяразум? Многообразиевненаучногознания. М., 1990 (статья написана в 1972 г.), - философия призвана решать куда более важные и неотложные проблемы, фокусирующиеся в проблему жизни
и смерти человека и человечества.
Эту последнюю он и назвал тогда в докладе центральной в той «фундаментальной философской мироведческо-мировоззренческой проблематике», к первоочередному решению которой призывал фи лософов. Здесь тоже была странность: ведь известно, что над вопро сом о смысле жизни и смерти бились очень многие, и в том числе ве личайшие, умы прошлого и тем не менее ничего не добились; поэтому «самая передовая и единственно научная философия» отка
залась рассматривать его, как когда-то наука отказалась рассматри вать проблему вечного двигателя. Но Трубников не спасовал перед этим. Он нашел интересные способы уточнения вопроса и даже по-
28-3436 |
433 |

Часть жизии как таковой
своему решил его. Интересно и то, что при этом он пробовал себя в разных жанрах (пробовал проблему разными жанрами) духовного творчества. Здесь и художественные произведения (рассказы, по весть), и литературно-философское эссе «Притча О Белом Ките» (см.: Вопросы философии. 1989. N2 1), и собственно философские тракта ты: «Время человеческого бытию> (М., 1987), «Проблема смерти, вре мени и цели человеческой жизни (через смерть и время к вечности)» (см.: Философские науки. 1990. N2 2), «[Проспект книги О смысле жизни]. (см.: Кинтэссенция. Философский альманах. М., 1990) и др.
Но как мог человек по существу на 180 градусов изменить на правление своих мыслей о назначении философии? Теперь из его
архива мы совершенно точно знаем, что на самом деле никакого из менения и не было. Это был прирожденный философ. Философ мило стью Божьей. Проблема смысла жизни и смерти глубоко затронула его еще в отрочестве и навсегда завладела им (см.: [Проспект книги о смысле жизни] 11 Квинтэссенция. М., 1990. С. 429-432). Так что была удивительная, хотя и не видная постороннему взору, верность себе. И еще был постоянный поиск. И одно не противоречитдругому, ибо этот поиск направлялея на отыскание такой постановки проблемы, такого
ее решения и, наконец, такого концептуального и лингвистического их выражения, которые бы возможно более соответствовали его глубин ной внутренней интуиции. В этом отношении интересна запись, сде ланная им при чтении бердяевекого «Смысла историю>: «То, что он пишет, необыкновенно близко мне. Кое-что я писал и говорил "други ми словами", говорил хуже, неинтереснее, но говорил то же самое. Хотя бы в "категории" особенного, в которой я хотел найти выход из абстрактных единичностей и всеобщностей. <... > Почему же теорети ческая структура, которую я изучал, осваивал, в которой мыслил, ока залась недостаточной? Почему я все больше испытывал мучительное чувство неистинности ее, хотя, казалось бы, все было верно, все укла дывалось в ее принципы и критерии? Вот в этом-то и дело, что в ее принципы и ее критерии. Ее принципы и ее критерии не были моими принципами и критериями. А те, которые были моими, мне были не известны, я их только узнавал. (Узнавал, вспоминал совсем по Платону!) Где же они были? И что они есть? Вот предмет размышления! Может быть, и на самом деле существует столько эссенциальных логик, сколь ко существует людей?«
Но, может быть, он и не пытался публиковать свои работы? Пы тался. И за одну из таких попыток он заплатил жизнью. Речь идет о книге «Время человеческого бытия», первый вариант которой был написан еще в 1973 г. Путь к печатному станку ей преградила мас са самых различных людей - от директора института до «черных»
рецензентов - единых, впрочем, в одном: в стремлении судить его
«именем современной науки». Чудовищно неправедный суд! Идея
434
Е.П. Никитии. Николай Николаевич Трубииков
книги - идея качественного отличия времени человеческого бытия от времени бытия биологических, а тем более физических объек тов - самым безупречным и наглядным образом вытекала из таких фундаментальнейших концепций науки ХХ В., как концепции орга нической связи времени с движушейся материей и его относитель ности. А кредо «судей» сводилось К концепции универсальности (читай: абсолютности) физического времени. Тем самым его, стояв шего на позициях науки и философии ХХ в., судили именем науки и философии века ХУН. Книгу не пускали. Он тяжело переживал это, хотя и продолжал работать как над «запланированным», так и над своим заветным. Дух его выдержал все. Увы, тело оказалось не
столь всесильным ...
Изломанный духовный путь. И выправленный. Трагическая судь ба. И счастливая.
Примечания
Статья написана для журнала «Вопросы философии», но не опубликована.
I Именно потому мы отвлекаемся здесь от теории познания - важной и тради ционной, но не специфической для философии, служебной вее составе дисцип лины, производной от ее фундаментальной проблематики.
2 Это хорошая аналогия. Карта земной поверхности должна быть удобной для ориентирования и достаточно полной, но не чрезмерно, чтобы не потопить не обходимое в частностях. А для этого она должна быть компактной, что допуска ется применением различных масштабов, и наглядной, чему служат генерализа ция ее содержания и употребление общепонятных условных знаков. Никому не нужна «карта» В масштабе 1:1. Никому не нужна и такая, хотя бы и в нужном масштабе, где представлена полная, как на фотографии, копия земной поверх ности. Специалисты знают, какое кропотливое, огромного навыка требующее дело - дешифрование аэрофотоснимков. И уж, конечно, она должна быть дос таточно «свежей», а не составленной «по рекогносцировкам Главного Его Импер. Вел. Штаба», ибо картина земной поверхности также склонна к тому, чтобы не которым образом изменяться.
J «Много есть в мире такого, друг Горацио, что и не снилось нашим филосо фам» - этими словами шекспировского Гамлета иной представитель положи тельного знания любит помахать как перчаткой перед носом философа. В наи вной своей эрудиции он не предполагает, что словоупотребление времен Шекспира и наше могут не совпадать. Так это и есть в данном случае. Например, главный труд Ньютона «Рпйоворшае Nattlralis Principia Машетпапса» в современ ном словоупотреблении должен носить название «Математические начала есте ственных наук», ибо ни о какой философии или натурфилософии в нашем по нимании здесь нет речи. В Новое время, вплоть до Канта, то, что сегодня называется философией, носило имя метафизики. Физикой (натурой) называли не науку, но объект науки, природу, изучение которой было предметом филосо фии. Остатки этого словоупотребления сохранились в некоторых старых европей ских университетах до начала нынешнего века. Вернер фон Браун, например, -
а эрудит-естественник знает, кто этот человек, - в свое время защитил диссер тацию по аэродинамике и получил «искомую степень» доктора философии.
28" |
435 |

Указатель имен
Указатель имен
Августин |
21,27,33,82,84,85,98, 141,240,269,274,286,298 |
||||||||
Авенариус Р. |
63, |
355 |
|
|
|
|
|
|
|
Аверроэс (Ибн Рущд) |
311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Агасси Дж. |
139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Адлер А. |
298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Адорно Т. |
10, 335, 350-359, 366, 376, 378, 379 |
|
|||||||
Азимов А. |
391 Айер А. ДЖ. 81, 255 |
|
|
|
|
||||
Ален (Алэн) |
248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Альберт Великий |
312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аристотель |
103, |
104, |
148, |
151, |
152, |
155, |
158, |
183,230,234,236, |
|
|
247,282,290,310,318,421,424,425 |
. |
|||||||
Арон Р. |
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бакунин М. А. |
311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Барт К. |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Батай Ж. |
369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бахофен И. Я. |
298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Башляр Г. 283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Беккет С. |
352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бенн Г. |
391. |
401 |
|
|
|
|
|
|
|
Беньямин В. |
342, |
352, 353, |
557 |
|
|
|
|
|
|
Берг А. |
352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бергсон А. |
203, 219 - 223, 248, 280, 285, 294, 310, 315, 330, 331, |
||||||||
|
425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бердяев Н. |
285.303-306,315,316,318 |
|
|
|
|||||
Беркли Дж. |
80, |
103, 132, 134, 207 - 212, 223 |
|
|
|||||
Бернайс Д. |
122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бетховен Л. ван |
60, 245, 271 |
|
|
|
|
|
|
||
Бёме Я. |
286, |
288, |
298 |
|
|
|
|
|
|
Бибихин В. |
181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Блейк У. |
101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Блондель М. |
315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Блюм Л. |
303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бозанкет Б. |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
БоунБ. П. |
316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Брайтмен Э. |
316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Браун В. фон |
435 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Брейе Э. |
183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Брукнер Э. |
306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Брюнсвик Л. |
306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
436
Указатель имеи
Брэдли Ф. Г. |
33, ПО, 246. 248, 255 |
|
|
|
|
|
|
||||
Бэкон Ф. |
216.347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бубер М. |
265.303,315,316,321,323,330 |
|
|
|
|
||||||
Бубнер Р. |
355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вайсман Ф. |
7,65,79,83,117 - 121,722. 123, 124.126 |
|
|
||||||||
Валери П. |
248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВальЖ. |
330, |
331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ван Гог В. |
227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вебер М. |
361,370,371,373 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Веберн А. |
352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Велане А. де |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вернадский В. И. |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внзенгрундт О. |
351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Винлельбанд В. |
306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витгенштейн Л. |
6-8, 15,20,33-41,44,56,65,77. 80-82, 94, 109, 110, |
||||||||||
|
116-120,122,126-128,142,368,369 |
|
|
|
|||||||
Гадамер х.- Г. |
159, 382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гайденко П. П. |
236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Галилей Г. |
111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гартман Н. |
291,306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гегель Г. В. Ф. |
54,56,70,128, 148, 151, 157, 168, 194, 195,238,247. |
||||||||||
|
274, 275, 288-290, 293, 313, 314, 351, 353, 555, 358, |
||||||||||
|
360,362-364,366-368,373,378,379,406,419,425, |
||||||||||
|
426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гедель К. |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гейзенберг В. |
111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гераклит |
110,149-152,192,289 |
|
|
|
|
|
|
||||
Гесиод |
133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гельдерлин И. Х. |
227, |
357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гёте И. В. |
39, 102, 189,313,348,388,406,407,416 |
|
|
||||||||
Гильберт Д. |
61,79,115,122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Гиппократ |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гитлер А. |
130,279 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гоббс Т. |
208, |
322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гоголь Н. В. |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гомер |
129, |
133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Григорий Нисский |
269 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гумилев Н. |
393 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гуссерль Э. |
6,8,254,286,289,291,294, 305, 330, 336, 337, 356, |
||||||||||
|
386, 387, 405-407, 410, 411, 425 |
|
|
|
|
||||||
Давыдов Ю. Н. |
355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дандьё А. |
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебюсси К. |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декарт Р. |
8,55,67,115,116,133, 156,207,208,222,231,234, |
||||||||||
|
236, |
238, |
285, |
290, |
313, |
318, |
385, |
386, |
393, |
397. |
407, |
|
411-413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Державин Г. Р. |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Джемс У. |
219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Джойе Дж. |
352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дильтей В. |
59,219,223,357,367,425 |
|
|
|
|
|
|||||
437

|
Указатель имен |
|
|
Достоевский Ф. М. |
33, 263. 280, 298, 318, 321, 323, 324, 330 |
Дрейфус А. |
261 |
Дубислав |
340 |
Дюркгейм Э. |
298,306,371 |
Евклид |
84, 101 |
Еврипид |
318 |
ЖидА. |
145, 154 |
Жильсон Э. |
270, 303 |
Зенон |
88, 103 |
Зиммель Г. |
339 |
Ильенков Э. В. |
432 |
Йейтс У. Б. |
88, 727 |
Кант И. |
5,6,8,72,33,35,67,76,77,81,84,85, 112, 116, 124, |
|
126, 140, 148,217,219,246,247,285,290,293,303, |
|
313,318,337,342,355,360-364,366,367,369,373, |
|
378, 381, 385-390, 393-395, 410-412, 425, 435 |
Кантор Г. |
97, 100 |
Кальвели-Адорно М. |
351 |
Карнап Р. |
7,42,62,64,65,79,81,137,138,340 |
Кауфман Ф. |
79 |
Кафка Ф. |
352.393,394,396,401,402,411,412 |
Келлер Г. |
345 |
Кеплер И. |
97 |
Киреевский И. |
305 |
Киссель М. А. |
236 |
Клагес Л. |
347 |
Клодель П. |
271 |
КоатсДж. Б. |
316 |
Коген Г. |
337 |
Кодуа Э. И. |
236 |
Койре А. |
140 |
Колридж С. (Кольридж) |
102 |
Кондорсе Ж. |
193, 200 |
Конт О. |
62, 63, 194,251 |
Корнелиус Г. |
355 |
Корш К. |
358, 365 |
Кракауэр |
3, 355 |
Краус О. |
61 |
Крафт В. |
79, 126 |
КунТ. |
139 |
Кьеркегор С. |
|
(Киркегор, Киркегард. |
|
Керкегор) |
7,33,141,272,298,300,304,313,314,318,338,356 |
Лабертоньер Л. |
315 |
Лакатос И. (Лакатош) |
139, 140, 366 |
Лакруа Ж. |
316,318 |
Указатель имен
Лаланд А. |
307.318 |
|
|
|
|
|
Лангер С. К. |
74 |
|
|
|
|
|
ЛандсбергП. Л. |
316 |
|
|
|
|
|
Ларусс П. |
318 |
|
|
|
|
|
Ласк Э. |
373 |
|
|
|
|
|
Лашьез-Рей |
316 |
|
|
|
|
|
Леаи-БрюльЛ. |
306 |
|
|
|
|
|
Левинас Э. |
10, 320-332 |
|
|
|
||
Лейбниц Г. В. |
77,81,116,313,347,349,424 |
|||||
Ленин В. И. |
130,432 |
|
|
|
|
|
ЛеСенн Р. |
316 |
|
|
|
|
|
ЛихтенбергГ. К. |
88 |
|
|
|
|
|
Локк Дж. |
128 |
|
|
|
|
|
Лоренцен П. |
364 |
|
|
|
|
|
Лотце Р. Г. |
315 |
|
|
|
|
|
Лукасевич Я. |
90 |
|
|
|
|
|
Лукач Д. |
344, 351,358, 365 |
|
|
|||
Лютер М. |
313 |
|
|
|
|
|
Мадинье Г. |
316 |
|
|
|
|
|
МакмарриДж. |
316 |
|
|
|
|
|
Мальбранш Н. |
116,208,313 |
|
|
|
||
МамардашвилиМ. К. |
11, 385, 404-415 |
|
|
|||
Маритен Ж. |
10,274,280-284,303,316 |
|||||
Маркс К. |
157,280,298,314,318,345,351,360,368,379,387, |
|||||
|
398, 405-407 |
|
|
|
||
Маркузе Г. |
376, 378, 380 |
|
|
|
||
Марсель Г. |
9, 10, 239, 243, 269 - 272, 273, 303, 316, 318, 330 |
|||||
МахЭ. |
63, 79, 132, 133, 355 |
|
||||
Мейерсон Э. |
283, 306 |
|
|
|
|
|
Мен де Биран |
270,314 |
|
|
|
|
|
Мерло-ПонтиМ. |
9, 326, 332 |
|
|
|
||
Мид Г.Х. |
371 |
|
|
|
|
|
МидлтонДж. |
316 |
|
|
|
|
|
МилльДж. Ст. |
63 |
|
|
|
|
|
МоноЖ. |
131, 133 |
|
|
|
|
|
Монтень М. |
270, 397 |
|
|
|
|
|
Монтескье Ш. |
397 |
|
|
|
|
|
Моруа А. |
303 |
|
|
|
|
|
Моцарт В. А. |
60 |
|
|
|
|
|
Музиль Р. 402 |
|
|
|
|
|
|
Мунье Э. |
10,303,307,317-319 |
|
||||
Мур Дж. Э. |
33,83,104,110,121 |
|
||||
Муссолини Б. |
130 |
|
|
|
|
|
Мюрри Дж. |
316 |
|
|
|
|
|
Набер Ж. |
316 |
|
|
|
|
|
Наторп П. |
79, 337 |
|
|
|
|
|
Недонсель М. Г. |
316 |
|
|
|
|
|
Нейрат О. |
79, |
126 |
|
|
|
|
Ницше Ф. |
7,33,60,82,88, 110, 121, 152, 157,240,241,247, |
|||||
|
256, |
263, |
266, |
315, |
360, |
391 |
Ньюмен Дж. Г. |
316 |
|
|
|
|
|
439

Указатель имен
Ньютон И. |
73,86,97. 116, 134.360.435 |
|
||||
Оккам У. |
313 |
|
196~ 199,200 |
|
|
|
Ортега-и- Гассет Х. |
10, 183. |
|
|
|||
Остин Дж. |
368 |
|
|
|
|
|
Парменид |
150. |
152. 192 |
|
|
|
|
Паскаль Б. |
101, 121. 14],270,286,298,313 |
|||||
Пеги Ш. |
262.280,315 |
|
. |
|
||
Пиаже Ж. |
3бб, 371 |
|
|
|
|
|
Пикассо П. |
115 |
|
|
|
|
|
Пирс Ч. С. |
3б7 |
|
|
|
|
|
Пифагор |
140, 289, 424 |
|
|
|
||
Планк М. |
79 |
|
|
|
|
|
Платон |
8,30,33, б8. 72, 84, 102, 104, 110, 124, 125, 140, 148, |
|||||
|
150-152, 155, 163, 164. 184, 185.224.230,234. 23б, |
|||||
|
244,247. 2б9, 279, 286, 289, 290, 292, 310. 327, 332, |
|||||
|
342, |
355, |
357, |
389, 421, |
425, |
434 |
Плотин |
223, 286, 295, 31О, 332 |
|
|
|||
Поппер К. |
7. 123, 137 - 141,742.355,360,364, 3б6, 382 |
|||||
Прудон П. |
315 |
|
|
|
|
|
Пруст М. |
87.121,298,352,388 |
|
|
|||
Птолемей |
113 |
|
|
|
|
|
Пушкин А. С. |
330 |
|
|
|
|
|
Райл Дж. |
102, 109 |
|
|
|
|
|
Рассел Б. |
Гб, 33, 34,41,80, 127, 130,265,340 |
|||||
Рейхеибах Г. |
138 |
|
|
|
|
|
Ренувье Ш. |
307,315 |
|
|
|
|
|
Рескин Дж. |
316 |
|
|
|
|
|
Рид Г. |
316 |
|
|
|
|
|
Рикёр П. |
316,317,318 |
|
|
|
||
Риккерт Г. |
30б, 336 |
|
|
|
|
|
Рильке Р.М. |
1]6,270 |
|
|
|
|
|
Ройс Дж. |
316 |
|
|
|
|
|
Розенцвейг Ф. |
330 |
|
|
|
|
|
Рорти Р. |
362, 3б9-371, 381, 382 |
|
|
|||
Руссо Ж. Ж. |
274,313.397 |
|
|
|
||
Сартр Ж.-П. |
9, 10. 159, 162, 174 - 180,181, 182,248,269,370 |
|||||
Сезан П. |
271 |
|
|
|
|
|
Скиннер Б. Ф. |
133 |
|
|
|
|
|
Скот д. |
208 |
|
|
|
|
|
Сократ |
34, 39, 69, 71, 72, 124, 125, 148. 150. 185. 205, 23б, |
|||||
|
277,310,311.313,314.318,350.351 |
|||||
Соловьев В. |
240 |
|
|
|
|
|
Соловьев Э. 10. |
236 |
|
|
|
|
|
Софокл |
310 |
|
|
|
|
|
Спенсер Г. |
63, 248, 254 |
|
|
|
||
Спиноза Б. |
б7,84, 101, 112, Ilб, 124 - 12б, 168,207,222 |
|||||
Стендаль |
298 |
|
|
|
|
|
Стросон П. |
3б4 |
|
|
|
|
|
Тейяр де Шарден П. |
222 |
|
|
|
|
|
440
Указатель имен
Толстой Л. Н. |
33. 280. 298. 318, 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Трубников Н. Н. |
11. 416. 432-435 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Тургенев И. С. |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тюрго А. Р. Ж. |
193,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уайтхед А. Н. |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уитмен У. |
307 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уотсон Дж. Б. |
133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фалес |
229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фариес В. |
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фейгель Г. |
79, 12б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фейерабенц П. |
139, 36б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фейербах Л. |
298,311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фергюсон Р. |
193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ферма П. |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фихте И. Г. |
70, 128, 151,238,318 |
|
|
|
|
|
|
||||
Флюэллинг Р. Т. |
31б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фома Аквинский |
2б9, 280. 282, 284, 285, 290, 297, 312, 316, 318 |
|
|||||||||
Франко Б. |
19б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гб. 80, 94, 9б, 98, 114 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Фреге Г. |
|
|
|
|
|
|
|||||
Фрейд 3. |
128,298,343,371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3б5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фрейер Х. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фукилид |
369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фуко М. |
366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хабермас Ю. |
10, 11, 3БО, 376-382 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Хайдеггер М. (Гейдеггер) |
б, 8-10, 56, 61, б5, 141, 145, 159-1бl, 247, 253, 2б3, |
||||||||||
|
270,271,285,291,304,305, 30б, 318, 326, 330, 338, |
||||||||||
|
339. 354-35б, 369, 380, 381,407,410,411,425 |
|
|||||||||
Хаксли О. |
309,318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хомский А. Н. (Хомски) |
371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хомяков А. |
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хоркхаймер М. |
351,358, 3бб, 376 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Хэмпшайр С. |
117,722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цезарь Г. Ю. |
49,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целлер Э. |
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цильзель Э. |
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цицерон |
199.318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чемен К. |
121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шекспир В. |
298, 435 |
285, |
291, |
298, |
303. |
305, |
315, |
318, |
330, |
337 |
|
Шелер М. |
254, |
266, |
|||||||||
|
339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шелли П. Б. |
87,121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шеллинг Ф. В. И. |
70,151,157,380 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Шеффер В. |
114,722 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шёнберг А. |
352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шлик М. |
7,41,62,66,79 - 82, 117, 118,722, 126, 137,340 |
|
|||||||||
358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шмилт А. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шопенгауэр А. |
33, 78, 84 - 87, 25б, 323 |
|
|
|
|
|
|
||||
441
