
книги / 37
.pdfПусть t1 – давность повреждения, равная 70 ч; t2 – давность повреждения, равная 255 ч; t0 – неизвестная истинная давность
повреждения; событие |
|
F1H1C1 |
- образование всех повреждений в |
|||||||||
срок t |
; событие |
F H C |
- образование перелома и гематомы в срок |
|||||||||
|
1 |
|
1 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
t |
, а размозжения головного |
мозга в срок t |
; событие |
F H C |
- |
|||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
1 |
2 |
1 |
|
образование перелома и размозжения в срок t1, а гематомы в срок
t |
; событие F H |
2 |
C - образование перелома в срок t |
, а гематомы и |
||||||||||||||
2 |
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
размозжения |
в |
|
срок |
t |
; событие |
F H C |
- |
образование |
всех |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
повреждений в срок t |
; событие F H C |
- |
образование гематомы в |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
срок t |
, а перелома и размозжения в срок t |
; |
событие F H C |
- |
||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
2 |
2 |
1 |
|
образование размозжения в срок t1, а перелома и гематомы в срок
t |
; событие |
F H C |
- образование гематомы и размозжения в срок t , |
||
2 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
а перелома в срок t2. Для ответа на поставленный следствием вопрос необходимо определить апостериорные вероятности каждой гипотезы из 8 указанных возможных, образующих полную группу событий.
Решение экспертной задачи. Первоначально устанавливалась давность субдуральной гематомы. При отсутствии какой-либо информации об изменениях твердой мозговой оболочки неизвестная давность гематомы t0 может соответствовать любому значению, принадлежащему полуоткрытому промежутку 0;tmax
при tmax . В данном случае при судебно-гистологическом
исследовании каких-либо проявлений инкапсуляции гематомы обнаружено не было. Между тем, процессы инкапсуляции субдуральной гематомы независимо от ее объема начинаются уже в первые 24 ч после кровоизлияния, а максимальная давность субдуральных гематом, у которых на светооптическом уровне может быть не различим наружный листок капсулы, не превышает
7 суток [50,87,145].
Тогда априорная вероятность |
P(Ht |
) 0 . В |
то же время |
||
|
|
|
|
2 |
|
вероятности несовместных событий |
|
|
|
|
|
Р(Ht |
) Р(Ht |
t t |
) 0. |
|
|
1 |
0 |
1 |
2 |
|
|
Учитывая дополнительную |
информацию |
относительно |
|||
давности повреждений, условные вероятности для наблюдаемого события при рассматриваемых гипотезах будут
Pt1 (H ) 1, Pt2 (H ) 1, Pt0 t1 t2 (H ) 0 .

С учетом новой информации гипотезы
H |
t |
|
2 |
и |
H |
t |
0 |
t |
t |
2 |
|
1 |
|
отвергаются, а оставшаяся альтернативная гипотеза является достоверным событием:
PH (t1 ) 1,
т.е. давность субдуральной гематомы достоверно равняется 70 ч. Для определения априорных вероятностей давности
размозжения головного мозга потребуется дополнительная информация о распределении сроков морфологических проявлений изолированной фазы экссудации.
Установлено, что хронология изолированной экссудативной фазы воспалительно-репаративной реакции в церебральных контузионных очагах при непроникающей черепно-мозговой травме аппроксимируется экспоненциальным распределением с функцией плотности
|
|
|
|
|
|
f (x) Ae |
Ax |
, |
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
где |
А 0,01413725 |
[52,63]. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Тогда согласно формуле (1) априорные вероятности гипотез |
|||||||||||||||||||
образования размозжения головного мозга в сроки t1 |
и t2 |
равны: |
||||||||||||||||||
|
|
|
t1 |
ε |
|
At |
|
A(t1 ε) |
|
A(t1 |
ε) |
|
|
|
||||||
|
P(Ct |
) A |
|
|
e |
dt e |
e |
, |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
1 |
|
ε |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
t |
|
ε |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
At |
|
A(t |
|
ε) |
|
|
A(t |
|
ε) |
|
|
||
|
P(Ct |
|
) A |
|
e |
dt e |
|
e |
|
. |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2 |
t |
|
ε |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принимая ε 0,0001, получаем
P(Ct |
) e |
0,01413725(70 0,0001) |
e |
0,01413725(70 0,0001) |
1,051 10 |
6 |
, |
|
|
|
|
||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
P(C |
t |
) e 0,01413725(255 0,0001) e 0,01413725(255 0,0001) 7,687 10 8 |
||||||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Отсюда по формуле Байеса устанавливаем, что
.
|
|
|
|
P(Ct |
) |
|
|
|
1,051 10 |
6 |
|
|
|||||
P |
(t |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
C |
|
1 |
|
P(Ct |
) P(Ct |
|
) |
|
1,051 10 |
6 |
7,687 |
10 |
8 |
||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P(Ct |
|
) |
|
|
|
7,687 10 |
8 |
|
|
||||
P |
(t |
|
) |
2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
|
2 |
|
P(Ct |
) P(Ct |
|
) |
|
1,051 10 |
6 |
7,687 |
10 |
8 |
||||
|
|
|
|
2 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,931846 ,
0,068154 .
Таким образом, давность очага размозжения с вероятностью 93,2% равняется 70 ч и с вероятностью 6,8% - 255 ч.
Поскольку костная и мягкие ткани из зоны перелома черепа микроскопически не исследовались, то в целях установления
давности перелома использовались данные о вероятностях различных типов ассоциации переломов черепа и очаговых повреждений головного мозга. Известно, что при травме головы формирование контузионных очагов головного мозга в 93% случаев сочетается с образованием переломов черепа [87]. Соответственно, вероятность изолированного размозжения головного мозга составляет 7%. Кроме того, 75% очагов ушибов и размозжений головного мозга при травме головы локализуются на стороне противоудара и лишь 25% - на стороне удара [87].
Введем дополнительные обозначения: событие А – ассоциированное образование перелома и контузионного очага в рамках одного травмирующего воздействия; событие S - образование каждого повреждения в результате разных травмирующих воздействий; событие О – расположение контузионного очага контралатерально по отношению к перелому; событие I – расположение контузионного очага гомолатерально по отношению к перелому.
Таким образом, в отношении образования перелома черепа и размозжения головного мозга полная группа событий представлена следующими несовместными гипотезами: AO, AI и S. Поскольку события AO, AI и S взаимно независимы, то в соответствии с теоремой умножения вероятностей априорные вероятности указанных гипотез равны:
P(AO) P(A) PA (O) 0,93 0,75 0,6975,
P(AI ) P(A) PA (I ) 0,2325,
P(S) 0,07.
Отсюда получаем важное следствие: априорная вероятность одновременного образования перелома черепа и размозжения головного мозга вследствие одного травмирующего воздействия с расположением контузионного очага на стороне противоудара составляет 69,75%.
В анализируемом случае с учетом следственных данных гипотеза AI исключается. Тогда по теореме Байеса апостериорные вероятности оставшихся гипотез равны
PAO
PS
0,6975 /(0,6975 0,07 /(0,6975
0,07) 0,07)
0,908795,
0,091205 .
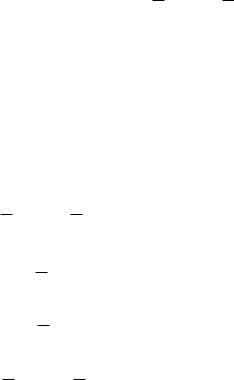
Нужно подчеркнуть, что каждое из событий AO и S по отношению к конкретным обстоятельствам рассматриваемого наблюдения само по себе представляет сумму событий:
AO F1C1 F2C2 ,
S F1C1 F2C2 F1C2 F2C1.
Отсюда, предполагая априорную равновероятность событий, образующих полные группы AO и S, заключаем, что
P(F C ) P(F C |
|
) |
1 |
P |
|
2 |
|
||||
1 1 |
2 |
|
2 |
AO |
|
|
|
|
|
|
|
1 4
PS
,
Поскольку гипотез 4 (
P(F C |
) P(F C ) |
1 |
P . |
|||
|
||||||
|
1 2 |
|
2 1 |
4 |
|
S |
PH (t1 ) 1 |
, то из 8 предполагавшихся первоначально |
|||||
F1H2C1 , |
F1H2C2 , |
F2 H2C2 , |
F2 H2C1 ) являются |
|||
невозможными. С учетом остальных данных апостериорные вероятности оставшихся несовместных гипотез составляют
P (F H C ) |
|
1 |
P |
|
|
||
1 1 1 1 |
2 |
AO |
|
|
|
|
1 PS
4
|
P |
(t |
) P |
(t |
) |
|
|
||||||
H |
1 |
C |
1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
0,444676
,
P (F H C |
) |
|||
1 |
1 |
1 |
2 |
|
P (F H C ) |
||||
1 |
2 |
1 |
1 |
|
1
4 1
4
PS PS
PH (t1 ) PC (t2 ) 0,001554 ,
PH (t1 ) PC (t1 ) 0,021247 ,
P (F H C |
) |
|
1 |
P |
|
|
|
||||
1 |
2 1 2 |
|
2 |
AO |
|
|
|
|
|
|
|
1 PS
4
|
P |
(t |
) P |
(t |
|
) |
|
|
2 |
||||||
H |
1 |
C |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
0,032523
.
Используя полученные вероятности в качестве априорных, путем последовательного применения теоремы Байеса получаем апостериорные вероятности второго уровня:
P2 |
(F1H1C1 ) 0,889351, |
|
|
|
P2 |
(F1H1C2 ) 0,003108 |
, |
|
|
P2 (F2 H1C1 ) 0,042495 |
, |
|
|
|
P2 (F2 H1C2 ) 0,065046. |
|
|
||
Учитывая информацию об источнике кровоизлияния в |
||||
субдуральное пространство, гипотезы F1H1C2 |
и |
F2 H1C2 также |
||
исключаются, а искомые вероятности полной группы оставшихся гипотез составят
P3 (F1H1C1 ) 0,889351/(0,889351 0,042495) 0,954397 , P3 (F2 H1C1 ) 0,042495 /(0,889351 0,042495) 0,045603.
Итак, при изложенных условиях давность внутричерепных повреждений достоверно равна 70 ч. Давность перелома черепа с вероятностью 95,4% равна 70 ч и с вероятностью 4,6% - 255 ч.
Таким образом, процедура судебно-медицинской реконструкции на основе представленной вероятностной модели включает формулирование полной группы гипотез, каждая из которых могла привести к реализации юридически значимого события, установление априорных вероятностей каждой гипотезы из полной группы рассматриваемых, определение вероятностей указанных гипотез в реконструируемых условиях, последовательную переоценку априорных вероятностей анализируемых гипотез с формулированием соответствующих экспертных выводов. В итоге изложенная процедура реконструкции позволяет квантитативно оценивать вероятности реализации юридически значимых событий при любых конкретных условиях, что определяет объективность и научную обоснованность формулируемых экспертных выводов.
ГЛАВА 5. ВЕРОЯТНОСТНОЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ
5.1. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСХОДА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
Всовременных условиях уголовное судопроизводство во многом основывается на определении степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ характер и степень вреда, причиненного преступлением, являются обстоятельствами, в обязательном порядке подлежащими доказыванию. В соответствии с п. 2 ст. 196 УПК РФ единственным способом доказывания характера и степени вреда здоровью, причиненного преступлением, при производстве по уголовному делу является судебно-медицинская экспертиза.
Внастоящее время судебно-медицинское определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, регулируется пакетом нормативных правовых актов, включающим Федеральный закон от 02.02.2006 г. № 23-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2007 г. № 522 и приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.04.2008 г. № 194н [72-74]. В соответствии с данными нормативными правовыми актами под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение анатомической целости и физиологической функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, биологических и психогенных факторов внешней среды. Вред, причиненный здоровью человека, определяется в зависимости от степени его тяжести на основании ряда квалифицирующих признаков. Медицинской характеристикой квалифицирующих признаков являются медицинские критерии, которые используются для оценки повреждений, обнаруженных при судебно-медицинском обследовании живого лица, исследовании трупа и его частей, а также при производстве судебно-медицинских экспертиз по материалам дела и медицинским документам.
Сразу после своего введения в практику, медицинские критерии явились объектом критики со стороны многих судебных медиков [см. напр. 106]. Не вдаваясь в обсуждение существующих дискуссионных моментов, в настоящем разделе нами будет
рассмотрен лишь один аспект определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, не затронутый ни разработчиками, ни критиками соответствующих Правил, но актуальный в плане практической экспертной деятельности и интересный в русле обсуждаемой в данной работе тематики.
Указанный аспект касается проблемы моделирования исхода вреда, причиненного здоровью человека. Существование данной проблемы определяется пп. 16 и 27 приложения к приказу Минздравсоцразвития России № 194н [74]. В частности, в соответствии с п. 16 упомянутого приложения предотвращение смертельного исхода, обусловленное оказанием медицинской помощи, не должно приниматься во внимание при определении степени тяжести вреда здоровью. Согласно же п. 27 степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, не определяется, если сущность вреда здоровью определить не представляется возможным или не ясен исход вреда здоровью, не опасного для жизни человека.
Реализация изложенных положений в судебно-медицинской экспертной деятельности может сопровождаться возникновением ряда неблагоприятных последствий. Речь идет об обширной группе повреждений, естественное течение которых при отсутствии специализированной медицинской помощи закономерно приводит к смертельному исходу. Однако летальный исход при таких повреждениях развивается не сразу после их причинения, а отсрочено, иногда спустя значительный временной промежуток, измеряемый днями и неделями. При этом на значительном протяжении указанного промежутка времени клинические проявления данных повреждений не позволяют квалифицировать их как опасные для жизни человека (т.е как создавшие угрозу для его жизни или вызвавшие развитие угрожающего жизни состояния). Если естественное течение какого-либо повреждения из анализируемой группы прерывается адекватным медицинским вмешательством или смертью потерпевшего от причины, не связанной с фактом травмы, то определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, становится невозможным.
Наиболее ярким представителем травматических повреждений, характеризующихся отсроченным развитием функциональных проявлений, позволяющих квалифицировать причиненный вред здоровью, как опасный для жизни человека, являются
субдуральные гематомы. Указанным повреждениям в значительной степени присуща определенная фазность их клинического развития. Под фазностью в данном случае понимается закономерная направленность изменения состояния потерпевшего, вызванная субдуральной гематомой в тесной взаимосвязи с компенсаторно-приспособительными возможностями головного мозга и организма в целом, проявляющаяся характерной динамикой клинической симптоматики (общемозговой, очаговой, стволовой и общеорганизменной).
Внастоящее время в клиническом течении субдуральных гематом выделяют 5 фаз, отличающихся совокупностями разнообразных признаков, определяющих степень нарушения компенсаторных реакций в том или ином промежутке времени:
1) фаза клинической компенсации;
2) фаза клинической субкомпенсации;
3) фаза умеренной клинической декомпенсации;
4) фаза грубой клинической декомпенсации;
5) терминальная фаза [87].
Всудебно-медицинском отношении было предложено объединение первых трех фаз клинической динамики субдуральных гематом в так называемый «светлый промежуток», а последние две фазы - в интегральный терминальный промежуток
[65].Сохранение этого выделения целесообразно и в аспекте настоящего изложения.
Из универсального множества травматических субдуральных кровоизлияний действующие нормативно-правовые акты, регулирующие судебно-медицинское определение степени тяжести вреда здоровью, к числу медицинских критериев вреда здоровью, опасного для жизни человека, относят только такие субдуральные гематомы, клиническая динамика которых сопровождалась наличием общемозговых, очаговых и стволовых симптомов (п. 6.1.3 приложения к [75]) или развитием комы II - III степени (п.
6.2.2 приложения к [75]). Важно отметить, что все указанные функциональные расстройства присущи только субдуральным гематомам, клиническая динамика которых достигла интегрального терминального промежутка. Смертельные же субдуральные гематомы, естественное течение которых в силу имеющихся компенсаторных резервов головного мозга и организма в целом
еще не вышло за пределы светлого промежутка, не могут являться медицинским критерием опасного для жизни вреда здоровью.
Поэтому, если естественное течение травматической субдуральной гематомы было прервано адекватным медицинским вмешательством, например, радикальным хирургическим удалением последней, то причиненный здоровью потерпевшего вред может быть квалифицирован как тяжкий только по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть (пп. 1 и 2 таблицы процентов стойкой утраты общей трудоспособности к приложению к [74]). В этой связи все травматические субдуральные гематомы, закономерный летальный исход которых был предотвращен радикальным хирургическим удалением кровоизлияния в течение светлого промежутка его клинической динамики, делятся на два взаимно дополняющих подмножества.
Первое подмножество образуют гематомы, остаточные явления которых характеризуются как стойкая утрата общей трудоспособности более 30%, а второе – не более 30%. Очевидно, что в практической судебно-медицинской деятельности вред здоровью, причиненный травматическими гематомами первого подмножества, будет квалифицирован как тяжкий по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть, а аналогичные кровоизлияния второго подмножества – как вред средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья. Нетрудно заметить, что во втором случае оценка степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, произведена неверно, поскольку учитывает предотвращение смертельного исхода, обусловленное оказанием медицинской помощи.
Кроме того, в практике нередкими являются ситуации, когда закономерное наступление интегрального терминального промежутка в динамике травматической субдуральной гематомы не происходит вследствие смерти потерпевшего от причины, не связанной каузальными отношениями с субдуральным кровоизлиянием. В этих случаях судебно-медицинские эксперты, ссылаясь на п. 27 приложения к [74], вообще отказываются от оценки степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.
Следует отметить, что рассмотренные ошибки и затруднения при определении степени тяжести вреда здоровью присущи не
только субдуральным гематомам, но и другим внутричерепным кровоизлияниям, а также иным травматическим повреждениям, закономерный смертельный исход которых был предотвращен медицинским вмешательством или смертью пострадавшего от иной причины. Изложенное определило необходимость разработки способов судебно-медицинского моделирования исхода повреждений, не опасных для жизни человека к моменту искусственного прерывания их естественного течения.
Ниже будет рассмотрена процедура построения методики вероятностного судебно-медицинского моделирования исхода травматических субдуральных гематом.
Непосредственной причиной смерти при субдуральных гематомах являются сдавление и дислокация головного мозга. В связи с этим большой интерес в аспекте рассматриваемой проблемы представляет установление факторов, влияющих на развитие дислокации головного мозга при травматических субдуральных гематомах, и измерение степени этого влияния.
В качестве основных факторов, определяющих развитие дислокации головного мозга при травматических субдуральных гематомах, в настоящее время рассматриваются локализация (супратенториальная, субтенториальная или смешанная) и объем гематом, их ассоциация с другими источниками сдавления головного мозга, а также с наличием либо отсутствием церебральной атрофии [54,57,59,67]. Однако степень влияния на развитие дислокации мозга каждого из указанных факторов до сих пор не установлена. Это обстоятельство определило цель проведенного авторами исследования - количественную оценку основных факторов риска дислокации головного мозга при травматических субдуральных гематомах.
Объектами исследования явились 258 наблюдений непроникающей черепно-мозговой травмы с наличием супратенториальных субдуральных гематом у 206 мужчин и 52 женщин в возрасте 15-89 лет. Во всех наблюдениях имела место изолированная черепно-мозговая или сочетанная травма с преобладанием черепно-мозгового компонента и известными обстоятельствами и давностью причинения. Всем пострадавшим оказывалась специализированная медицинская помощь, в процессе которой осуществлялось динамическое обследование, включавшее эхоэнцефалоскопию и/или компьютерную томографию. Во всех
