
- •Содержание
- •Комментарии
- •Зарубежная практика
- •Дайджесты
- •Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации по вопросам частного права за сентябрь 2018 г.
- •Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации по налоговым спорам за август — сентябрь 2018 г.
- •Обзор правовых позиций Верховного Суда РФ по вопросам процессуального права за август — сентябрь 2018 г.
- •Свободная трибуна
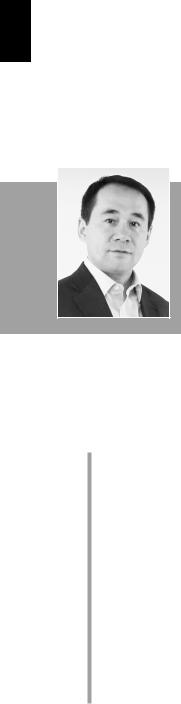
Свободная трибуна
Кирилл Вадимович Нам
кандидат юридических наук, LLM, магистр частного права
Комментарий к #Глоссе.
Условные сделки. Немецкий подход
Настоящая статья содержит анализ и изложение подходов немецкого права к рассматриваемым в Комментарии #Глосса вопросам правового регулирования условных сделок (ст. 157 ГК РФ) и по своей сути представляет собой комментарий к комментарию. Благодаря такому подходу удалось продемонстрировать, как решаются в немецком праве те проблемные вопросы, которые возникают в российском праве в связи с толкованием и применением норм об условных сделках. В частности, в немецком праве не является спорным вопрос о том, могут ли ставиться под условие лишь отдельные права и обязанности, а не вся сделка, не вся совокупность прав и обязанностей по ней. Немецкое право допускает постановку под условие отдельных прав и обязанностей. Актуальный и не решенный в российском праве вопрос правового режима временнóго периода между заключением условной сделки и наступлением оговоренного условия в немецком праве имеет достаточно четкое и логическое регулирование, которое защищает заинтересованную сторону от возможных злоупотреблений другой стороны.
Ключевые слова: условные сделки, отлагательное условие, отменительное условие, немецкое право
75

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
Kirill Nam
PhD in Law, LLM, Master of Private Law
Comment to #Gloss. Conditional Тransaction.
German Аpproach
This article contains an analysis and description of the approach of German law to the issues of the legal regulation of conditional transactions (art. 157 of the Civil Code of the RF) examined in #Gloss Commentary series and is in essence a comment to a comment. Such an approach has allowed demonstrating how German law solves the problems which arise in Russian law in connection with the interpretation and application of the norms of conditional transactions. In particular, in German law, the issue whether only separate rights and obligations and not the transaction as a whole and not the entire aggregation of rights and obligations under it can be conditioned is not questionable. German law allows conditioning separate rights and obligations. Another pressing and unsolved issue in Russian law is the issue of legal regulation of the time period between the conclusion of a conditional transaction and the occurrence of a stipulated condition. Again, this issue is rather clearly and logically regulated in German law, and such regulation protects the interested party from possible abuse on the part of the other party.
Keywords: conditional transactions, suspensive condition, resolutive condition, German law
Введение
Выход комментариев к гражданскому законодательству из серии #Глосса1 (далее также — Комментарий #Глосса, #Глосса) стал заметным явлением в юридической среде. До этого едва ли какие-либо постатейные комментарии могли похвастаться такой же глубиной анализа рассматриваемых вопросов. Но масштабность подхода выявила или как минимум еще раз подчеркнула слабую доктринальную проработку многих комментируемых вопросов в российском праве, влияющую на качественный уровень судебной практики, которая, в свою очередь, призвана поставлять эмпирический материал для ученых мужей. В этой ситуации важным, а порой и незаменимым является иностранный правовой опыт, и не в последнюю очередь немецкий как наиболее близкий к российскому гражданскому праву по своей систематике и правовой ментальности. При этом обращение к немецкому опыту в практическом плане не должно ограничиваться обзором «как оно у них», а может и должно помогать формировать собственную правовую доктрину.
Комментируемые в настоящей статье положения об условных сделках получили в #Глоссе объемную и глубокую проработку. Далеко не все статьи Гражданского кодекса РФ могут похвастаться наличием столь солидного комментария. Но при этом большинство выводов в материале А.Г. Карапетов обозначает как предположения, пожелания. Многие выводы, сделанные интуитивно, на основании
1См.: Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 ГК РФ / под ред. А.Г. Карапетова. М., 2018.
76

Свободная трибуна
правовой логики, совпадают с подходами немецкого права. Констатируется, что на многие вопросы практически нет ответов в российском праве и доктрине. Изучение и анализ подходов немецкого права к регулированию не только условных сделок, но и других норм и правовых институтов гражданского права должен помочь более уверенно и систематизированно взглянуть на соответствующие российские нормы, а также дать почву для понимания, осмысления и дальнейшего применения малоизученных в нашем праве вопросов. Забегая вперед, следует подчеркнуть, что особенно большое значение имеет использование сравнитель- но-правового метода при рассмотрении норм ГК РФ, не могущих похвастаться таким комментарием, как нормы об условных сделках.
Нормы Германского гражданского уложения, посвященные условным сделкам
§ 158. Отлагательное и отменительное условие
(1)Если сделка совершена под отлагательным условием, то ее действие, поставленное в зависимость от такого условия, наступает с наступлением условия.
(2)Если сделка совершена под отменительным условием, то с наступлением такого условия действие сделки прекращается и с этого момента восстанавливается прежнее правовое положение.
§ 159. Обратное действие
Если согласно содержанию сделки последствия, связанные с наступлением условия, должны иметь обратное действие на какой-то более ранний срок, то в случае наступления условия стороны обязаны предоставить друг другу то, что они имели бы, если бы эти последствия наступили в такой более ранний срок.
§ 160. Ответственность во время подвешенного состояния
(1)Лицо, приобретающее права, поставленные под отлагательное условие, может в случае наступления условия потребовать от другой стороны возмещения убытков, если права, поставленные под отлагательное условие, не возникли или были нарушены во время подвешенного состояния по вине другой стороны.
(2)Такое же требование при таких же условиях имеет тот, в чьих интересах в силу сделки, совершенной под отменительным условием, наступает прежнее правовое состояние.
§ 161. Недействительность распоряжений во время подвешенного состояния
(1) Если лицо поставило распоряжение предмета сделки под отлагательное условие, то все последующие распоряжения, которые оно совершает в отношении этого предмета во время подвешенного состояния, в случае наступления условия счита-
77

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
ются недействительными в том случае, если они нарушают право, поставленное под условие, или препятствуют его возникновению. Таким последующим распоряжением также считаются производимые во время подвешенного состояния обращение взыскания на предмет сделки в процессе исполнительного производства, ареста и принудительного взыскания, а также распоряжение им управляющим по делу о несостоятельности.
(2)То же правило действует в случае с отменительным условием в отношении распоряжений того лица, чье право прекращается с наступлением условия.
(3)Подлежат применению правила, защищающие права тех, кто получил их от неуполномоченных лиц.
§ 162. Воспрепятствование или содействие наступлению условия
(1)Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой его наступление невыгодно, условие считается наступившим.
(2)Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которое его наступление выгодно, условие считается ненаступившим.
§ 163. Установление срока
Если при совершении сделки был установлен срок начала или окончания ее действия, то в первом случае применяются правила об отлагательном, а во втором — об отменительном условии, содержащиеся в § 158, 160, 161 ГГУ.
Комментарий к #Глоссе (ст. 157 ГК РФ)
Общие замечания по теме условных сделок (п. 1–2 Комментария #Глосса)
В немецком праве условные сделки регулируются § 158–163 ГГУ.
Условие в условных сделках, как и родственный институт привязки действия прав и обязанностей к определенному сроку, служит приспособлению, адаптации правового действия сделки к возможным, т.е. распознаваемым рискам и изменениям, которые могут случиться в будущем2. Значение условных сделок с догматической точки зрения заключается в основном в том, чтобы стороны могли отойти от совпадения момента заключения самой сделки с моментом начала действия ее правовых последствий. Возможность посредством таких условий варьировать моменты и периоды действия прав и обязанностей представляет собой проявление одного из основных начал частного права — автономии воли сторон,
2См.: Finkenauer F., in: HKK zum BGB Band I Allgemeiner Teil. §§ 1–241. Tübingen, 2003. S. 881.
78
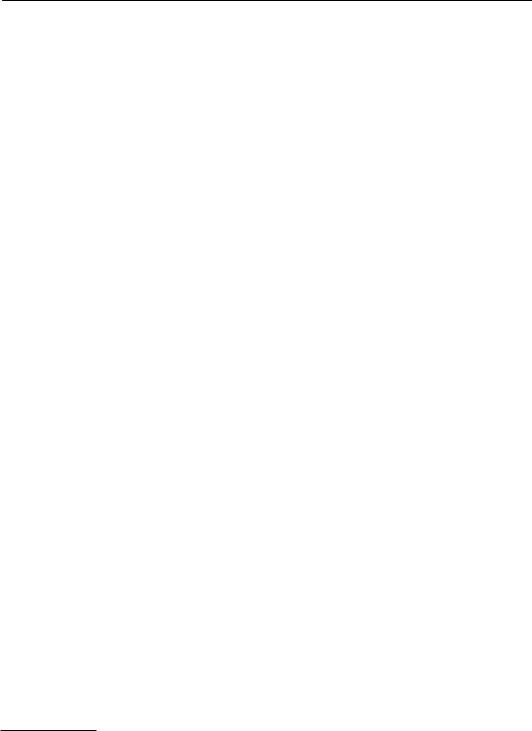
Свободная трибуна
позволяет сторонам гибко выстраивать правовые отношения, исходя из своих интересов.
То есть в общем подход к месту и роли условных сделок в немецком и российском праве является схожим.
Понятие условия (п. 1-2.1–1-2.2 Комментария #Глосса)
Понятие условия в контексте условных сделок в немецком праве схоже с тем, что имеется в российском праве. Под условием понимается оговоренное, согласованное сторонами сделки будущее событие, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, и с которым стороны связывают наступление правовых последствий заключенной ими сделки или же, наоборот, прекращение таких правовых последствий3. Квалифицирующим здесь является, во-первых, то, что возможность наступления условия отнесена к будущему, во-вторых, должна наличествовать неуверенность, неизвестность в том, наступит ли такое событие.
Если речь идет о каком-то событии, которое происходит в настоящем или произошло в прошлом, то подлинного условия в смысле § 158 ГГУ не имеется. Однако признается, что нормы об условных сделках могут применяться по аналогии, если стороны обусловили судьбу правовых последствий сделки не с уже имеющимся событием, а с будущим достоверным знанием, информацией о нем4. Например, А и Б договорились, что А покупает у Б автомобиль за 1 000 000 руб., если выиграет в лотерею, розыгрыш которой состоится на следующий день. В данной ситуации имеет место отлагательное условие в строгом смысле слова. Если А и Б заключают договор купли-продажи автомобиля с условием, что А выиграл в лотерею, розыгрыш которой состоялся днем ранее, но ни А, ни Б еще не знают результатов, так как они еще не объявлялись. В этой ситуации речь не о будущем событии, а о незнании сторон о нем. То есть здесь нельзя говорить об отлагательном условии в чистом виде. Но немецкое право будет регулировать данные ситуации схожим образом, поскольку и в одной и в другой налицо незнание обеих сторон. С точки зрения правового регулирования разницы здесь нет. Подчеркивалось, что применение в таких случаях § 158 ГГУ по аналогии объясняется соображениями правовой логики5.
В § 158 ГГУ текстуально слово «условие» употребляется в двух значениях. Во-первых, в качестве условия сделки, в силу которого судьба правовых последствий привязывается к какому-то событию. Во-вторых, условием названо и само событие, играющее роль для правовых последствий. То есть можно сде-
3См.: Wolf M., Neuner J. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts 11. Auflage, München, 2016. § 52. Rn. 1.
4См.: Brox H., Walker W.-D. Allgemeiner Teil des BGB 41. Auflage. München, 2017. Rn. 481.
5См.: Westermann H.P., in: Münchener Kommentar zum BGB Allgemeiner Teil §§ 1–240. 7. Auflage. München, 2015. § 158. Rn. 52.
79

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
лать вывод, что если термин «условие» применяется в обоих значениях, то можно говорить о наличии юридического факта, влекущего правовые последствия. Хотя какого-то теоретического и практического смысла такой догматический подход не имеет. Ведь нет смысла рассматривать обычное условие договора, например об оплате товара, в качестве юридического факта. Немецкое право считает важным лишь допустимость с точки зрения правового регулирования тех или иных событий в рамках правового регулирования условных сделок. Если такие события допустимы и стороны связали с ними судьбу правовых последствий сделки, то, само собой разумеется, эти условия будут иметь правовые последствия.
Отлагательное условие и совершенность сделки (п. 1-2.3 Комментария #Глосса)
Сделка с отлагательным условием считается в немецком праве заключенной
иимеющей юридическую силу с момента ее заключения с учетом соблюдения общих правил по заключению сделок. В соответствии с § 158 ГГУ под условие ставится не действительность сделки и не факт ее заключения, а правовые последствия заключенной и действительной сделки. Если условная сделка заключена с соблюдением всех общих требований (правоспособность, дееспособность, отсутствие пороков волеизъявления и т.д.), то она считается заключенной
идействительной. При этом общие требования к совершению сделки должны соблюдаться не в момент наступления оговоренного условия, а в момент ее заключения6. Отмечается, что при заключении отлагательно обусловленной сделки ограничение воли сторон направлено не на факт ее заключения, а на момент наступления или прекращения ее правовых последствий7.
Последствием такого подхода является то, что стороны связаны заключенной сделкой, не могут произвольно ее расторгнуть. Заключение сделки с отлагательным условием означает наступление между сторонами специального правового состояния, заключающегося в ожидании наступления оговоренного условия. Такое состояние ожидания (Anwartschaft) влечет в немецком праве, в отличие от российского, определенные правовые последствия.
Последовательность подхода о том, что условная отлагательная сделка считается заключенной с момента ее заключения, а не с момента наступления оговоренного условия, проявляется в Германии в нормах о конкурсном производстве (§ 191 Закона Германии о банкротстве (Insolvenzordnung, InsO)). Права из условных сделок относятся к имуществу управомоченного лица и тем самым, в случае его несостоятельности, входят в конкурсную массу. Само право ожидания из отлагательных условных сделок может быть реализовано арбитражным управляющим с целью включения вырученных средств в конкурсную мас-
6См.: Wolf M., Neuner J. Op. cit. § 52. Rn. 32.
7См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. Buch 1. §§ 139–163. Berlin, 2015. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 6.
80

Свободная трибуна
су8. Как видно, немецкое право занимает в этом вопросе иную позицию, чем нормы о банкротстве в российском праве (п. 2 ст. 61.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которым «для целей настоящего Федерального закона сделка, совершаемая под условием, считается совершенной в момент наступления соответствующего условия».
Условная сделка и условные права и обязанности (п. 1-2.4 Комментария #Глосса)
В немецком праве в условных сделках, как уже было сказано, под условие ставится не сама сделка, а ее правовые последствия. В силу содержания сделки (договора) стороны могут приобретать различные права и обязанности. Правовые последствия сделки означают действительное наличие таких прав и обязанностей. Если правовые последствия наступили, то и соответствующие права и обязанности имеют место. Ни в литературе, ни в практике не встает вопрос о том, что в силу норм об условных сделках под условие могут ставиться только все права и обязанности в совокупности. В некоторых источниках указывается, что действительность сделки связана с наступлением оговоренного условия, — в таких случаях подразумеваются лишь те правовые последствия, которые поставлены под условие. Это могут быть как полностью все права и обязанности из сделки, так и отдельные.
На практике часто встречаются ситуации, когда условие в условной сделке призвано служить тому, чтобы стимулировать какое-то определенное поведение другой стороны. Например, А и Б заключают договор купли-продажи. Договор содержит условие, согласно которому если Б платит покупную цену наличными, то он получает скидку в цене товара. Такое условие должно побудить Б к оплате не перечислением, а наличными денежными средствами. В данном случае от условия зависит не действительность договора или наличие всех прав и обязанностей по договору, а лишь снижение покупной цены9. Или, например, в договоре аренды жилого помещения арендатор по условиям договора, как правило, обязан ежемесячно производить в пользу арендодателя (или обслуживающей организации) фиксированные платежи в счет расходов на коммунальные и иные услуги, связанные с содержанием дома. При перечислении таких платежей арендатор получает право на их возврат под отменительным условием о том, что арендодатель (или обслуживающая организация) своевременно представит надлежащим образом оформленный обоснованный расчет произведенных затрат. То есть из всей совокупности прав и обязанностей под отменительное условие ставится только право арендатора на возврат предварительно уплаченных платежей10.
8Rövekamp K., in: Bamberger/Roth Kommentar zum BGB. Band 1. §§ 1–610. § 158. Rn. 43.
9См.: Stadler A. Allgemeiner Teil des BGB. 19. Auflage. München, 2017. S. 235.
10 |
См.: Ellenberger J., in: Pallandt Kommentar zum BGB. 77. Auflage. München, 2018. § 158. Rn. 4. |
|
81

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
Разграничение условия и срока (п. 1-2.5 Комментария #Глосса)
Квалифицирующим признаком условия в условных сделках является неизвестность касательно того, наступит ли это событие. Если по условиям сделки судьба ее правовых последствий связана с определенным моментом или периодом, который в будущем наступит в любом случае, то речь здесь не об отлагательном или отменительном условии, а о привязке правовых последствий к определенному моменту времени. Он может быть четко определен или определим, либо же его наступление не может быть определено, например в случае смерти человека. Смерть человека не является условием, а представляет собой событие, которое в любом случае рано или поздно наступит. А вот привязка к какому-то определенному дню рождения человека уже должно рассматриваться как условие, поскольку неизвестно, доживет ли человек до этой даты11. С точки зрения правовых последствий различий между условиями и привязками к какому-то моменту времени или к событию, которое наступит в любом случае, в немецком праве не имеется. Согласно § 163 ГГУ правила об условных сделках применяются и к сделкам, в которых стороны связывают судьбу правовых последствий сделки с определенным моментом времени.
Вопросы четкого разграничения условия и срока в немецком праве не имеют большого практического значения в силу их одинакового правового регулирования12. В силу этого же не представляют особого интереса ситуации, когда условие осложнено сроком или наоборот.
Какие правовые последствия сделки могут или не могут ставиться под условие (п. 1-2.6–1-2.7 Комментария #Глосса)
Виды условных правоотношений в немецком праве определяются из общего понимания того, что представляет собой условие в условных сделках. Обусловленным считается не воля сторон, а правовые последствия сделки. От условия зависит наступление тех или иных правовых последствий либо их прекращение. В соответствии с этим под условие могут ставиться как вопросы, касающиеся содержания сделки, так и собственно ее результаты, т.е. есть тот результат, который сторонами предполагался при заключении сделки и являвшийся ее целью13. Из данного подхода следует, что обусловливаться могут как обязанности, относящиеся к предмету сделки, так и порядок исполнения таких обязанностей. То есть речь об обязательственной стороне отношений. Также сторонами могут согласовываться и условия возникновения, наступления результатов распорядительной стороны отношений, в том числе возникновение и наступление вещ- но-правовых эффектов как результата обязательственно-правовой сделки (как будет далее показано, за исключением прав на недвижимость). Стороны могут
11См.: Brox H., Walker W.-D. Op. cit. Rn. 481.
12См.: Wolf M., Neuner J. Op. cit. § 52. Rn. 2.
13См.: Westermann H.P. Op. cit. § 158. Rn. 9.
82

Свободная трибуна
обусловливать переход права собственности на проданную вещь полной оплатой покупной цены. Или, например, переход обязательственных прав при уступке обусловливается какими-то определенными условиями.
Но имеется и ряд ограничений.
Например, выделяют так называемые недопустимые условия14. Сюда среди прочего относят указания на события, которые не могут наступить никогда. Такие невозможные условия делают отлагательно обусловленную сделку недействительной, а отменительнуо обусловленную сделку — безусловно действующей. Аналогичная ситуация с так называемыми непонятными или противоречивыми условиями. Важным является выделение в этой группе неразрешенных и противоречащих нравственности условий. Если те или иные условия либо прямо запрещены законом, либо недопустимость включения их в сделку вытекает из норм закона, то такие сделки ничтожны по § 134 ГГУ. Условия, несовместимые с основами нравственности, ничтожны по § 138 ГГУ. Сюда в основном относят такие условия, связанные с определенным поведением стороны, которые характеризуются чрезмерным вмешательством в личную сферу. Нельзя, например, обусловить дарение действиями одаряемого, если они будут противоречить основам нравственности или закону.
Вторую большую группу условий, ограничивающих автономию воли сторон, составляют так называемые условия, не подходящие для условных сделок (Bedingungsfeindlichkeit)15. Отправной точкой здесь служат следующие соображения.
Во-первых, в определенных случаях условность сделки и, как следствие, подвешенное состояние могут противоречить общим публичным интересам и интересам правового оборота. Публичный порядок и правовой оборот в определенных сферах требуют однозначности и ясности16. Так, не может быть обусловлено каким-то обстоятельством заключение брака или усыновление ребенка. Не может содержать условий волеизъявление о переходе прав на недвижимое имущество. Поземельная книга должна давать четкие и ясные данные о правах на недвижимое имущество. Исходя из аналогичной аргументации, не допускается также условность в вопросах принятия или отказа от наследства.
Во-вторых, в некоторых ситуациях защиты требуют интересы другой стороны. Общим подходом считается, что односторонние сделки с правопреобразующим эффектом не могут ставиться под условие, так как связанное с этим подвешенное состояние неприемлемо для стороны, на правовую сферу которой они могут повлиять17. Односторонние правопреобразующие сделки есть суть реализации секундарных преобразовательных прав, таких, например, как отказ от договора, расторжение договора, зачет и т.п.
14См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 30–33.
15Ibid. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 34.
16См.: Wolf M., Neuner J. Op. cit. § 52. Rn. 21.
17Ibid. Rn. 23.
83

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
В случае с секундарными преобразовательными правами следует различать их возникновение, изменение и прекращение, с одной стороны, и их осуществление — с другой. Постановка под условие возникновения или прекращения секундарных прав возможна (например, право на отказ от договора возникает у одной из сторон при возникновении того или иного обстоятельства). Но этого нельзя сказать о возможности постановки под условие эффекта односторонних сделок, реализующих такие секундарные права. Поскольку преобразовательные секундарные права направлены на изменение сделки или ее прекращение, то по общему правилу осуществление таких прав не может ставиться под условие. Постановка под условие реализации преобразовательных секундарных прав (т.е. включение в волеизъявление на совершение односторонней сделки условий, которые вторгаются в сферу правовой автономии адресата) относится в немецком праве в целом к категории так называемых неприемлемых условий для условных сделок (bedingungsfeindlich), т.е. таких, которые не могут оговариваться сторонами.
Преобразовательные права согласно немецкой доктрине являются вмешательством в чужую правовую сферу, из чего по общему правилу следует, что для лица, которого могут затронуть такие права, не может быть никаких неясностей относительно его правовых интересов и правового состояния. Явным образом такой подход сформулирован в § 388 ГГУ, где указано, что заявление о зачете недействительно, если оно сделано под условием или привязано к какому-то моменту времени. Этот подход был перенесен и на иные преобразовательные права, прежде всего на право оспаривания, а также на право отказа, изменения, возврата и др.18 В отношении прав на расторжение договора изначально также считалось недопустимым их обусловливать, но впоследствии подход был смягчен. В результате допустимыми являются условия о расторжении, если при этом не нарушаются права другой стороны, в первую очередь если такая сторона не находится в положении неизвестности19. На практике это означает, что допустимыми условиями об одностороннем расторжении договора являются такие, когда согласованные события, являющиеся основанием для расторжения, лежат в сфере другой стороны или зависят от ее воли.
По сути, а также с точки зрения правовых последствий недопустимые условия и условия, не подходящие для условных сделок, очень близки и разделение их достаточно условно: недопустимые условия являются неподходящими, и наоборот.
Включение в сделку недопустимого условия может влечь три вида правовых последствий: 1) недействительной, ничтожной может являться вся сделка; 2) недействительным может считаться лишь недопустимое условие, вся же сделка остается в силе; 3) в зависимости от обстоятельств речь может идти о частичной недействительности сделки, если непострадавшая часть сделки может быть сохранена и это соответствует воле затронутой стороны.
18См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 38.
19Ibid. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 40.
84

Свободная трибуна
Классификация условий (п. 1-2.8 Комментария #Глосса)
Условие в значении обстоятельств, с которыми связывается судьба правовых последствий сделки, понимается в немецком праве общим образом как неизвестное будущее, событие, обстоятельство20.
Как и российское, немецкое право различает отлагательные и отменительные условия. При отлагательном условии правовые последствия сделки возникают лишь при наступлении оговоренных обстоятельств. Наступление отменительного условия влечет прекращение правовых последствий сделки в целом или в части, т.е. прекращается правоотношение в целом либо отдельные права и обязанности. В римском праве выделялись только отлагательные условия. Отменительные же рассматривались как договоренности о прекращении прав и обязанностей, заключенные под отлагательным условием21. В немецком праве XIX в. также превалировало мнение, что отменительное условие представляет собой лишь дополнительную договоренность о прекращении обязательства22. Однако с вступлением в силу ГГУ такая длинная конструкция не применяется и отменительные условия рассматриваются как в законе, так и в доктрине просто как условия, при наступлении которых прекращаются правовые последствия заключенной сделки.
В силу отменительного условия подразумевается, что сделка в любом случае должна состояться. Иначе смысла в таком условии не имеется, поскольку отменять нечего. Отменительные условия, как правило, имеют значение при длительных или длящихся правоотношениях. При разовом обмене исполнениями отменительные условия встречаются редко, потому что правовые последствия сделки уже реализованы и, как правило, прекращаться здесь уже нечему.
Поскольку условная сделка означает, что под условие ставится не волеизъявление сторон, а наступление определенных правовых последствий, то, соответственно, меняться может необязательно вся сделка, а ее отдельные части, отдельные права и обязанности.
Условие может быть позитивным, если будущее неизвестное обстоятельство заключается в изменении существующего положения вещей, и негативным, если сделка поставлена под условие, что никаких или каких-то определенных изменений не произойдет. Различия между позитивными и негативными условиями не имеют значения для правовых последствий23. То есть правовые последствия могут в равной степени зависеть как от позитивных, так и от негативных условий.
20См.: Flume W. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Das Rechtsgeschäft. 3. Auflage. Berlin, 1979. S. 677.
21См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 1.
22См.: Flume W. Op. cit. S. 681.
23Ibid. S. 683.
85

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
Зависимость условия от воли одной из сторон (п. 1-2.9 Комментария #Глосса)
Еще римское право знало деление условий на случайные, потестативные и смешанные. Данное тройное деление было интегрировано в свое время во Французский гражданский кодекс (ст. 1169–1171). При подготовке же ГГУ было решено отказаться от внесения его в текст. Объяснялось это тем, что такое «школьное деление» относится к области правовой систематики24.
Случайные условия зависят не от воли одной стороны сделки. Они могут представлять собой природные явления, события политической, экономической и социальной жизни, а также заключаться в действиях и решениях третьих лиц. Например, рождение ребенка, результаты голосования на выборах, наступление определенных экономических показателей, принятие решения государственным или судебным органом, принятие закона или поручительство третьего лица25.
Для формирования условий сделок более интересными как с теоретической, так и с практической точки зрения являются потестативные условия. Под потестативными понимаются условия, которые обусловливают правовые последствия определенными действиями (воздержанием от действий) стороны сделки, зависящими от воли такой стороны. То есть на правовые последствия сделки как бы влияет воля одной из сторон, но не непосредственно, а через действия (бездействие) стороны26. Следует учитывать, что сделка под потестативным условием считается заключенной тогда, когда волевой момент, от которого зависят правовые последствия сделки, не является желанием или нежеланием заключить соответствующий договор, а направлен на иное содержание, а именно на совершение каких-то действий, с которыми и связываются правовые последствия27. Для практики важнейшим примером потестативного условия являются случаи купли-продажи с оговоренным условием о сохранении права собственности за продавцом до полной выплаты покупной цены. Подчеркивалось, что такая оговорка, представляющая собой перенос права собственности под отлагательным условием уплаты покупной цены, стала важным правовым явлением правового оборота28. То есть с учетом сказанного можно сделать вывод, что немецкое право в принципе допускает потестативные условия.
Условия, при которых определяющим для наступления тех или иных правовых последствий является не поведение, а исключительно воля одной из сторон, выражающаяся не в каком-то ином внешнем поведении со своими собственными целями, а именно и только в соответствующем волеизъявлении на порождение или прекращение соответствующих условных правовых последствий, называются в немецком праве волевыми условиями (Wollensbedingung). Они имеют место
24См.: Flume W. Op. cit. S. 683.
25См.: Wolf M., Neuner J. Op. cit. § 52. Rn. 13–14.
26Ibid. Rn. 15.
27Ibid. § 52. Rn. 16.
28См.: Flume W. Op. cit. S. 683.
86

Свободная трибуна
тогда, когда действие сделки ставится в зависимость от более позднего волеизъявления стороны о том, желает ли она, чтобы сделка вступила в силу или прекратилась. Волевые условия в немецком праве в определенных случаях считаются допустимыми. Например, в § 454 ГГУ в случае с договором купли-продажи «на пробу» заключение договора зависит от простого ничем не обусловленного желания покупателя. Договор считается заключенным под отлагательным условием одобрения (согласия) покупателя.
В вопросе о том, все ли волевые условия являются допустимыми, немецкое право исходит из следующего подхода. Различаются волевые условия, связанные с предметными побудительными мотивами. Например, покупатель для себя должен решить, подходит ли ему определенный товар по своим качественным характеристикам, или стороне сделки должно быть предоставлено право разумного усмотрения в зависимости от своих интересов. Такие волевые условия считаются обоснованными и допускаются правом. Если же волевое условие представляет собой простое и ничем не объяснимое желание или нежелание стороны связать себя договором или обязательством, внутренне и внешне произвольное решение стороны (например, заплачу, если пожелаю), то оно правом не признается и в качестве условия для условных сделок не допускается29. В то же время если стороны подписывают договор, согласно которому одна сторона свое волеизъявление на его заключение выразила, а другая сторона просто сохраняет за собой право сделать это позже или вообще не делать, то такое отношение сторон квалифицируется не как договор, поставленный под условие, а как соглашение об опционе второй стороны, ее праве на заключение договора. В случае с простым волевым отменительным условием следует исходить из включения в договор указания на право одной из сторон отказаться от договора30.
Условие права (п. 1-2.10 Комментария #Глосса)
Так называемое правовое условие, условие права (Rechtsbedingung) не является условием в смысле условных сделок. О правовом условии говорят, когда речь идет о предписанных, установленных законом предпосылках действительности сделки31. Или иначе: правовые условия представляют собой законом установленные требования к действительности сделки. В этом смысле речь идет не о сдвиге на позднее время правовых последствий сделки, а об откладывании самой правовой связанности, вытекающей из факта, например, подписания договора32. И такой эффект основывается не на воле сторон, а на нормах закона, как правило императивных. Правовые условия не согласовываются сторонами, а устанавливаются законом или в определенных целях, имеющих важное с точки зрения за-
29См.: Wolf M., Neuner J. Op. cit. § 52. Rn. 17–18.
30См.: Ellenberger J. Op. cit. Einführung. § 158. Rn. 10.
31См.: Köhler H. BGB Allgemeiner Teil. 41. Auflage. München, 2017. S. 218.
32См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 24.
87

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
кона значение, или для стабильности оборота, или для защиты объективно слабых групп лиц и т.п. То есть при внешнем сходстве обычные условия в условных сделках и правовые условия направлены на достижение совершенно различных правовых целей. Правовые условия рассматриваются как требования закона, как установленные законом предпосылки действительности сделки. Другого содержания у них нет.
В литературе подчеркивалось, что с правовым условием (conditio juris) в доктрине нет каких-то проблем, кроме, может быть, лишь того, что устанавливаемые законом условия действительности сделок по факту очень многочисленны и различны33. Правовые условия имеют место, например, тогда, когда действительность сделки зависит от одобрения ее компетентным государственным органом. Или же сделка, заключенная несовершеннолетним, недействительна до одобрения ее законным представителем этого несовершеннолетнего лица. В контексте условных сделок немецкое право узко понимает категорию условий права и относит к ним лишь соблюдение требуемых в соответствии с законом условий, необходимых для действительности сделки. Остальные же условия, которые зачастую относят терминологически к условиям права (в том числе такой позиции придерживается А.Г. Карапетов), немецкое право рассматривает в рамках общего регулирования условных сделок.
Поскольку правовое и обычное условие — это разные явления, то нормы об условных сделках в принципе неприменимы к правовым условиям, в том числе по аналогии34. В связи с этим не подлежат применению к правовым условиям нормы о фикции наступления или ненаступления соответствующих условий, обстоятельств35. Поскольку правовое условие установлено законом, а не волей сторон, то недобросовестное препятствование одной из сторон его наступлению, например получению разрешения уполномоченного государственного органа на сделку, не может подменить собой требование закона, предъявляемое к действительности сделки36. Например, в случае с договором купли-продажи, требующим для его действительности согласования государственного органа, не может быть фингирована действительность такого договора лишь потому, что одна из сторон недобросовестным образом препятствует получению такого разрешения. Сделка недееспособного лица, требующая одобрения опекуна, не может быть фингирована в действительную лишь потому, что другая сторона препятствовала получению такого разрешения.
§ 162 ГГУ, который устанавливает фикцию наступления или ненаступления условий в случае недобросовестного поведения стороны, является выражением общей правовой мысли, что никто не должен получить выгоду из своего недобросовестного поведения. Однако в литературе подчеркивалось, что этот подход не может применяться без оглядки. § 162 ГГУ является не санкцией, ответственностью за недобросовестное поведение, а способом реализовать изначальное во-
33См.: Flume W. Op. cit. S. 680.
34См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 24.
35Ibid. § 162. Rn. 13.
36См.: Medicus D. Allgemeiner Teil des BGB. 10. Auflage. Heidelberg, 2010. Rn. 837.
88

Свободная трибуна
леизъявление сторон. Исходя из этого и должны определяться границы применения данной нормы37. Недобросовестное поведение стороны в сделках с правовым условием доктриной и практикой квалифицируется как недобросовестное, а именно нарушающее обязанность стороны содействовать достижению цели договора. В ответ на такое недобросовестное поведение пострадавшая сторона может требовать возмещения убытков.
Встречное исполнение и условное обязательство (п. 1-2.11 Комментария #Глосса)
Вопрос о том, можно ли привязку срока исполнения обязательства одной стороны к моменту исполнения своих обязательств другой стороной отнести к обусловленным обязательствам, условным сделкам, решается в немецком праве однозначным образом: подобные правовые конструкции не считаются условными сделками.
Во-первых, в этих ситуациях речь об условных сделках не идет. Здесь важно понять, являются ли подобные конструкции условием о сроке, с которым связывается наступление правовых последствий в виде возникновения прав и обязанностей или их прекращения. Как было сказано выше, условие условной сделки и условие о сроке, с которыми связываются правовые последствия сделки, — не одно и то же, хотя в обоих случаях применимы нормы об условных сделках. Общим для них является то, что с наступлением срока или оговоренных обстоятельств возникают или прекращаются определенные права и обязанности. Обязанности, срок исполнения которых определяется периодом, начало расчета которого привязано к исполнению встречной обязанности, считаются возникшими в силу заключения сделки, а не с момента наступления срока их исполнения38.
Для немецкого права совершенно нормальной является ситуация, когда обязательство считается возникшим, но еще несозревшим, не подлежащим исполнению в силу отсутствия срока для его исполнения. Подобный подход обосновывается нормами § 271 и 813 ГГУ. В абз. 2 § 271 указано, что если определено время для исполнения, то в случае наличия сомнения следует исходить из того, что кредитор до наступления данного срока не вправе требовать исполнения, должник же может произвести исполнение до наступления этого времени. Отсюда следует вывод, что даже при согласовании более позднего срока исполнения сама обязанность возникает с момента достижения договоренности39. Аналогичный вывод следует и из абз. 2 § 813, согласно которому досрочно исполненное не может быть потребовано назад. Как видно, если в сделках с условием срока возникновения права и обязанности до наступления этого срока не считаются возникшими, то в случаях с более поздним определением срока исполнения обязанность
37См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. § 162. Rn. 15.
38См.: Bork R. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 3. Auflage. Tüebingen, 2011. Rn. 1285.
39См.: Wolf M., Neuner J. Op. cit. § 53. Rn. 6.
89

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
существует изначально. Практической разницей здесь является то, что во втором случае существующая обязанность может быть исполнена досрочно40. В первом же случае обязанность еще не возникла и исполнение может быть расценено как неосновательное обогащение.
Например, 1 января стороны заключили договор аренды квартиры со сроком вступления договора в силу с 1 апреля. До апреля никаких обязанностей по предоставлению помещения в аренду у арендодателя нет, как и нет обязанности у арендатора платить арендную плату за март. Если арендатор случайно перечислит аренду за март, он может потребовать возврата этой суммы41. Также практическое значение данное различие имеет в делах о банкротстве. Уже возникшая обязанность считается подлежащей исполнению, даже если срок исполнения не наступил (§ 41 InsO), в то время как невозникшая обязанность подлежит регулированию как условное обязательство по § 191 InsO42.
Следует отметить, что российское право содержит нормы, аналогичные указанным выше нормам немецкого права (например, ст. 314, 315 ГК РФ, ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).
Невозможность условия (п. 1-2.13 Комментария #Глосса)
Что касается так называемых невозможных условий, то в немецком праве их относят к категории недопустимых43. Невозможное условие представляет собой обстоятельство, которое объективно не может наступить44. При этом отлагательная сделка считается недействительной45. Сами оговоренные правовые последствия считаются возможными, но поскольку невозможное условие никогда не наступит, то и правовые последствия также никогда не наступят. То есть такая сделка противоречит сути условных сделок, она по факту не влечет правовых последствий. Подобное отменительное условие также никогда не наступит, что влечет окончательную безусловную действительность правовых последствий сделки46.
В ситуациях, когда условие было возможным до заключения сделки, но стало невозможным после, проблема разрешается следующим образом. В случае с от-
40См.: Bork R. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Rn. 1285.
41См.: Wolf M., Neuner J. Op. cit. § 53. Rn. 7.
42См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. § 163. Rn. 2.
43Ibid. Vorbem zu §§ 158–163. S. 327.
44См.: Westermann H.P. Op. cit. § 158. Rn. 48.
45См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 30.
46См.: Westermann H.P. Op. cit. § 158. Rn. 48.
90

Свободная трибуна
менительным условием права и обязанности по сделке обретают окончательную действительность, так как обстоятельства, в силу которых они могут быть прекращены, уже никогда не наступят. При отлагательных сделках сторонам рекомендуется назначить определенный срок для исполнения ранее обусловленных обязанностей. Если же добровольного исполнения не происходит, то условная сделка теряет свою силу, прекращается и подвешенное состояние, которое само по себе имеет правовые последствия47.
К невозможным относятся также непонятные и бессмысленные условия. Они считаются недействительными48. Бессмысленные или непонятные условия не могут иметь какого-то значения, поскольку характеризуются полной неопределенностью относительно того, с чем связываются правовые последствия сделки. Однако если непонятность условия связана, например, с опечаткой в тексте договора, то она может быть исправлена посредством толкования волеизъявления сторон.
Момент наступления условия (п. 1-2.14, 1-2.15 Комментария #Глосса)
В нормах ГГУ не содержится правил о том, когда, в какой момент условие считается наступившим. В литературе подчеркивается, что на данный вопрос можно ответить посредством толкования волеизъявлений сторон, обратившись к условиям соответствующего соглашения49. Позитивное условие считается наступившим, когда в действительности наступили все необходимые обстоятельства, соответствующие данному условию. Простого состояния готовности или создания условий для наступления необходимых обстоятельств недостаточно50. Отпадение условия имеет место тогда, когда оно не наступило и точно понятно, что оно уже не наступит. Иначе обстоит дело с негативными условиями. Такое условие считается выполненным, когда оно не наступило и точно понятно, что оно уже не наступит. Отпадает же подобное условие тогда, когда оно наступило.
Таким образом, в немецком праве момент наступления условия определяется содержанием договоренностей сторон о том, в чем состоит обусловленное обстоятельство, в чем проявляется его наступление и, соответственно, когда данное обстоятельство наступает в действительности. Отсюда вывод, что правовые последствия могут быть связаны как с моментом фактического наступления оговоренного условия, так и с моментом, когда стороны узнали о его наступлении. Какой фактический состав должен быть выполнен для того, чтобы считать условие наступившим, следует определять путем толкования воли сторон, выраженной в соответствующем соглашении.
47Ibid. § 158. Rn. 44.
48См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 31.
49Ibid. § 158. Rn. 13.
50Ibid. § 158. Rn. 14.
91
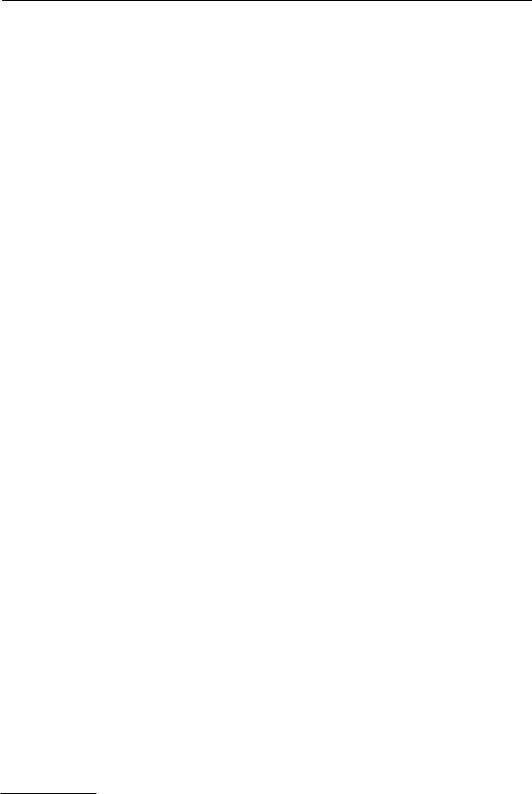
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
Нужно, однако, отметить, что если стороны связывают правовые последствия с самим фактом наступления определенного обстоятельства, то они должны осознавать, что правовые последствия возникают именно с этого момента, а не с момента, когда они об этом узнали.
Вопрос строгого соответствия оговоренного условия фактически наступившим обстоятельствам точно так же, как и вопрос момента наступления условия, подлежит определению путем толкования воли сторон.
Затронутый в п. 1-2.15 вопрос о случаях, когда строгое соответствие может быть не принято во внимание, имеет место также и в немецком праве. В силу общего подхода, основанного на принципе добросовестности, настаивание стороны на строгом соблюдении фактического состава или момента наступления условия может быть не принято во внимание, если будет установлено, что имеющееся фактическое отклонение от оговоренного является незначительным и настаивание на формальном положении вещей приведет к существенному дисбалансу интересов сторон и к таким последствиям, которые не отвечают подразумеваемым целям сделки.
Вопрос о вечной подвешенности (п. 1-2.16 Комментария #Глосса)
Вопрос вечной подвешенности в немецком праве не стоит. Конечно, чисто теоретически проблему здесь можно вычленить, определить и пытаться искать пути ее решения. Однако поскольку в практической плоскости данный вопрос, видимо, не является актуальным, то и в немецкой литературе не ведутся дискуссии о том, какой специальный правовой механизм необходимо создать и использовать для ограничения периода подвешенного состояния в ожидании наступления или ненаступления оговоренного условия.
Воля сторон при заключении сделки с условием в каждом конкретном случае выражает или подразумевает определенное желаемое развитие событий. Стороны руководствуются своими интересами. Сложно себе представить, что воля сторон сделки могла бы быть направлена на ситуации с состоянием вечной подвешенности. Поэтому при возникновении вопроса о том, когда же может наступить оговоренное условие, какого правового эффекта желали стороны, стоит обращаться к содержанию их волеизъявления. В немецком праве, в отличие от российского, при таком толковании приоритет отдается не буквальному смыслу условий сделки, а выявлению действительной воли сторон (§ 133 ГГУ). Из ее содержания следует определять, на какой период они желали быть связанными подвешенным состоянием, т.е. когда стоило ожидать наступления оговоренных обстоятельств. Если становится очевидным, что они не наступят, то считается, что оговоренное условие отпадает51.
51 |
См.: Westermann H.P. Op. cit. § 158. Rn. 43. |
|
92

Свободная трибуна
Стороны могут установить такой срок явным образом. Если же это не было сделано, то он подлежит определению путем толкования их волеизъявления. То есть вопрос с вечным подвешенным состоянием решается посредством квалификации условия в качестве отпавшего по прошествии некоего срока, который может быть выведен как подразумеваемое положение сделки.
Иных специальных правовых механизмов, которые бы вмешивались в автономию воли сторон, в их свободу договора и убирали бессрочность наступления условий только в силу того, что неизвестно, наступит ли такое условие, немецкое право не содержит. Хотя, конечно, к отношениям сторон применимы общие правила и принципы, в первую очередь связанные с принципом добросовестности и основанными на нем вопросами неприемлемости для сторон тех или иных условий договора в силу разных обстоятельств. Так, указывалось, что если будет определено, что подвешенное состояние, даже ограниченное по времени, является для стороны неприемлемо длительным, то можно говорить по аналогии о невозможности наступления условия. Или при потестативных условиях в случаях затянувшегося подвешенного состояния за заинтересованной стороной признается право установить другой стороне соразмерный разумный срок для осуществления необходимых действий, по истечении которого условие должно считаться ненаступившим52.
И конечно же, стороны вправе самостоятельно регулировать те или иные ситуации, связанные с длительным ненаступлением оговоренного условия. Например, через согласованный отказ от такого условия или его изменение.
Перспективное или ретроспективное действие наступившего условия (п. 1-2.18 Комментария #Глосса)
В отличие от российского права, в немецком содержится норма об обратном действии правовых последствий условных сделок. § 159 ГГУ говорит о том, что
всоответствии с содержанием сделки связанные с условием правовые последствия могут иметь обратную силу и распространяться на момент времени более ранний, чем наступление оговоренного условия. То есть общим правилом является действие правовых последствий на будущее время с момента наступления условия. Но при этом стороны могут в силу данной нормы и принципов свободы договора и автономии воли сторон договориться об обратном действии определенных имущественных прав и обязанностей. В таких случаях стороны с момента наступления условия обязаны предоставить друг другу то, что они имели бы, получили бы, если правовые последствия наступили бы раньше. Иными словами,
всилу данной нормы стороны могут согласовать, что с наступлением оговоренного условия они обязаны предоставить друг другу положенное как бы задним числом. Следует учитывать, что в буквальном смысле § 159 ГГУ говорит не об обратной силе правовых последствий, а об обязанностях сторон предоставить то, что должно было бы быть предоставлено, если бы правовые последствия насту-
52 |
Ibid. § 158. Rn. 44. |
|
93

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
пили бы в более ранний момент53. Нормы о ничтожности промежуточных распоряжений предметом сделки в период подвешенного состояния согласно § 162 ГГУ не опровергают общего правила о перспективном действии правовых последствий после наступления условия, в этом контексте они представляют собой специальное правовое регулирование.
Правило § 159 ГГУ распространяется не только на двусторонние сделки, когда обратная сила должна согласовываться сторонами, но и на односторонние. Такие сделки также могут содержать условия об обратном действии правовых последствий54. Подобные ситуации, как правило, могут встречаться в односторонних сделках с отменительным условием, в завещаниях с отменительным условием55.
Соглашение об обратном действии в двусторонних сделках могут быть выражены явным образом в письменной форме, а также посредством конклюдентных действий. Одного только предположения недостаточно. Воля сторон должна быть определена четко.
Обратное действие правовых последствий имеет только обязательственное значение. Стороны могут быть обязаны поставить друг друга в такое положение, в котором они находились бы, если бы правовые последствия, вещноправовой эффект наступили раньше56. Непосредственно сам вещно-правовой эффект задним числом в силу § 159 ГГУ и на основании волеизъявления сторон наступить не может. Возможна только фикция законодателя, им и устанавливаемая57.
Содержанием обратного действия правовых последствий, как правило, являются доходы, получаемые в период ожидания от имущества, которое должно перейти к другой стороне с наступлением оговоренного отлагательного условия. В случае с отменительным условием сторона, получившая имущество, должна вернуть не только это имущество, но и все доходы, полученные ею в период пользования им. В случае с плодами, которые появились в период ожидания, следует выяснять волю сторон относительно обратного действия по переходу вещных прав на такие плоды. Если будет определено, что стороны согласовали обратное действие в отношении заранее согласованной уступки прав на получение таких плодов, то на них такое обратное действие распространяется58. Обратное действие может касаться не только доходов и плодов, но и последствий несения риска и иных негативных последствий.
53См.: Flume W. Op. cit. S. 723–724.
54См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. § 159. Rn. 2.
55См.: Wolf M., Neuner J. Op. cit. § 52. Rn. 38.
56См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. § 159. Rn. 11.
57Ibid. § 159. Rn. 6.
58См.: Flume W. Op. cit. S. 724.
94
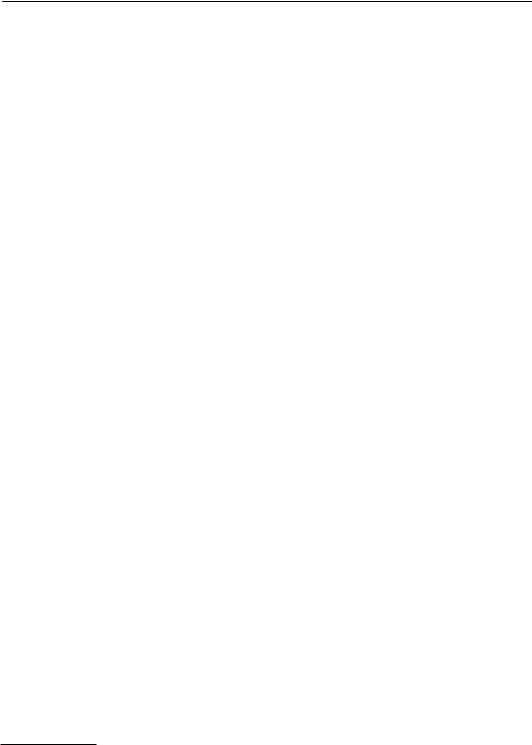
Свободная трибуна
Состояние подвешенности (п. 1-2.19, 1-2.20, 1-2.27 Комментария #Глосса)
В немецком праве вопрос о правовом состоянии в период с момента совершения условной сделки и наступления оговоренного условия не является terra incognita, урегулирован правом и в достаточной степени проработан доктриной. Имеются некоторые дискуссионные вопросы, в первую очередь в научной теоретической плоскости, но в целом в литературе и судебной практике подходы можно считать устоявшимися.
Период между заключением условной сделки и наступлением соответствующих влекущих правовые последствия обстоятельств характеризуется так называемой подвешенностью состояния (Schwebezustand), в течение которого одна сторона или временно является управомоченной, или, наоборот, неправомочной, в то время как другая сторона ожидает, что с наступлением условия она либо приобретет право, либо его потеряет, либо освободится от обязанности. С наступлением условия окончательно проясняется правовое отношение между сторонами. Такое подвешенное состояние называется состоянием обоснованного ожидания (Anwartschaft). Если в силу правового регулирования во время такого состояния сторонам гарантируется определенное правовое положение, то речь идет уже не просто об обоснованном ожидании, а о правах, вытекающих из обоснованного ожидания (Anwartschaftsrecht)59.
То есть следует различать просто период ожидания и период ожидания, с которым связаны определенные правовые последствия. Последнее отсутствует, например, тогда, когда наступление условия зависит от поведения продавца или же когда он своими односторонними действиями вправе аннулировать предпосылки для наступления условия. В подобных ситуациях речь идет просто о подвешенном состоянии, а не о правовом подвешенном состоянии60. Правовое подвешенное состояние как особое правоотношение может возникать в силу § 160 ГГУ и в обязательственных, и в распорядительных сделках.
Просто подвешенное состояние также имеет определенные правовые последствия, но они заключаются лишь в последствиях самого факта заключения сделки, а именно в том, что стороны, выразившие волеизъявление на условную сделку, им связаны. То есть стороны связаны фактом заключения ими условной сделки61.
Правовое же подвешенное состояние, помимо этого, влечет для сторон и иные правовые последствия. Приобретатель прав в таких случаях имеет особое правовое положение, которое отличается от положения кредитора в обязательственноправовой связи и не говорит о наличии у него абсолютных прав. В целом имеется единогласие по поводу такого особого правового положения, которое при этом
59См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 53.
60Ibid. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 54.
61См.: Wolf M., Neuner J. Op. cit. § 52. Rn. 44.
95

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
характеризуется отчуждаемостью возникающих из него прав и возможностью защиты их против третьих лиц62.
Правовая защита лица, находящегося в состоянии обоснованного правового ожидания, осуществляется посредством норм § 160 и 161 ГГУ.
Согласно § 160 ГГУ лицо, управомоченное под отлагательным условием, вправе в случае наступления условия требовать от другой стороны возмещения убытков, если она во время подвешенного состояния была виновна в нарушении зависящих от отлагательного условия прав такого управомоченного лица. Такое же право требования возмещения убытков в случае со сделкой с отменительным условием имеет лицо, в чью пользу и в чьих интересах наступают правовые последствия после наступления этого условия.
В силу § 161 ГГУ все распорядительные действия в отношении предмета сделки, заключенной под отлагательным условием, совершенные во время подвешенного состояния, считаются недействительными. Данное правило распространяется и на распоряжение предметом сделки, совершаемым в рамках исполнительного производства и иного принудительного отчуждения. Недействительными считаются также и распорядительные действия обладателя права в период действия сделки, совершенной под отменительным условием, в случае наступления соответствующего условия.
Таким образом, указанные нормы защищают того, кто при наступлении условия должен получить определенное право. Правовая защита предусмотрена на случаи, когда другая сторона такое право нарушает в период подвешенного состояния. Если нарушение состоит в распоряжении предметом сделки, то такое распоряжение считается в силу § 161 ГГУ недействительным. Во всех других ситуациях нарушителю грозят требования о возмещении убытков63.
Считается, что в силу § 160 ГГУ с фактом заключения обязательственной условной сделки между сторонами возникает обязательственно-правовое отношение, предметом которого являются не основные права и обязанности, поставленные под условие, а лишь охранительные обязанности, заключающиеся в силу принципа добросовестности в обязанности учитывать права и интересы другой стороны64. Нарушение таких охранительных обязанностей является согласно § 160 ГГУ основанием для возникновения права требования возникших убытков. Само такое право поставлено под соответствующее отлагательное или отменительное условие, поскольку требовать возмещения убытков пострадавшая сторона может только с наступлением оговоренного условия65.
62См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 56.
63См.: Bork R. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Rn. 1272.
64См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. § 160. Rn. 1.
65Ibid. § 160. Rn. 4.
96

Свободная трибуна
То, почему немецкий законодатель в §161 ГГУ говорит именно о недействительности распорядительных действий в отношении предмета сделки, можно объяснить особенностями немецкого подхода к обязательственным и распорядительным сделкам, а точнее, их разделением на самостоятельные сделки. В силу такого подхода, если происходит отчуждение и передача предмета сделки в ущерб условно управомоченному лицу, то отчуждение считается недействительным, но при этом сама передача предмета сделки в силу абстрактности и независимости распоряжений по немецкому праву действительна. Чтобы избежать подобных ситуаций, немецкий законодатель здесь сделал прямое исключение и прямо указал, что недействительными являются непосредственно распоряжения66. Поскольку промежуточные распоряжения считаются недействительными только с наступлением оговоренного условия условной сделки, то они являются действительными как бы под отменительным условием. Если отлагательное или отменительное условие отпадает, то и промежуточное распоряжение считается полностью действительным. Также промежуточное распоряжение становится окончательно действительным тогда, когда третье лицо, получившее в силу такого распоряжения предмет сделки, может ссылаться на свою добросовестность, т.е. на незнание того, что отчуждатель был ограничен в праве распоряжения этим предметом.
Относительная самостоятельность правового положения обоснованного ожидания проявляется не только в возможности правовой защиты условно управомоченного лица. Условные права такого лица, порождаемые у него состоянием правового обоснованного ожидания, признаются в немецком праве отчуждаемыми. Они могут быть отчуждены, выступать предметом залога, переданы по наследству67.
В одном из своих решений Верховный суд Германии указал, что согласно устойчивой судебной практике право из обоснованного ожидания имеется у приобретателя тогда, когда он приобрел вещь с оговоркой о переходе права собственности после полной оплаты. В таких случаях речь идет о праве из обоснованного ожидания, которое является предварительным по отношению к праву собственности и само по себе в соответствии с правилами о переходе права собственности на движимые вещи является отчуждаемым (передаваемым). Следствием такого отчуждения (передачи) является то, что при наступлении оговоренного условия право собственности автоматически переходит не на покупателя, а на лицо, кому покупатель передал свое право из обоснованного ожидания68. В литературе подчеркивалось, что право из обоснованного ожидания может подлежать защите и быть отчуждаемым даже в том объеме, который имеет место в случае с полноценными правами69.
Согласно данному подходу нет препятствий для того, чтобы такое право являлось предметом залога, в этом случае действуют общие правила о залоге70. Так-
66См.: Bork R. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Rn. 1273.
67См.: Westermann H.P. Op. cit. § 161. Rn. 3.
68BGH. Urteil vom 02.02.1984. Az.: IX ZR 8/83.
69См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 68.
70Ibid. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 73.
97

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
же право из обоснованного ожидания может передаваться по наследству, если само поставленное под условие право может быть объектом наследования71. Нет принципиальных препятствий для ареста и обращения взыскания на права из условных сделок. Кроме того, они, как уже говорилось выше, могут участвовать в конкурсной массе в процедурах о несостоятельности (банкротстве)72.
Отмечалось, что для правового положения, когда права из условных сделок могут отчуждаться, важно наличие правовой защиты таких прав73. То есть если уровень ожидания в условной сделке таков, что права ожидания условно управомоченного лица подлежат правовой защите, то можно говорить, что они могут быть им отчуждены или обременены.
Особое относительно самостоятельное правовое положение условных обязательств характеризует также то, что исполнение обязанностей по отлагательноусловной сделке может быть обеспечено залогом или поручительством74.
Состояние подвешенности при отлагательном условии права (п. 1-2.21 Комментария #Глосса)
Как уже говорилось, так называемое условие права, или правовое условие (Rechtsbedingung), не является условием в смысле условных сделок. О правовом условии говорят, когда речь идет о предписанных, установленных законом предпосылках действительности сделки. Правовые условия представляют собой установленные законом требования к действительности сделки, и в этом смысле при наличии таких условий речь идет не об откладывании, сдвигании на позднее время правовых последствий сделки, а об откладывании самой правовой связанности, вытекающей из факта заключения сделки.
Еще раз подчеркнем, что при внешнем сходстве собственно условия в условных сделках и правовые условия — это разные вещи, они направлены на достижение разных правовых целей. Как уже отмечалось, нормы об условных сделках в принципе не применяются к правовым условиям, в том числе по аналогии75. Не применяются они и к вопросам, возникающим в период между подписанием сделки и наступлением необходимого правового условия. При сделках с правовым условием до его наступления сама сделка является недействительной, хоть такая недействительность и характеризуется подвешенностью. То есть в данном случае также имеется факт подвешенного состояния76. Но в правовом смысле оно от-
71См.: Flume W. Op. cit. S. 702–703.
72См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. Vorbem zu §§158-163, Rn. 51, 52, 75.
73См.: Westermann H.P. Op. cit. § 161. Rn. 4.
74Ibid. § 158. Rn. 40.
75См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 24.
76См.: Bayreuther F., in: Münchener Kommentar zum BGB Allgemeiner Teil §§ 1–240. 7. Auflage. München, 2015, § 184. Rn. 3.
98

Свободная трибуна
личается от подвешенного состояния в случаях с условными сделками. Стороны связаны заключенной недействительной (хоть и подвешенно) сделкой и не могут по общему правилу произвольно выйти из нее, отказаться от нее77. Здесь ситуация аналогичная со связанностью сторон в условной сделке. Но имеются различия в правовом регулировании правовой защиты заинтересованного в правовом результате лица такой сделки.
Так, согласно абз. 1 § 184 ГГУ полученное требуемое для сделки разрешение имеет обратную силу и действует с момента совершения сделки, если не определено иное. Подвешенная недействительность заканчивается, и сделка считается по общему правилу действительной с момента ее заключения. Однако такое обратное действие не распространяется в силу абз. 2 § 184 ГГУ на распоряжения (отчуждения), которые были совершены до получения разрешения, т.е. до наступления правового условия. Подчеркивалось, что правовая мысль, заложенная
вданном правиле, заключается в необходимости защиты прав третьих лиц, в отношении которых до наступления правового условия, разрешения, одобрения сделки совершается так называемое промежуточное распоряжение предметом сделки. Отправной точкой здесь также выступает тот факт, что заинтересованная сторона не имеет защищенного правового положения в силу пока еще недействительной сделки78. Правило абз. 2 § 184 ГГУ распространяется также на отчуждения, произошедшие в рамках исполнительного производства, принудительного взыскания, и на отчуждения, совершенные конкурсным управляющим
впроцедуре банкротства должника.
Заинтересованная сторона в сделке с правовым условием может ссылаться на недобросовестное поведение другой стороны. В таких сделках действия по распоряжению, отчуждению предмета доктриной и практикой квалифицируются как недобросовестные, нарушающие обязанность стороны содействовать достижению цели договора. Последствием подобного поведения является право пострадавшей стороны требовать возмещения убытков. Здесь можно говорить о сходстве правового подхода с правилом § 161 ГГУ, который также исходит из защиты заинтересованного лица при нарушении обязанностей из принципа добросовестности.
Правовой режим обязательства, поставленного под условие исполнения обязанностей другой стороной (п. 1-2.22 Комментария #Глосса)
В немецком праве, как уже говорилось, встречные обязательства, т.е. обязанности, исполнение которых зависит от первоначального предварительного исполнения другой стороной своих обязанностей, относятся не к условным, а к так называемым betagte Forderungen, т.е. уже возникшим, но еще не подлежащим исполнению. С точки зрения синаллагматических обязательств, которые и предполагают наличие встречных обязанностей, это логично, поскольку с заключением
77Ibid. §184. Rn. 4.
78Ibid. Rn. 32, 33.
99
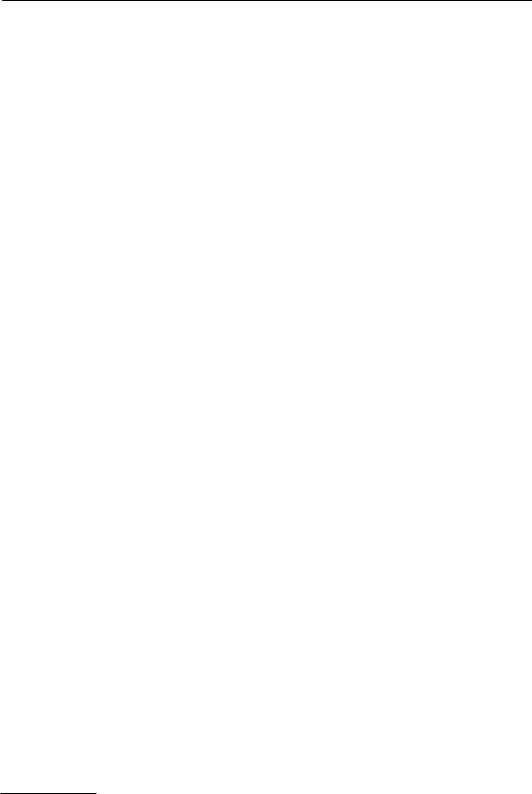
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
синаллагматического договора возникают основные и встречные обязанности. При этом в большинстве случаев на практике согласно договоренностям сторон или в силу существа обязательства встречные обязанности подлежат исполнению только после исполнения первоначальных, а не одновременно (что встречается крайне редко).
Наглядно различие между условными обязательствами и обязательствами возникшими, но еще не подлежащими исполнению, проявляется в области регулирования вопросов по неосновательному обогащению (абз. 2 § 813 ГГУ)79. В первом случае обязанность еще не возникла, а потому ее исполнение квалифицируется как неосновательное обогащение и может быть потребовано назад. При исполнении встречного обязательства до исполнения первоначального неосновательного обогащения не возникает, так как встречное обязательство уже возникло, хотя и не подлежало еще обязательному исполнению. Такое исполненное встречное обязательство не может быть истребовано назад. Также различия между условными и встречными обязательствами имеют значение в банкротных процедурах.
Условность исполнения обязательства (п. 1-2.23 Комментария #Глосса)
Согласно § 158 ГГУ, дающему понятие сделок, совершенных под отлагательным и отменительным условием, к условным сделкам относятся те, чье правовое действие возникает или прекращается с момента наступления отлагательного условия. Таким образом, в немецком праве не стоит вопрос, аналогичный тому, как соотнести между собой положения ст. 157 и 327.1 ГК РФ. Постановка под условие возникновения прав и обязанностей, как и обусловливание исполнения обязанности и осуществления права охватывается в немецком праве формулировкой § 158 ГГУ о том, что под условие ставится правовое действие сделки.
Условность распорядительной сделки (п. 1-2.24, 1-2.25 Комментария #Глосса)
В силу § 158 ГГУ в условных сделках под условие ставятся правовые последствия сделки. В немецком праве распорядительные действия квалифицируются в качестве распорядительных сделок и, соответственно, в общем порядке регулируются нормами об условных сделках. То есть перенос права собственности в силу абстрактной распорядительной сделки (за исключением распоряжения объектами, где для перехода права требуется процедура публичной регистрации) может быть поставлен под то или иное условие, например полной уплаты покупной цены. Распорядительные сделки даже называются в литера-
79 |
См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. § 163. Rn. 2. |
|
100

Свободная трибуна
туре особо подходящими для постановки их под условие (bedingungsfreundliche Rechtsgeschäfte)80. Посредством постановки под условие правовых последствий распорядительных сделок смягчаются следствия абстрактности, независимости распорядительных сделок от их каузы. В таких случаях абстрактность распорядительных сделок как бы нивелируется и распоряжения (распорядительные сделки), направленные на исполнение обязательственной сделки, как бы связываются с такими обязательственными сделками.
Наступление оговоренного условия влечет предусмотренные правовые последствия, дополнительного волеизъявления сторон для этого не нужно. Данное правило действует и для распорядительных сделок — право переходит автоматически с наступлением оговоренного условия. Необходимо лишь отсутствие пороков при заключении сделки, таких как недееспособность, отсутствие полномочий распоряжения и т.п.81
Условность односторонних сделок (п. 1-2.26 Комментария #Глосса)
Общим подходом в немецком праве считается, как уже говорилось, то, что односторонние сделки с правопреобразующим эффектом не могут ставиться под условие, так как связанное с этим подвешенное состояние неприемлемо для стороны, на правовую сферу которой они могут повлиять82. Подобные сделки являются средством реализации секундарных преобразовательных прав (например, отказ от договора, оспаривание сделки, зачет и т.п.). Применительно к вопросам о допустимости тех или иных условных сделок правопреобразующие односторонние сделки и осуществление секундарных преобразовательных прав имеют одинаковое значение. Если говорится о недопустимости ставить под отлагательное условие одностороннюю сделку по зачету, то, соответственно, это свидетельствует о том, что нельзя ставить под отлагательное условие секундарное право произвести зачет взаимных однородных требований.
Осуществление преобразовательных прав согласно немецкой правовой доктрине является односторонним вмешательством в правовую сферу другого лица. Они не относятся напрямую к содержанию и результату сделки, а направлены на ее изменение или прекращение. Из этого по общему правилу следует, что для лица, чьи права могут быть затронуты таким вмешательством, не должно быть никаких неясностей относительно его правового состояния, прав и интересов. Прямо такой подход сформулирован в § 388 ГГУ, согласно которому заявление о зачете недействительно, если оно сделано под условием или привязано к какому-то моменту времени. Впоследствии данный подход был перенесен
80См.: Westermann H.P. Op. cit. § 158. Rn. 25.
81Ibid. Rn. 8.
82См.: Wolf M., Neuner J. Op. cit. § 52. Rn. 23.
101

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
в догматическом плане и на иные преобразовательные права, прежде всего на право оспаривания, а также на право отказа, изменения, возврата и др.83
Как уже говорилось, изначально также считалось недопустимым обусловливать право на расторжение договора. Но впоследствии подход был пересмотрен и несколько смягчен. В результате допустимыми являются условия о расторжении, если при этом не нарушаются права другой стороны, в первую очередь если такая сторона не находится в состоянии неизвестности84. В практическом смысле это означает, что право должно допускать поставленное под условие одностороннее расторжение договора, когда согласованные события, являющиеся основанием для такого расторжения, лежат в сфере влияния другой стороны или зависят от ее воли. Таким образом, они не будут для такой стороны непредвиденными или же она вообще сможет влиять на них своим поведением.
Кроме того, односторонние преобразовательные сделки, поставленные под условие, считаются допустимыми в случаях, когда стороны своим соглашением согласовали возможность их совершения либо сторона, чьи интересы такая сделка может затронуть, дала на это согласие85.
Включение условий в иные односторонние сделки (например, выдача доверенности) немецким правом допускается.
Обязанность прилагать усилия по обеспечению наступления условия (п. 1-2.28 Комментария #Глосса)
В немецком праве при ответе на вопрос о необходимости прилагать усилия по обеспечению наступления условия и объеме таких усилий следует отталкиваться от следующих отправных точек.
Во-первых, в силу самой условной сделки обязанность по обеспечению наступления условия не является основной, в том числе при потестативных условиях86. Такие обязанности не предусмотрены позитивным правом и не обосновываются доктринально. Смысл условных сделок состоит в том, что наступление правовых последствий привязывается к определенным обстоятельствам, относительно которых неизвестно, наступят они или нет. Наступление или ненаступление соответствующего обстоятельства не является целью сделки. Отсюда следует, что стороны по умолчанию не обязаны непосредственным образом обеспечивать наступление таких обстоятельств.
83См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 38.
84Ibid. Vorbem zu §§ 158–163. Rn. 40.
85См.: Wolf M., Neuner J. Op. cit. § 52. Rn. 25.
86См.: Westermann H.P. Op. cit. § 158. Rn. 43.
102

Свободная трибуна
Во-вторых, стороны не имеют права препятствовать наступлению или ненаступлению оговоренных условий. Они не могут вмешиваться в естественный ход событий. Для таких случаев право предусматривает санкции в виде применения фикции наступления или ненаступления соответствующих обстоятельств и применяет те правовые последствия, которые бы возникли, если бы недобросовестная сторона не вмешалась (§ 162 ГГУ).
Как видно, с одной стороны, отсутствует обязанность обеспечивать наступление или ненаступление условий, с другой стороны, есть запрет препятствовать такому наступлению или ненаступлению. Немецкое право исходит из нейтрального подхода, вытекающего из сущности условных сделок, когда стороны моделируют свои взаимоотношения в зависимости от обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет. Таким образом, можно сказать, что немецкое право не обосновывает наличие у сторон в чистом виде обязанностей прилагать усилия для наступления отлагательного или ненаступления отменительного условия.
В то же время на ту или другую сторону в зависимости от условий и обстоятельств конкретной сделки в силу положений самой сделки или принципа добросовестности (§ 242 ГГУ) могут налагаться так называемые дополнительные обязанности, основанные на началах взаимной лояльности, сотрудничества и необходимости достижения цели сделки87. Они являются устоявшимся правилом, базирующимся на принципе добросовестности и применяемым как в преддоговорных, так и в договорных отношениях. То есть они не являются специальным правилом, предусмотренным для условных сделок. Хотя, конечно, особенности конкретной условной сделки будут определять содержание соответствующих дополнительных обязанностей. В чистом виде такие обязанности нельзя назвать обязанностями прилагать усилия для наступления условий. Но суть и цель дополнительных обязанностей как раз и направлены на содействие реализации того, о чем договорились стороны или что является предметом, содержанием сделки.
Отказ от условия (п. 1-2.29 Комментария #Глосса)
В немецком праве вопросы, связанные с отказом от условия в условных сделках, в целом не вызывают проблем. В двусторонней сделке стороны своей волей могут согласовать условие, они же могут его и отменить, отказаться от него. Специального правового регулирования здесь не имеется, данные случаи разрешаются с помощью общих норм. Стороны могут в силу принципов автономии воли и свободы договора изменить договор, отменить условие, если они желают наступления соответствующих правовых последствий88. Односторонний отказ стороны от условия признается допустимым, если соответствующее условие
87См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. § 162. Rn. 1; Westermann H.P. Op. cit. § 162. Rn. 5.
88См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. § 158. Rn. 16.
103

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
включено в сделку исключительно в ее интересах89. Если же условие установлено в интересах обеих сторон, то требуется согласие, как минимум молчаливое, второй стороны.
Односторонний отказ от условия не подчинен каким-либо требованиям соблюдения определенной формы, а также не требует принятия соответствующего отказа другой стороной90. С отказом от условия наступают предусмотренные правовые последствия. Момент их наступления определяется моментом отказа от условия, т.е. они действуют с момента отказа от условия, а не с обратной силой с момента заключения сделки. Немецкое право исходит из того, что между моментом наступления условия (наступления обстоятельств, являющихся предпосылками правовых последствий) и моментом устранения препятствий для наступления правовых последствий (отмены такого условия) разницы не имеется91.
Отменительное условие и право на отказ от договора (п. 1-2.30 Комментария #Глосса)
Вопрос о том, какое условие согласовано сторонами, а именно идет ли речь об отменительном условии или же о возникновении права на односторонний отказ от договора, зависит от воли сторон, а в практическом плане — от толкования их волеизъявления. Это совершенно разные условия. При наступлении отменительного условия соответствующие права и обязанности прекращаются автоматически92, дополнительного волеизъявления на это ни одной из сторон не требуется. В немецком праве толкование происходит по принципу выяснения действительной воли сторон, приоритет буквальному смысла договора не отдается (§ 133 ГГУ).
Фикция наступления условия (п. 3 Комментария #Глосса)
В немецком праве фикция наступления или ненаступления условия в условных сделках урегулирована в § 162 ГГУ, который очень близок к формулировкам п. 3 ст. 157 ГК РФ.
Считается, что стороны, заключив условную сделку, поставили возникновение правовых последствий в зависимость от наступления или ненаступления определенных обстоятельств, событий, относительно которых неизвестно, наступят
89См.: Westermann H.P. Op. cit. § 158. Rn. 44.
90См.: Bork R. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Rn. 1264а.
91См.: Westermann H.P. Op. cit. § 158. Rn. 44; BGH Urteil vom 25.03.1998, Az.: VIII ZR 185/96.
92См.: Westermann H.P. Op. cit. § 158. Rn. 44.
104

93
94
Свободная трибуна
они или нет. И воля сторон при заключении сделки была направлена именно на это. Когда одна из сторон своими действиями или бездействием пытается манипулировать фактическими обстоятельствами с целью наступления выгодного ей или ненаступления невыгодного результата, то такое поведение может привести к результатам, отличным от тех, которые были согласованы сторонами посредством их волеизъявлений. Право в таких случаях должно скорректировать последствия недобросовестных действий стороны, защитить интересы ее контрагента. Происходит это путем применения фикции наступления оговоренных условий. Право таким образом как бы исправляет те правовые последствия, на которые повлияла недобросовестная сторона, приводит стороны к тому правовому положению, которое было оговорено ими при заключении сделки.
Посредством применения фикции в случае недобросовестных действий стороны, повлиявших на результат, право вводит позитивную обязанность действовать добросовестно в соответствии с содержанием и целью сделки. Нарушение такой обязанности, если оно привело к результатам, противным содержанию и цели сделки, влечет правовое последствие в виде применения фикции тех последствий, которые соответствовали волеизъявлениям сторон сделки. Данная обязанность заключается в недопустимости недобросовестного препятствования наступлению или ненаступлению оговоренных условий. В немецком праве она выступает особым проявлением принципа добросовестности, согласно которому каждая сторона должна учитывать права и интересы другой стороны и не вправе извлекать преимущества из своего недобросовестного поведения. В силу такого подхода лицо, получившее какое-либо право в противоречие с принципом добросовестности, может быть лишено возможности такое право использовать или ссылаться на него. Отметим, что, применение фикции является не санкцией, наказанием недобросовестной стороны, а исправлением ситуации, приведением ее в соответствие с волеизъявлением сторон93.
Применение фикции не распространяется на случаи правовых условий. Так, препятствование недобросовестной стороной получению необходимого разрешения государственного органа не влечет применения фикции. В таких случаях может вставать вопрос об ответственности в преддоговорных отношениях (culpa in contrahendo), другая сторона может заявить о нарушении дополнительных обязанностей, обоснованных принципом добросовестности, и предъявить требование о возмещении убытков. Также возможен и иск о понуждении недобросовестной стороны совершить необходимые действия94.
Необходимым условием применения фикции является фактическое влияние поведения стороны на результат, наступление или ненаступление условия. Просто попытки повлиять на течение событий, когда это объективно не может иметь результата, недостаточно. Это подтверждает, что правило § 162 ГГУ не является санкцией на случай лишь самого факта недобросовестного поведения. Необходимо, чтобы поведение недобросовестной стороны реально и объективно повлияло и привело к изменению течения событий. Попытки затруднить или
См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. § 162. Rn. 2.
См.: Westermann H.P. Op. cit. § 162. Rn. 5.
105

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
отсрочить наступление или ненаступление условия не приводят к применению фикции. В данных случаях можно говорить лишь о нарушении стороной охранительных обязанностей или обязанностей по сотрудничеству, что может повлечь ее обязанность возмещения возникших у другой стороны убытков.
Раньше, еще при подготовке принятия ГГУ, высказывались мнения о неприменении фикции в случае потестативных условий. Но в итоге от этой оговорки было решено отказаться, и сейчас принципиальная возможность применения фикции и при потестативных условиях считается бесспорной95. В любом случае фикция может применяться, если наступлению условия недобросовестно содействовала другая сторона, от совершения действий которой не зависело наступление или ненаступление условия. Но фикция может применяться и в случае с поведением стороны, действия которой составляют содержание потестативного условия, если она нарушает принцип добросовестности, не выполняет обязанность учитывать права и интересы другой стороны, даже если формально она и не выходила за рамки своих дискреционных полномочий96. Ну и, конечно же, очень ограниченно может применяться фикция в случаях, когда речь идет об условиях воли стороны, если такое условие признается пригодным для условной сделки.
Для применения фикции наступления условия необходимо, чтобы поведение стороны, приведшее к иному результату, было недобросовестным. Чтобы выяснить это, нужно обратиться к § 242 ГГУ. При этом для квалификации должна приниматься во внимание вся совокупность обстоятельств, сопутствующих условной сделке, в том числе мотивы и цели заключения сделки, ее содержание97.
Поведение недобросовестной стороны необязательно должно быть умышленным. Если раньше судебная практика исходила из необходимости наличия умысла недобросовестного лица98, то на современном этапе предполагается, что и неосторожное поведение может оцениваться как достаточное. Кроме того, сейчас подчеркивается, что для применения фикции наступления условия согласно § 162 ГГУ достаточно и объективного нарушения требований принципа добросовестности99. В частности, речь о таком нарушении может идти тогда, когда сами мотивы соответствующего поведения выходили за рамки принятых норм этики, нравственности, морали или такое поведение противоречило смыслу и содержанию сделки100. Отсутствие требования наличия вины также обосновывается тем, что норма § 162 ГГУ не предусматривает ответственность за недобросовестное поведение101, ее смысл заключается в корректировке правового регулирования тех правовых последствий, которые были изменены.
95См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. § 162. Rn. 4.
96См.: Westermann H.P. Op. cit. § 162. Rn. 4.
97См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. § 162. Rn. 7.
98Ibid. § 162. Rn. 10.
99См.: Ellenberger J. Op. cit. § 162. Rn. 3.
100См.: Westermann H.P. Op. cit. § 162. Rn. 10.
101См.: Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. § 162. Rn. 10.
106

Свободная трибуна
Момент наступления условия при фикции его применения определяется моментом, когда при нормальном течении обстоятельств и добросовестном поведении сторон соответствующее условие предположительно наступило бы102.
Следствием недобросовестного поведения стороны по воспрепятствованию наступлению условия, которое ей было невыгодно, или содействию наступлению выгодного ей условия является правовая фикция наступления или ненаступления соответствующего условия. Поскольку такая фикция корректирует правовое регулирование правоотношения, обремененного недобросовестностью одной из сторон, то и условия ее применения определяются исходя из подходов, основанных на принципе добросовестности. Так, если для пострадавшей стороны условие является как выгодным, так и невыгодным, то его действие считается наступившим только в выгодной части. И наоборот, условие считается наступившим для недобросовестной стороны только в той части, которая для нее невыгодна. Считается, что такой подход вытекает и из § 162 ГГУ, согласно которому защищать нужно сторону, к чьей выгоде должно было наступить условие. При этом недобросовестная сторона не должна получить выгоду из применения фикции, потому что никто не может извлекать выгоду из своего недобросовестного поведения. Если бы недобросовестная сторона вела себя надлежащим образом, то она получила бы полагающиеся ей правовые блага при наступлении или ненаступлении условия при обычном течении обстоятельств103. Таким образом, фикция наступления или ненаступления условия действует не в полном объеме, а только в части, касающейся выгод пострадавшей стороны.
***
Обобщая изложенное, хотелось бы еще раз обратить внимание на важность обращения к иностранному, в частности немецкому, правовому опыту по многим актуальным для российского права вопросам. Использование соответствующего немецкого опыта, основанного на многолетней научной и практической базе, несомненно, должно способствовать формированию отечественной доктрины, помочь комплексно и системно взглянуть на соответствующие вопросы российского права.
References
Bayreuther F., in: Muenchener Kommentar zum BGB Allgemeiner Teil §§ 1–240. 7. Auflage. Muenchen, Beck, 2015. 2828 s.
Bork R. Allgemeiner Teil des Buergerlichen Gesetzbuchs. 3. Auflage. Tuebingen, Mohr Siebeck, 2011. 767 s.
102Ibid. § 162. Rn. 12.
103Ibid. Rn. 11.
107

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
Bork R., in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB. Buch 1. §§ 139–163. Berlin, Sellier-de Gruyter, 2015. 431 s.
Brox H., Walker W.-D. Allgemeiner Teil des BGB. 41. Auflage. Muenchen, Vahlen, 2017. 392 s.
Ellenberger J., in: Pallandt Kommentar zum BGB. 77. Auflage. Muenchen, Beck, 2018. 3297 s.
Finkenauer F., in HKK zum BGB. Band I. Allgemeiner Teil §§ 1–241. Tuebingen, Mohr Siebeck, 2003. 1121 s.
Flume W. Allgemeiner Teil des Buergerlichen Rechts. Das Rechtsgeschaeft. 3. Auflage. Berlin, SpringerVerlag, 1979. 987 s.
Karapetov A.G., ed. Transactions, Representation, Limitation of Actions: An Article-by-Article Commentary to Articles 153–208 of the Civil Code of the Russian Federation [Sdelki, predstavitelstvo, iskovaya davnost’: postateinyi kommentariy k st. 153–208 GK RF]. Moscow, M-Logos, Statut, 2018. 944 p.
Koehler H. BGB Allgemeiner Teil. 41. Auflage. Muenchen, Beck, 2017. 320 s.
Medicus D. Allgemeiner Teil des BGB. 10. Auflage. Heidelberg, C.F. Mueller, 2010. 518 s.
Medicus D., Petersen J. Allgemeiner Teil des BGB. 11. Auflage. Heidelberg, C.F. Mueller, 2016. 546 s.
Roevekamp K., in: Bamberger/Roth Kommentar zum BGB. Band 1. §§ 1–610. Muenchen, Beck, 2012. 3378 s.
Stadler A. Allgemeiner Teil des BGB. 19. Auflage. Muenchen, Beck, 2017. 517 s.
Westermann H.P., in: Muenchener Kommentar zum BGB. Allgemeiner Teil §§ 1–240. 7. Auflage. Muenchen, Beck, 2015. 2828 s.
Wolf M., Neuner J. Allgemeiner Teil des Buergerlichen Rechts. 11. Auflage. Muenchen, Beck, 2016. 746 s.
Information about the author
Kirill Nam — PhD in Law, LLM, Master of Private Law (69117 Germany, Heidelberg, Augustinergasse 9; e-mail: 6964889@gmail.com).
108
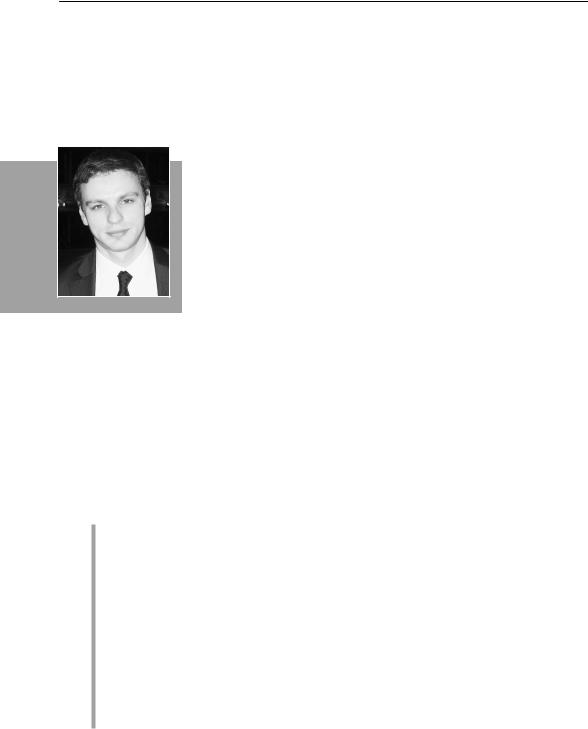
Свободная трибуна
Даниил Борисович Володарский
доцент кафедры гражданского процесса СПбГУ, кандидат юридических наук
К вопросу о привлечении взыскателя к ответственности по ст. 395 ГК РФ за приведение
в исполнение ошибочного судебного акта
Комментарий к п. 59 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»
Автор критикует разделяемый Пленумом ВС РФ подход, согласно которому истец, взыскавший денежную сумму на основании ошибочного судебного акта, освобождается (по общему правилу) от ответственности за ее использование вплоть до вступления в силу итогового судебного акта в пользу ответчика. По мнению автора, льготный для истца период может продолжаться лишь постольку, поскольку ошибочный судебный акт продолжает действовать, а его отмена (а возможно, и подача на него жалобы, впоследствии удовлетворенной) порождает для истца обязанность относиться к взысканной сумме как к спорной и, следовательно, использовать ее так, чтобы оказаться способным возвратить ответчику в случае проигрыша дела не только взысканную сумму (капитал), но и начисленные на нее проценты в размере ключевой ставки Банка России.
Ключевые слова: ответственность вследствие неосновательного взыскания, каузальный эффект судебного акта, принцип правовой определенности, бремя сомнения тяжущегося лица в собственной правоте
109

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
Daniil Volodarskiy
Assistant Professor at the Department of Civil Procedure of Saint Petersburg State University, PhD in Law
To the Issue of Holding a Recoverer Liable under Article 395 of the Civil Code of the RF for the Effectuation of an Erroneous Court Order
Comment to para. 59 of Decision of the Plenary Meeting of the Supreme Court of the RF No. 7 «On Application by the Courts of Certain Provisions of the Civil Code of the Russian Federation Concerning Liability for Violation of Obligations», 24 March 2016
The author criticizes the approach supported by the Plenary Meeting of the Supreme Court of the RF, according to which the judgment creditor who has collected an amount of money on the basis of an erroneous court order (according to the general rule) shall not be held liable for its use until the entry into legal force of a final court order in favor of the defendant. The author believes that the privileged period for the claimant can continue only due to the fact that the erroneous court order remains in legal effect and its cancellation (and perhaps the submission of a complaint against it which is subsequently satisfied) creates for the claimant the obligation to treat the collected amount as questionable and, consequently, to be able to repay to the defendant, if the claimant loses in the case, not only the collected amount (capital), but also the interest accrued on it in the amount of the key interest rate of the Bank of Russia.
Keywords: liability due to unjustified collection, causal effect of a court order, principle of legal certainty, burden of doubt of a litigant in his own right
1.Постановка проблемы
Всоответствии с разъяснениями, изложенными в п. 59 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее — постановление № 7), начисление процентов годовых на денежную сумму, взысканную истцом по впоследствии отмененному судебному решению, по общему правилу начинается лишь после вступления в силу итогового судебного акта об отказе в удовлетворении иска. Весь предшествующий период — с момента принудительного взыскания до окончания рассмотрения дела — истец вправе пользоваться соответствующей суммой безвозмездно. Исключение сделано лишь для случаев заведомой недобросовестности истца (например, когда он способствовал принятию неправосудного решения путем фальсификации доказательств). В этих случаях гражданско-правовая ответственность наступает немедленно после производства взыскания, а проценты начисляются за весь период пользования денежными средствами.
Правовая позиция Верховного Суда РФ нуждается в истолковании, так как с экономической точки зрения она выглядит далеко не очевидной: истцу, материальная правота которого оказалась опровергнутой по итогам разбирательства, предоставляется возможность бесплатного кредитования за счет ответчика в течение длительного времени — с момента взыскания им денежных средств по ошибочному решению до вынесения окончательного судебного акта в пользу ответчика.
110

Свободная трибуна
На первый взгляд, из всех участников процесса, на которых может быть возложен риск судебной ошибки, ВС РФ выбирает самого неподходящего — ответчика, привлеченного к участию в деле помимо своей воли и являющегося жертвой необоснованного с материально-правовой точки зрения воздействия. Тот факт, что государство должно быть защищено от ответственности за обычную судебную ошибку (п. 2 ст. 1070 ГК РФ), не вызывает сомнения — это обусловлено требующими защиты публичными интересами1. Однако неясно, почему такой же иммунитет должен быть предоставлен истцу, инициатива которого в силу диспозитивного начала гражданского судопроизводства привела к возбуждению дела (при отсутствии, как выясняется по итогам разбирательства, действительных материальных оснований к истребованию спорной суммы) и приведению в исполнение ошибочного судебного акта. Не будет ли более справедливым и экономически оправданным противоположный подход, согласно которому истец посредством выплаты процентов за период удержания неправомерно присужденных денежных средств должен возместить пострадавшему ответчику хотя бы minimum minimorum имущественных потерь, понесенных им вследствие необоснованного взыскания?
Кроме этого, необходимо разобраться с тем, почему именно вступление в силу итогового судебного акта по делу должно явиться стартовой точкой для начисления процентов. Подчеркнем, что в качестве такого судебного акта по смыслу данного Верховным Судом разъяснения понимается не постановление суда об отмене первоначально принятого решения, а тот судебный акт, который содержит окончательную резолюцию по существу рассматриваемого спора. Так, если решение было отменено в кассации с передачей дела на повторное рассмотрение, итоговым судебным актом будет считаться вновь принятое решение суда первой инстанции, в случае же обжалования последнего — постановление апелляционного суда об отказе в удовлетворении иска2. Поскольку именно в этих судебных актах должно содержаться указание на поворот исполнения первоначально принятого решения (ч. 1 ст. 325 АПК РФ, ч. 1 ст. 444, ч. 1 ст. 445 ГПК РФ), налицо недвусмысленное желание Верховного Суда увязать возникновение обязанности по уплате процентов с вступлением в законную силу резолюции о повороте исполнения. Однако такая увязка не представляется самоочевидной, ибо неясно, почему простая отмена первоначального судебного акта, пускай и без вынесения итогового решения по существу спора, не может считаться стартовой точкой для начисления процентов. По крайней мере, взыскатель после такой отмены уже не может оправдывать удержание и пользование присужденными ему денежными средствами тем, что такое его поведение согласуется с официальным суждением, выраженным в принятом в его пользу и вступившем в законную силу решении суда.
1См.: постановление КС РФ от 25.01.2001 № 1-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова».
2См. соответствующую судебную практику, напр.: постановления АС Московского округа от 25.11.2015 по делу № А40-62797/14; Первого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2016 по делу № А381151/2016; АС Уральского округа от 27.06.2016 № Ф09-4648/16 по делу № А76-10393/2015; Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2017 № 13АП-25491/2017 по делу № А56-22849/2017; АС Западно-Сибирского округа от 23.12.2016 № Ф04-5867/2016 по делу № А46-2704/2016 и др.
111

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
Таким образом, нет сомнений в том, что правовая позиция Пленума ВС РФ нуждается в истолковании.
На наш взгляд, рассуждениям, позволяющим внести сюда некоторую ясность, можно придать ход в двух различных направлениях, обусловленных природой процентов годовых как меры гражданско-правовой ответственности, что невольно требует ответа на вопрос о том, содержатся ли в действиях истца, взыскивающего денежные средства по ошибочному судебному акту и впоследствии их удерживающего, необходимые элементы состава гражданского правонарушения.
Во-первых, можно утверждать, что действия истца, предъявившего к исполнению первоначальное судебное решение, являются правомерными и, следовательно, в них отсутствует объективная сторона правонарушения. Для такого утверждения, на первый взгляд, есть основания, учитывая, что действующий процессуальный закон легитимирует выигравшего кредитора на возбуждение исполнительного производства после вступления решения в законную силу, хотя бы и не все средства его обжалования были исчерпаны, а риск дальнейшей отмены принятого судебного акта продолжает существовать. Приведение в исполнение вступившего в законную силу решения суда — правомерное действие, обусловленное присущим ему свойством обязательности (ст. 16 АПК РФ, ст. 13 ГПК РФ), что, как может сначала показаться, исключает возложение на истца имущественных санкций.
Во-вторых, можно сделать акцент не на отсутствии объективной стороны правонарушения, а на невиновности истца, приводящего в исполнение пусть ошибочный, но формально действительный судебный акт. Это суждение также выглядит убедительным, поскольку истца, опирающегося на вступившее в законную силу судебное решение, сложно назвать недобросовестным. Это особенно очевидно в контексте сравнения обычной ситуации (общего правила) с ситуацией-исклю- чением, упомянутой в разъяснении Пленума, в которой решение вынесено на основании сфальсифицированных истцом доказательств, что делает невозможными рассуждения о его невиновности. В стандартных же случаях истец доверяет содержащимся в решении суда выводам о собственной материальной правоте, а потому, привлекая его к ответственности за произведенное взыскание, мы разрушаем его ожидания и веру в публичные институты.
Несмотря на то, что текст постановления № 7 дает основания полагать, что Пленум исходит из концепции невиновности истца (формулировка комментируемого разъяснения подразумевает, что именно добросовестность взыскателя освобождает его от ответственности), в судебной практике встречаются решения, очевидно основанные на первом способе аргументации, в связи с чем обе линии рассуждений нуждаются в последовательном анализе. Это обусловливает логическую структуру дальнейшего изложения: вначале вопрос об ответственности истца будет рассмотрен с точки зрения объективных условий применения соответствующих мер, а именно наличия в его действиях признаков противоправности (раздел 2); далее мы обратимся к вопросу о наличии в его действиях признаков вины (раздел 3); в завершение статьи будут представлены краткие выводы по существу исследуемой тематики (раздел 4).
112

Свободная трибуна
2. Объективистская интерпретация позиции Пленума ВС РФ (отсутствие противоправного деяния как основания имущественной ответственности истца)
Освобождение истца от ответственности за приведение в исполнение ошибочного судебного акта ввиду его управомоченности на осуществление данного действия (в силу ст. 16 АПК РФ, ст. 13 ГПК РФ) кажется весьма удобным способом аргументации в пользу занятой Верховным Судом РФ позиции, однако уже при ближайшем рассмотрении обнаруживается его явная недостаточность. Связано это с тем, что отсылка к формально действующему судебному акту способна обосновать лишь правомерность перемещения денежных средств от ответчика к истцу на момент его исполнения, однако не может объяснить, почему последующее удержание присужденной суммы истцом, в том числе после отмены данного решения, также следует считать легитимным.
Чтобы разрешить это затруднение, требуются дополнительные доводы, которые, как правило, звучат следующим образом: поскольку до момента принятия итогового судебного акта по делу суд не разрешает вопрос о повороте исполнения судебного акта, все это время у истца отсутствует юридическая обязанность по возврату ошибочно взысканного с ответчика. Такая обязанность возникает у истца лишь в момент вступления в силу судебной резолюции о повороте исполнения, и, следовательно, дополнительные охранительные притязания, связанные с ее неисполнением (в том числе по уплате процентов), не могут образоваться ранее этой даты.
Примеры подобного рода рассуждений можно найти в судебных актах. Так,
впостановлении Арбитражного суда Московского округа от 11.08.2016 № Ф0511231/2016 по делу № А40-182074/15 прямо, со ссылкой на ст. 325 АПК РФ, указано, что «отмена исполненного судебного акта и направление дела на новое рассмотрение не образует юридической обязанности (здесь и далее в цитатах курсив наш. — Д.В.) по возврату полученных взыскателем по такому акту денежных средств». В постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.12.2013 по делу № А21-4681/2010 также говорится о том, что законные основания для удержания ошибочно взысканных денежных средств отпадают лишь после вступления в законную силу судебного акта об отказе
виске, после чего всё то, что было получено истцом, подлежит возврату ответчику. Иными словами, в этих и других судебных актах3 аргументация строится на соединении ст. 16 АПК РФ, постулирующей правомерность первоначального перемещения денежных средств от ответчика к истцу исполнительным действием судебного акта (который играет роль iusta causa для такого предоставления), и ст. 325 АПК РФ, призванной обосновать законность последующего удержания истцом полученных денежных средств вплоть до вынесения резолюции о повороте исполнения.
Вместе с тем данная аргументация не может считаться удовлетворительной.
3См., напр.: определение ВАС РФ от 03.02.2014 № ВАС-14594/11; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2014 № 09АП-46970/2014 по делу № А40-50476/14 и др.
113
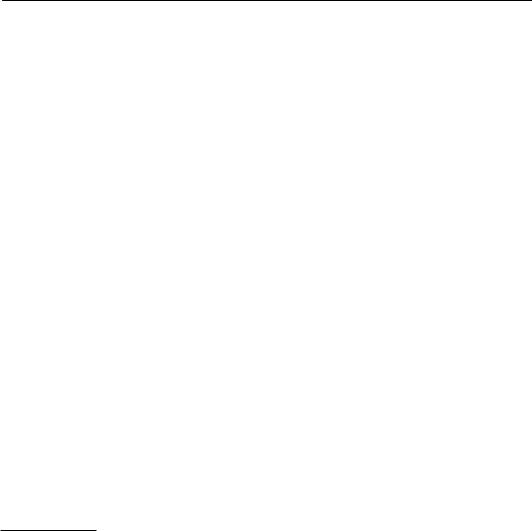
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
Во-первых, взгляд на впоследствии отмененное решение как на правомерное основание получения истцом денежных средств по сути предполагает абстрагирование судебного акта о присуждении от тех установленных в нем материальных фактов и правоотношений, вывод о существовании которых послужил причиной для его принятия. Неважно, что соответствующий вывод в дальнейшем был опровергнут, — поскольку на момент исполнения первоначальный судебный акт обладал свойством обязательности (ст. 16 АПК РФ), он, по мысли судов, был способен заменить собой необходимый материально-правовой состав.
Такие рассуждения видятся ошибочными. Современное представление о правосудии опирается на идею о том, что процессуальная защита может быть предоставлена заинтересованному лицу, лишь поскольку существуют внепроцессуальные основания, обусловливающие такую потребность (п. 1 ст. 2 АПК РФ, ст. 2 ГПК РФ). Именно поэтому вся судебная процедура является механизмом установления материально значимых фактов, а мотивировочная часть судебного акта должна содержать сведения о них как о причине вынесения судебной резолюции. Это предопределено конституционным назначением юрисдикционной деятельности государства — не вмешиваться в правоотношения сторон, не создавать волюнтаристским образом для них права и обязанности, а лишь способствовать беспрепятственной реализации тех правовых возможностей, которые возникли в рамках свободного взаимодействия независимых субъектов экономического оборота (ст. 46 Конституции РФ)4.
Следовательно, не судебное решение как акт государственной власти, а только и исключительно те материальные факты и правоотношения, которые в ходе разбирательства подтверждены судом, должны рассматриваться в качестве каузы совершаемых по итогам и в связи с процессом имущественных предоставлений5. Решение же должно восприниматься лишь в качестве инструмента, обеспечивающего возможность их осуществления помимо воли обязанного лица и вопреки ей, т.е. как имеющее сугубо внешнее к материальным отношениям сторон значение6.
4См.: Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: монография. М., 2010 (§ 1 главы 2).
5Об отсутствии у судебного решения о присуждении материально-правового значения см., напр.: Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. М., 2008. С. 418; Загайнова С.К. Теоретические проблемы характеристики судебных актов в гражданском и арбитражном процессах // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов / под ред. Л.Ф. Лесницкой, М.А. Рожковой. М., 2008. С. 334–355; Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы // Гурвич М.А. Избранные труды. Т. 1. Краснодар, 2006. C. 502.
6Этому тезису не противоречит содержащееся в ст. 8 ГК РФ указание на то, что судебный акт относится к числу юридических фактов материального права, влекущих за собой возникновение материальных правоотношений. Данное указание имеет отношение лишь к преобразовательным (конститутивным) искам, по итогам рассмотрения которых действительно выносятся решения с материально-правовым эффектом (конститутивные решения). Однако и здесь они являются средством реализации тех правомочий субъектов гражданского оборота, которые непосредственно вытекают из материальных отношений, связаны с ними и служат для защиты внепроцессуальных интересов их участников (право на расторжение договора, на оспаривание сделки, на легализацию самовольной постройки и т.д.). См.: Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы. C. 478–479; Останина Е.А. Преобразовательные иски и приобретение вещного права // Иски и судебные решения: сб. ст. / под ред. М.А. Рожковой. М., 2009.
114

Свободная трибуна
Осмелимся предположить, что причины распространенного, но тем не менее ошибочного взгляда на решение суда как на основание совершаемых в рамках исполнительного производства предоставлений (примером чему являются вышеуказанные судебные акты) носят сугубо эмпирический характер. Действительно, для стороннего наблюдателя принудительная реализация юридической обязанности выглядит существенно иным образом, нежели ее добровольное исполнение. Обязанность должника и пристава исполнить судебный акт (ст. 16 АПК РФ) и связанная с ней правореализационная деятельность как бы выходят здесь на первый план, вследствие чего возникает соблазн утверждать, что эта публичная обязанность заменяет собой изначальную частноправовую, а судебное решение становится новым каузальным основанием для производимых в рамках исполнительного производства имущественных предоставлений.
Такая точка зрения, принимающая совершающееся здесь изменение модуса исполнения юридической обязанности (действиями судебного пристава-исполни- теля, а не добровольными действиями должника) за изменение ее природы, наивным образом искажает подлинный смысл происходящего. Наличие внешних публично-правовых форм, возникающих в связи с вступлением судебного акта в законную силу, не должно становиться препятствием для различения за ними материально-правовой первоосновы — того исходного материально-правового отношения, ради которого только и функционирует опосредующая его реализацию процессуальная надстройка7. Именно оно является единственно значимой целью судебной и исполнительной деятельности, ее подлинным триггером, и, стало быть, именно продекларированный в судебном решении материальноправовой состав, а не само судебное решение, должен рассматриваться в качестве действительного основания для происходящего здесь (пусть и в принудительной форме) перемещения имущественных благ в сферу хозяйственного господства истца. В его отсутствие судебное решение выступить в роли суррогатной, заменяющей каузы неспособно8.
Во-вторых, взгляд на впоследствии отмененное решение как на основание получения истцом денежных средств и причину освобождения его от обязанности уплачивать проценты по ст. 395 ГК РФ в контексте разбираемой объективистской интерпретации является логически последовательным лишь при условии, что дальнейшая отмена такого решения будет пониматься как отпадение каузы с перспективным эффектом (ex nunc). В противном случае объяснить освобожде-
7Такая первооснова должна выявляться путем логической редукции — мысленного удаления процессуальных элементов механизма реализации подтвержденных судом притязаний для обнаружения их материальной составляющей. Данный прием позволит, например, увидеть за действиями пристава, выполняющего содержащееся в исполнительном документе предписание суда, действия самого должника, выполняющего лежащую на нем материальную обязанность.
8Этим рассуждениям не противоречит представление о формальном характере судебного познания. То обстоятельство, что в условиях состязательного процесса суд может пройти мимо реальных фактов, а факты вымышленные установить как имевшие место, создав тем самым альтернативную картину мира, отличающуюся от материальной действительности, не свидетельствует в пользу материальноправовой природы судебного решения, его каузального по отношению к продекларированным в нем правам и обязанностям значения. Это связано с тем, что и в случае оставшейся неисправленной судебной ошибки решение суда будет отсылать к фактам внепроцессуальной материально-правовой действительности (пусть и неверно установленным), рассматривая их, а не само себя, в качестве основания сделанных в нем юридических выводов.
115
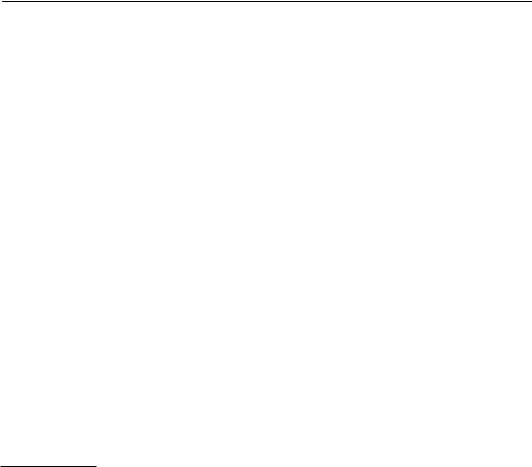
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
ние истца от ответственности отсутствием обязательства по возврату неосновательного обогащения будет невозможно, ибо при ретроспективном отпадении каузы такая обязанность должна считаться возникшей с обратной силой применительно к моменту исполнения первоначального судебного акта9,10.
Такой подход, однако, обнаруживает при последовательном его проведении ряд побочных проблем. Например, распространение этой логики на судебные решения об исполнении договорной обязанности передать индивидуально-опре- деленную вещь будет означать не только то, что право собственности на такую вещь необходимо будет считать перешедшим в результате исполнения решения от ответчика к истцу (в отсутствие подлинного договорного основания!), но и то, что после отмены соответствующего судебного акта это право не будет истцом автоматически утрачено, а все распоряжения, сделанные им в течение «периода подвешенности» (отчуждение в пользу третьего лица, наложение залогового обременения и т.д.), будут считаться сохраняющими силу как совершенные подлинным правообладателем11. Это неминуемо поставит нас в оппозицию к сложившемуся в судебной практике и подтвержденному высшими судами подходу, согласно которому вещь, отобранная по действующему, но впоследствии отмененному решению о принуждении ответчика к исполнению договорной обязанности, должна рассматриваться как выбывшая из владения собственника помимо его воли, т.е. как подлежащая изъятию даже у ее добросовестного приобретателя12.
Приравнивание последствий отмены ошибочного судебного акта к юридическим последствиям расторжения исполненного договора, который также теряет силу лишь на будущее время (ex nunc), выглядело бы парадоксальным. По сути, два диаметрально противоположных явления — добровольное исполнение дей-
9Следовательно, за поиском причины неначисления процентов годовых следует обращаться к субъективному моменту — «узнал и должен был узнать». Об этом см. далее п. 3 настоящей публикации.
10Взгляд, согласно которому отмена судебного решения, наряду с расторжением договора и оспариванием сделки, должна рассматриваться в качестве одного из примеров отпадения материальной каузы, получил отражение в научной литературе, см.: Новак Д.В. Неосновательное обогащение в гражданском праве. М., 2010 (§ 1 главы 4); Ушивцева Д.А. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: вопросы теории и практики. Тюмень, 2006 (§ 2.1 главы 2); Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 2. М., 2011. Т. 2 (автор п. 2 § 1 главы 57 — В.С. Ем). Указанные авторы, однако, не говорят, какой эффект будет иметь здесь отпадение каузы, — перспективный или ретроспективный. Мы, в свою очередь, настаиваем на том, что отмена судебного решения лишь тогда может быть рассмотрена в качестве частного случая отпадения материальной каузы, когда речь идет о решениях конститутивных, т.е. выносимых по результатам рассмотрения преобразовательных (конститутивных) исков и обладающих материально-правовым значением (см. сноску 6).
11Как это имеет место в аналогичной ситуации с расторжением исполненного продавцом договора куп- ли-продажи, которое само по себе не ведет к аннулированию залогового обременения, наложенного покупателем в период после приобретения им права собственности на приобретенную им, но подлежащую возвращению продавцу вещь (см. п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора»).
12См.: п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения»; Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых помещений от граждан по искам государственных органов и органов местного самоуправления, утв. Президиумом ВС РФ 25.11.2015.
116

Свободная трибуна
ствительного (хотя и расторгнутого впоследствии) договора, заключенного по свободному усмотрению его участников, и принудительное отобрание вещи на основании ошибочного судебного акта, принятому вопреки воли собственника, — приводили бы к одинаковому правовому результату, что абсурдно.
В-третьих, неверной является и идея о том, что возникновение обязательства по возврату неосновательно взысканного необходимо определять в соответствии с нормами АПК РФ о повороте исполнения (ст. 325–326), относя его к моменту принятия итогового судебного акта по делу (ч. 1 ст. 326). Здесь опять-таки происходит смешение процессуальных и материальных явлений. Сугубо процессуальному юридическому факту, коим является вынесение резолюции о повороте исполнения, необоснованно придано несвойственное ему правопорождающее (в материальном смысле) значение.
Для того чтобы понять допущенную здесь ошибку, необходимо вспомнить, что в жизни любого притязания должны быть разграничены, как разновременные,
(а) момент его возникновения (и немедленного либо последующего созревания), устанавливаемый согласно нормам материального права, и (б) момент, когда оно получает непосредственную возможность быть реализованным в рамках исполнительных процедур, определяемый по правилам гражданского судопроизводства13. Существование временнóго промежутка между ними обусловлено очевидными причинами — механизм принудительного исполнения может начать функционировать лишь при условии предваряющего его судебного разбирательства, в рамках которого существование спорного притязания должно быть верифицировано судом.
Не является исключением и кондикционное притязание ответчика о возврате неосновательно взысканного по ошибочному судебному акту, в отношении которого оба этих момента также необходимо определять строго дифференцированно. В поисках ответа на первый вопрос — о возникновении данного притязания — необходимо руководствоваться нормами материального права, а именно ст. 1102 ГК РФ, согласно которой неосновательное обогащение является следствием перехода к приобретателю имущества в отсутствие легитимирующей его каузы. В данном случае, как мы сказали, это происходит в момент исполнения первоначального ошибочного решения14.
Поиск обстоятельства, с которым законодатель связывает оснащение рассматриваемого притязания принудительно-исполнительным инструментарием, следует осуществлять, обратившись к процессуальным нормам. При этом особенность разбираемой ситуации будет заключаться в том, что обогащение истца происходит здесь по ходу уже начатого процесса, ввиду чего этот процесс надлежит рассматривать и как место разрешения спора о возвращении полученного ответчику. Вследствие исполнения первоначального решения происходит своего
13Таким моментом, как правило, является момент вступления судебного акта в законную силу (ст. 182 АПК РФ).
14Данное обязательство является охранительным (вытекает из объективного правонарушения), а значит, созревает в момент своего возникновения. См.: Гурвич М.А. Право на иск // Гурвич М.А. Избранные труды. Краснодар, 2006. Т. 1. С. 189; Ушивцева Д.А. Указ. соч.
117
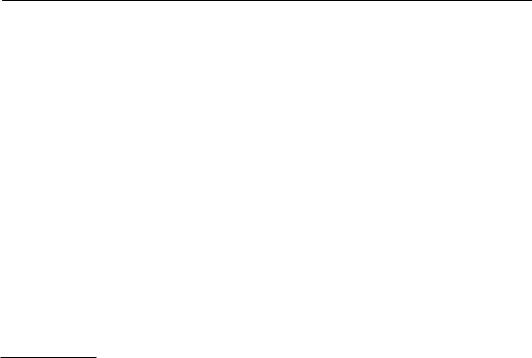
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
рода удвоение предмета судебной деятельности: спорным становится не только ранее заявленное притязание истца, экономически уже осуществившееся (хотя и юридически условно, так как производство по делу все еще продолжается), но и обратное ему зеркальное требование о возврате взысканного, на чем настаивает ответчик, используя средства обжалования первоначального решения. Вынесение же итогового судебного акта в его пользу, в свою очередь, будет свидетельствовать о завершении этой тяжбы, играя роль того самого процессуального факта, посредством которого кондикционное притязание ответчика декларируется (а не порождается (!)) для целей незамедлительного исполнения15.
Указание на ст. 325–326 АПК РФ как на нормы, фиксирующие момент возникновения обязанности взыскателя по возврату недолжно полученного, ошибочно, потому что им de facto присваивается несвойственное материальноправовое значение. Они как бы становятся суррогатом главы 60 ГК РФ16 для ситуаций, когда обогащение произошло в рамках судебного процесса вследствие принятия неправильного решения17. Такая их трактовка в корне неверна, ибо игнорирует предмет регулятивного воздействия процессуального законодательства, призванного нормировать процедуру разрешения споров, а не перемещение имущественных благ (ч. 2 ст. 3 АПК РФ, ч. 1 ст. 1 ГПК РФ). Для того чтобы вменить положению процессуального закона значение нормы, не-
15Иначе говоря, в этот момент для истца лишь возникает процессуальная обязанность подчиниться решению суда о возврате ранее полученного, в то время как соответствующая материальная обязанность перед ответчиком возникла намного раньше — в момент первоначального взыскания. Примером нечеткого понимания соответствующей дифференциации является особое мнение судьи Сарбаша С.В. к постановлению Президиума ВАС РФ от 16.04.2013 № 1395/13, содержащее,
вчастности, такой пассаж: «Отмена исполненного судебного акта и направление дела на новое рассмотрение не образует юридической обязанности по возврату полученных взыскателем по такому акту денежных средств. Это подтверждается частью 1 статьи 325 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». Такая отмена действительно не образует соответствующей ма- териально-правовой обязанности, ибо она уже возникла в момент исполнения первоначального ошибочного решения. Однако ст. 325 АПК РФ к этому не имеет никакого отношения, если не иметь в виду, конечно, иной, процессуальной, обязанности перед судом по исполнению судебного акта — обязанности, которая обладает другой правовой природой, содержанием, субъектным составом и основанием возникновения.
16И иных норм материального права, имеющих потенциал для восстановления интересов ответчика в рамках процедуры поворота исполнения по различным категориям дел: о виндикации (ст. 301 ГК РФ), реституции владения (ст. 167 ГК РФ), понуждении к исполнению обязательства в натуре (ст. 308.3 ГК РФ) и т.д. Отметим, что вопрос о материальных способах защиты, которые могут быть реализованы посредством предусмотренной ст. 325 АПК РФ процедуры, нуждается в специальном исследовании.
17Источником данной ошибки является правовая позиция, высказанная в постановлении Президиума ВАС РФ от 02.11.2004 № 10680/04 по делу № А40-9882/03-55-111, где ВАС РФ согласился с нижестоящими судами в том, что к отношениям, возникающим в связи с восстановлением интересов ответчика, пострадавшего от исполнения отмененного решения, глава 60 ГК РФ не применяется, что представляется в корне неверным по изложенным в настоящей статье причинам. Пожалуй, единственным исключением, при котором предоставление, совершаемое в рамках поворота исполнения, не подлежит материально-правовой квалификации и представляет собой реституцию, вызванную сугубо процессуальными причинами, является ситуация, при которой поворот производится вследствие оставления иска без рассмотрения либо прекращения производства по делу (ввиду отсутствия у истца права на предъявление иска). Здесь спор между сторонами остается неразрешенным, ввиду чего итоговая мате- риально-правовая квалификация как первоначального исполнения в пользу истца, так и обратного —
впользу ответчика дана быть не может.
118
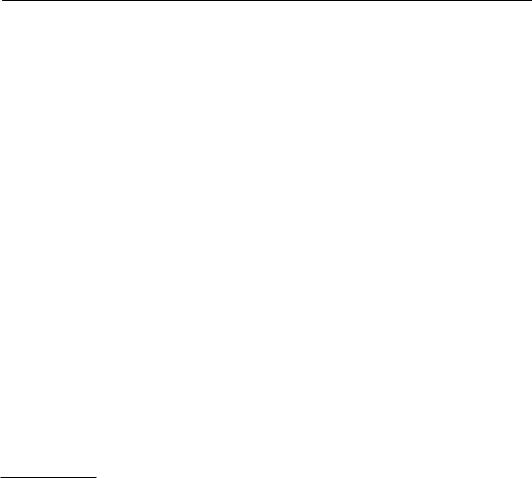
Свободная трибуна
посредственно регулирующей имущественные отношения сторон, необходима недвусмысленная воля законодателя и очевидные теоретические и политикоправовые предпосылки18.
Применительно же к ст. 325–326 АПК РФ эти требования не соблюдаются. Содержание находящихся в них норм — надо сказать, довольно скупое — свидетельствует о присущем им сугубо инструментальном значении, регулировании ими лишь процедурной стороны вопроса о восстановлении интересов ответчика, но не самих этих отношений, которые по своей материальной природе могут отличаться большим разнообразием (кондикция, виндикация, реституция владения и т.д.)19. При этом неочевидны и какие-либо политико-правовые причины изъятия отношений, порождаемых исполнением ошибочного решения, из-под регулирующего воздействия применимых к ним норм материального права путем создания специального института, помещенного в текст Арбитражного процессуального кодекса. В связи с этим обращение к нормам о повороте исполнения (ст. 325–326 АПК РФ), а не к положениям гражданского права (ст. 1102 ГК РФ) для определения момента возникновения кондикционного притязания ответчика о возвращении ему недолжно взысканного представляется ошибочным. Данные нормы лишь указывают на момент, когда ранее возникшее обратное притязание ответчика приобретает свойство процессуальной определенности, вследствие чего для его реализации может быть незамедлительно получен исполнительный документ20.
Совокупность приведенных выше соображений позволяет нам говорить о неработоспособности идеи, согласно которой обязательство истца по возврату неосновательно взысканного возникает лишь после вынесения по делу итогового решения об отказе в удовлетворении иска. Такая обязанность в условиях отсутствия материальной каузы, легитимирующей произведенное предоставление,
18Это, например, имеет место в случае с институтом судебных расходов. См., в частности: Ильин А.В. К вопросу о допустимости квалификации судебных расходов в качестве убытков // Вестник гражданского права. 2011. № 6. С. 120–129.
19См., напр.: постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.2010 № 3809/07 по делу № А55-11607/2005, где отношения, возникающие в связи с поворотом исполнения по отмененному решению о взыскании налоговой недоимки, квалифицированы с материальной точки зрения как отношения по возврату из бюджета неосновательно полученных денежных средств (глава 12 НК РФ).
20Отметим, что в целом ряде случаев воззрение, согласно которому возврат присужденного по судебному акту находится за пределами регулятивного воздействия главы 60 ГК РФ, приводит суды к абсурдным выводам. Так, Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики отказал заявителю в иске о возврате взысканной суммы имущественного вреда по позднее отмененному приговору с указанием, что взыскание производилось по действовавшему на тот момент судебному акту, а нормы о неосновательном обогащении к соответствующим отношениям применены быть не могут (притом что в уголовном судопроизводстве отсутствует и процедура поворота исполнения). В результате право гражданского ответчика на возврат неправомерно взысканной суммы оказалось заблокированным только из-за того, что нарушение имело в своей основе приговор суда (ошибочный!). Для исправления ситуации пришлось вмешиваться Верховному Суду РФ, указавшему, что нормы главы 60 ГК РФ все же должны применяться в таком случае (см.: определения ВС РФ от 12.07.2016 № 30-КГ16-2, № 30-КГ16-3). В других случаях, однако, сам ВС РФ приходит к прямо противоположному результату и говорит о нераспространении норм о неосновательном обогащении (в частности, п. 3 ст. 1109 ГК РФ) на материальные отношения, возникающие в связи с поворотом исполнения судебного акта (см., напр.: определения ВС РФ от 12.10.2015 № 16-КГ15-22, от 29.08.2016 № 35-КГ16-16).
119

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
рождается и созревает незамедлительно в момент исполнения первоначального судебного акта и, следовательно, дальнейшее использование полученной денежной суммы является материально противоправным, что свидетельствует о наличии в действиях истца объективной стороны правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 395 ГК РФ.
Это заставляет нас обратиться к альтернативной линии рассуждений и попытаться интерпретировать правовую позицию Верховного Суда в свете идеи о добросовестности истца, приводящего в исполнение формально действительный, хотя и материально ошибочный судебный акт и удерживающего на его основании взысканную сумму.
3. Субъективистская интерпретация позиции Пленума ВС РФ (отсутствие вины как условия имущественной ответственности истца)
Необходимость учета субъективного элемента при разрешении вопроса о взыскании процентов вытекает не только из ст. 395 ГК РФ, но и непосредственно из п. 2 ст. 1107 ГК, согласно которому проценты подлежат начислению с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения им денежных средств. На эту норму сделана отсылка и в комментируемом разъяснении Пленума ВС РФ, из чего можно сделать вывод, что, по мнению высшего судебного органа, осведомленность о неосновательности взысканного может быть вменена истцу лишь после вступления в законную силу итогового судебного акта, которым предъявленные им требования оставлены без удовлетворения.
Сразу отметим, что такой взгляд вступает в противоречие с правовой позицией Президиума ВАС РФ, содержащейся в постановлении от 21.01.2014 № 9040/13, в котором также рассматривался вопрос о взыскании процентов годовых в связи с фактом неосновательного взыскания, и где Президиум высказался следующим образом: «С момента вступления в законную силу судебный акт приобретает обязательный характер для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежит исполнению на всей территории Российской Федерации (часть 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). С этого момента судебное решение обладает признаком исполнимости (часть 1 статьи 182 названного Кодекса) и может быть предъявлено к принудительному исполнению взыскателем, который, однако, в случае неисчерпания всех средств судебной защиты (при наличии вступившего в законную силу, но не окончательного судебного акта по спору), предъявляя такой акт к исполнению, несет риски уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, полученными на основании предъявленного им к исполнению неокончательного судебного акта, при отмене последнего судом вышестоящей инстанции».
Из приведенного отрывка следует, что, по мнению ВАС РФ, самой по себе спорности притязания, порожденной неисчерпанностью средств обжалования выне-
120

Свободная трибуна
сенного решения, достаточно для того, чтобы взыскатель мог быть привлечен к ответственности по ст. 395 ГК РФ за факт инициированного им исполнения, или — что то же самое — не считался бы добросовестным по отношению к осуществленному им взысканию21.
Несмотря на то, что категоричность этого высказывания нивелирована дальнейшим указанием на то, что в данном деле предъявление исполнительного листа было произведено истцом уже после отмены первоначального решения суда (и, следовательно, его недобросовестность проявляется уже в том, что к взысканию был представлен погашенный исполнительный документ), сама идея о возложении на истца негативных последствий ошибочного взыскания, сформулированная Президиумом вначале весьма решительно, нуждается в осмыслении. По сути, ВАС РФ говорит здесь о том, что субъективная убежденность стороны спора в своей правоте ex ante не является основанием для освобождения ее от ответственности в случае проигрыша дела ex post — даже в том случае, когда такая убежденность была основана на вступившем в законную силу судебном акте.
Отметим, что нет оснований не соглашаться с первой частью данного тезиса. Практика не дает нам примеров освобождения ответчика от возлагаемой на него ответственности со ссылкой на то, что он считал себя правым. Это связано с тем, что осведомленность о совершаемом гражданском правонарушении как субъективное основание ответственности не может возникнуть у нарушителя позже ознакомления с претензией потерпевшего, а тем более после вручения ему судебного уведомления о возбуждении дела по иску соответствующего лица. В последнем случае не требуется даже представления доказательств нарушения — сам по себе факт получения повестки достаточен для того, чтобы о предполагаемом пока еще нарушителе можно было сказать, что он «знал или должен был знать» о факте совершаемого им деяния, притом что субъективная оценка им этого вменяемого ему деяния как имевшего место и неправомерного не обладает какимлибо значением.
Эта идея, хотя и не закреплена законодателем напрямую в виде всеобщего правила, находит свое отражение в ч. 1 ст. 303 ГК РФ применительно к вопросу о производстве расчетов между сторонами при удовлетворении виндикационного иска. В соответствии с данной нормой добросовестный владелец утрачивает bona fides в момент получения им повестки по иску собственника о возврате своего имущества и отвечает перед собственником по правилам о недобросовестном владельце. Такая повестка может не сопровождаться доказательствами обосно-
21Хотя из буквального текста постановления от 21.01.2014 № 9040/13 можно сделать вывод о том, что ответственность взыскателя строится на началах риска (Президиум ВАС РФ использует фразу «несет риски уплаты процентов»), это не следует понимать буквально, поскольку такое понимание противоречило бы п. 2 ст. 1107 ГК РФ, согласно которому ответственность в виде уплаты процентов годовых на сумму неосновательного обогащения наступает на началах вины — «знал или должен был узнать»). Речь, таким образом, идет о том, что риск отмены судебного акта в ситуации, когда средства обжалования решения еще не исчерпаны, является предвидимым, что создает предпосылки для привлечения взыскателя к ответственности за виновные действия. См. об этом далее.
121
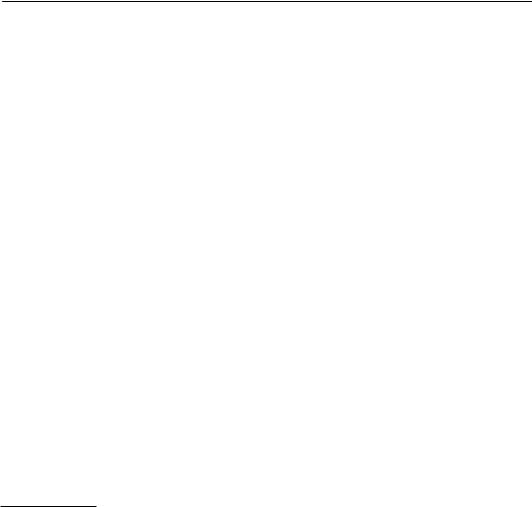
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
ванности заявленного иска22, а ответчик — продолжать настаивать на своей правоте, оспаривая утверждения истца в ходе разбирательства23. Но так или иначе в случае проигрыша дела он будет считаться виновным в неправомерном удержании чужой вещи и отвечать перед действительным собственником с момента получения уведомления о судебном оспаривании законности его владения как
недобросовестный приобретатель.
Здесь мы имеем дело с феноменом так называемой недобросовестности вследствие процесса24, т.е. с утратой лицом bona fides ввиду самого факта оспаривания его легитимации на обладание материальным благом при условии, что такое оспаривание в дальнейшем окажется эффективным. В чем состоит политикоправовое обоснование данного феномена, при котором убежденности в собственной правоте (даже такая, которая имеет под собой разумные основания) недостаточно для того, чтобы исключить субъективный элемент ответственности, т.е. виновность проигравшего процесс лица?
Ответ, на наш взгляд, коренится в представлениях о вине в гражданском праве, которая, в отличие от вины уголовной, «рассматривается не как субъективное, психическое отношение лица к своему поведению, а как непринятие им объективно возможных мер по устранению или недопущению отрицательных результатов своих действий, диктуемых обстоятельствами конкретной ситуации»25. Л.И. Петражицкий говорил об этом следующим образом: «…вполне понятно, почему litis contestatio уничтожает bona fides. Здесь дело идет, конечно, не о честности или недобросовестности в обыденном смысле, а только о том, что обыкновенная diligentia требует, чтобы мы обратили серьезное внимание на процесс и его эвентуальный исход. Если мы проиграли процесс, то нам нельзя оправдывать своих неосмотрительных действий во время процесса нашею ошибкою, нашим заблуждением относительно юридического положения. Если мы действительно, несмотря на такое серьезное предупреждение и предостережение, как litis
22Обязанность возбуждения дела судом по российскому праву не обусловлена выполнением со стороны истца какого-либо стандарта доказывания. Он должен лишь указать на обстоятельства, из которых он выводит свои притязания, и на доказательства, их обосновывающие (п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ, п. 5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). См.: Будылин С.Л., Белова М.Т. Как защититься от путешественников во времени? Стандарты предъявления иска в России и за рубежом // Закон. 2016. № 1. С. 84–107. Непредставление доказательств не может быть основанием для оставление искового заявления без движения (см.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за II квартал 2009 г. (п. 3 раздела «Споры по гражданским делам»)).
23В некоторых случаях можно говорить даже об обязанности вести процесс — как, например, при эвикции, когда нежелание судиться и незамедлительное удовлетворение требований истца существенно уменьшает шансы ответчика на удовлетворение его регрессного иска к отчуждателю (ст. 462 ГК РФ).
24М.Б. Жужжалов именует данный феномен процессуальной недобросовестностью, что в контексте сложившегося в отечественной науке словоупотребления может привести к смешению с идентичным термином, обозначающим недобросовестное поведение участника процессуальной деятельности. См.: Жужжалов М.Б. Расчеты при возврате имущества в рамках внедоговорных отношений (общие вопросы) // Обязательства, возникающие не из договора: сб. ст. / отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2015.
С.272–364.
25Гражданское право: в 4 т. Т. 1: Общая часть / отв. ред. Е.А.Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006.
С.608 (автор главы — Е.А. Суханов).
122

Свободная трибуна
contestatio, все-таки не допускали возможности правоты противника, считали всякую dubitatio излишнею, так это была небрежность, неосторожность, неизвинительное заблуждение. Отсутствие dubitatio после начала процесса не есть bona fides, потому что для bona fides требуется извинительное заблуждение. Необходимое наступление mala fides вследствие litis contestatio представляет, таким образом, с нашей точки зрения, вполне естественное явление; оно означает только, что право устанавливает вполне резонный общий принцип, по которому после l. contestatio не допускается ссылка на извинительное неведение»26.
Этими соображениями объясняется, в частности, то, почему после извещения о процессе бывший до этого добросовестным владелец должен передать действительному собственнику доходы, которые он с этого момента извлек или должен был извлечь из спорной вещи (ст. 303 ГК РФ). Знание о процессе требует от него особой осмотрительности в отношении эксплуатации вещи, такого ее рационального использования, которое соответствовало бы стандарту добропорядочного хозяина (что предполагает извлечение доходов из вещи), — на тот случай, если вещь будет от него истребована. Аналогично этому возбуждение разбирательства по иску о неосновательном обогащении также предполагает, что потенциальный должник, получив повестку и сообразовываясь со стандартом должной осмотрительности, обязан вести себя так, чтобы в случае взыскания соответствующей суммы оказаться способным уплатить взыскателю не только капитал, но и хотя бы минимальный процент с него в размере ключевой ставки и т.п.27
Таким образом, обязанное лицо не может избежать гражданско-правовой ответственности со ссылкой на то, что в период судебного разбирательства оно было разумно уверено в собственной правоте. Экстраполируя соответствующие утверждения на рассматриваемую ситуацию, можно утверждать, что истец, получивший денежные средства в условиях продолжающегося процесса при сохраняющейся возможности вынесения иного, нежели первоначальное, итогового решения, не может впоследствии ссылаться на собственное восприятие осуществленного им взыскания как основательного в качестве обстоятельства, исключающего применение к нему предусмотренных ст. 395 ГК РФ мер ответственности28.
Однако такой вывод, в корне противоречащий данному Пленумом разъяснению, очевидно, являлся бы поспешным. Рассматриваемый нами случай имеет принципиальное отличие, заключающееся в том, что убежденность истца в справедливости взыскания опирается здесь не на индивидуальную оценку им своего правового положения, а на позицию суда, зафиксированную в действующем судебном
26Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права. М., 2002. С. 198.
27По сути, извлечение процентов из денежной суммы является экономическим аналогом извлечения доходов из вещи, что напрямую вытекает из содержания ст. 1107 ГК РФ. В свою очередь, взаимосвязь ст. 303 и 1107 ГК РФ очевидна, так как данные нормы регулируют сходные отношения, возникающие в связи с реализацией соответственно виндикационного и кондикционного притязания. Подробнее см.: Жужжалов М.Б. Указ. соч.
28К такому выводу и приходит Президиум ВАС РФ в воспроизведенном выше отрывке из постановления от 21.01.2014 № 9040/13.
123
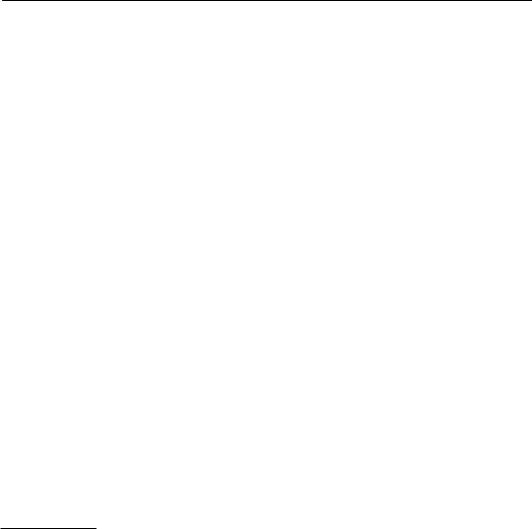
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
акте. При таких обстоятельствах вменение истцу «обязанности сомневаться» в собственной правоте, испытывать dubitatio относительно законности использования взысканной им суммы представляется проблематичным.
Во-первых, принцип правовой определенности, который в своем процессуальном измерении выражается в идее об окончательности вступившего в законную силу судебного акта (res judicata), может рассматриваться как исключающий возложение на взыскателя бремени сомнения. Коль скоро пересмотр решения отныне возможен лишь в экстраординарных процедурах (свойство неопровержимости законной силы судебного решения), нет оснований полагать, что такое развитие судебного разбирательства является реальной перспективой. Это событие нельзя считать предвидимым в той мере, в которой игнорирование возможности его наступления свидетельствовало бы о неосторожности истца. Возможный эвентуальный пересмотр — лишь casus, внештатное исключение из нормального хода вещей, обусловленного действием принципа правовой определенности.
Во-вторых, добросовестность истца может обосновываться ссылкой на доводы, близкие взглядам сторонников так называемой теории видимости права, согласно которой должны быть защищены разумные ожидания участников гражданского оборота, возникающие в связи с внешними обстоятельствами (легитимационными фактами), дающими основание полагать, что их поведение является правомерным, даже когда действительная реальность не соответствует такому представлению29. Творчески развивая данные идеи, можно рассматривать в качестве такого легитимационного факта действующее судебное решение, создающее видимость, пусть и ошибочную, того, что истец, приводя его в исполнение, действует в своем праве по отношению к ответчику30. Подобная основанная на исходящем от публичной власти акте субъективная уверенность и является причиной невиновности истца как во взыскании, так и в удержании спорной денежной суммы. И следовательно, Пленум прав, освобождая его от ответственности за уплату процентов.
29Наиболее типичными примерами применения данной доктрины являются защита добросовестного приобретателя, опиравшегося на легитимационный факт владения / реестровой записи при приобретении имущества от неуправомоченного отчуждателя, защита контрагента по сделке, совершенной неуполномоченным «представителем», если «представляемый» своим поведением (это и будет легитимационным фактом) давал основания полагать, что полномочия у «представителя» имеются. Подробнее см.: Эртманн П. Основы учения о видимости права // Вестник гражданского права. 2011. № 4. С. 273–305; Самойлов Е.Ю. Публичная достоверность в гражданском праве: теоретическая конструкция и условия использования института // Вестник гражданского права. 2007. № 4. С. 63–107; Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Видимое (подразумеваемое) полномочие в отечественной доктрине, гражданском законодательстве и правоприменительной практике // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2016. № 1. С. 43–53.
30Подчеркнем, что мы далеки от идеи прямого распространения доктрины видимости права на рассматриваемую ситуацию. Данная теория используется прежде всего для обоснования защиты добросовестных участников гражданского оборота от ошибочных представлений, возникающих в связи с фактами, имевшими место за рамками отношений с их участием. В данном же случае между истцом и ответчиком существует относительная правовая связь (спорное материальное правоотношение), и каждый из них состоит в процессуальном правоотношении с судом. Речь идет, скорее, о развитии соответствующих взглядов с опорой на общее представление о том, что разумные ожидания субъектов экономических отношений должны защищаться правом. О том, что доктрина видимости права не имеет прямого отношения к материальному действию ошибочного судебного акта, см. также: Эртманн П. Указ. соч.
124

Свободная трибуна
Вместе с тем данные рассуждения, вполне убедительные, при ближайшем рассмотрении явно недостаточны для того, чтобы послужить доктринальным обоснованием позиции Верховного Суда РФ в полном объеме. Напомним, что Пленум исходит из того, что обязанность по начислению процентов не возникает у взыскателя вплоть до принятия итогового решения по делу, т.е. истец, по мысли Пленума, продолжает бесплатно кредитоваться за счет ответчика и в течение того периода, когда первоначальное решение уже отменено, а дело вновь рассматривается по существу в нижестоящих инстанциях. Эта возможность, однако, никак не вытекает из изложенной выше системы аргументации, ибо если «обязанность сомневаться» в правомерности собственного правового положения и парализуется вступлением в законную силу судебного акта (в результате действия принципа res judicata), то такой эффект должен незамедлительно пропадать в связи с его отменой. Бремя dubitatio должно вновь появляться в отношении спорной денежной суммы, и теперь уже истец, завладевший ею на основании первоначального решения, должен изменить линию своего поведения и, усомнившись в своей правоте, использовать данную сумму так, чтобы оказаться способным в случае проигрыша возвратить ответчику не только «тело долга», капитал, но и минимальные проценты на него. Это предполагает применение к нему ст. 395 ГК РФ, начиная как минимум с момента отмены первоначального судебного акта, а не только лишь после принятия итогового решения по делу, как об этом говорит Пленум.
В этих рассуждениях можно пойти и дальше. Так, можно утверждать, что актуализация бремени сомнения, являющегося предпосылкой привлечения обогащающегося истца к ответственности, связана не с отменой первоначального судебного акта, а с самим фактом извещения истца о принятии вышестоящим судом жалобы на вступившее в законную силу решение суда (естественно, при условии, что такая жалоба будет в дальнейшем удовлетворена). Именно с этого момента угроза отмены судебного акта становится реальной и предвидимой и, следовательно, пользующийся денежными средствами истец должен учитывать такую возможность в своем поведении и не может ссылаться на состоявшийся пересмотр как на casus, исключающий привлечение его к ответственности.
То, какую из вышеуказанных опций предпочесть — начисление процентов с момента отмены первоначального решения либо с момента получения извещения об его оспаривании, является вопросом политики права. Здесь могут быть высказаны различные соображения, каждое из которых будет выглядеть приемлемым31. Но очевидно одно: решение, предложенное Пленумом Верховного Суда РФ, согласно которому проценты не начисляются вплоть до принятия итогового
31Вопрос здесь в том, может ли стандарт добросовестного поведения предопределяться формальными правовыми категориями либо он в большей степени обусловлен обстоятельствами эмпирической реальности. Если встать на первую точку зрения, то законная сила решения должна исключать применение к истцу режима недобросовестного пользователя денежными средствами в течение всего срока действия первоначального судебного акта. Во главу угла здесь ставится формальный принцип правовой определенности (принцип res judicata), препятствующий возложению на истца бремени сомнения (dubitatio) в собственной правоте и, следовательно, не допускающий привлечения его к ответственности за весь период вплоть до отмены решения. Если придерживаться второй точки зрения, то принципиальное значение имеет предвидимость реальной возможности пересмотра судебного решения, возникающая уже в момент извещения истца о принятии к производству кассационной (надзорной) жалобы на него. Ответ на вопрос о том, какому из подходов (формальному или эмпирическому) следует отдать предпочтение, нуждается в дополнительном исследовании.
125

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
решения по делу, не имеет под собой достаточных оснований и нарушает баланс экономических интересов сторон спора, неосновательно отдавая предпочтение проигравшему дело истцу за счет оправданного судом ответчика.
Комментируемое разъяснение Пленума порождает еще один, тесно связанный
спредыдущим, вопрос. Содержащиеся в постановлении № 7 формулировки создают впечатление, что случаи, когда о недобросовестности истца можно говорить
ссамого начала (т.е. с момента приведения решения в исполнение), являются экстраординарными — в качестве примера приведена ситуация совершения им преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»). Спрашивается, а что будет в тех ситуациях, когда в действиях истца признаки уголовного правонарушения отсутствуют, однако из итогового решения по делу следует, что в момент приведения первоначального судебного акта в исполнение он знал, что данное решение являлось материально ошибочным? Например, по итогам повторного рассмотрения дела о взыскании займа выясняется, что истец еще до процесса получил деньги и передал ответчику встречную расписку о погашении долга в порядке п. 2 ст. 408 ГК РФ, т.е. очевидно понимал, что произведенное им взыскание являлось неосновательным. Должен ли и в этом случае к истцу применяться более строгий стандарт, игнорирующий действие законной силы судебного решения и создаваемую последним видимость материальной правоты истца?
На этот вопрос необходимо дать положительный ответ, ибо концепция видимости права, лежащая в основе наших рассуждений о невиновности истца, однозначно исходит из того, что легитимационный факт, создающий такую видимость, оправдывает опирающееся на него лицо лишь в случаях, когда такое лицо черпает информацию о реальном положении вещей только и исключительно из самого этого факта. В тех ситуациях, когда лицо обладает иными источниками информации и осознает, что создаваемая легитимационным фактом видимость является мнимой, оно считается недобросовестным. С этой точки зрения, если итоги процесса очевидно свидетельствуют в пользу осведомленности истца о неосновательности произведенного им взыскания, ссылка на res judicata должна считаться неэффективной и он должен нести ответственность на тех же условиях, что и фальсификатор доказательств (вне зависимости от отсутствия уголовной составляющей в его действиях)32.
Проблема, которая здесь возникает, связана с тем, что граница между очевидным злоупотреблением со стороны истца (при котором первоначальное решение в его пользу не может освободить его от ответственности за произведенное взыскание) и ситуацией, когда истец имел основания полагать себя правым в ведомой им тяжбе (в этих случаях вступление решения в силу освобождает его от ответственности на период своего действия или, по крайней мере, пока не принята к рассмотрению жалоба на такое решение), является достаточно зыбкой. Многое зависит от обстоятельств конкретного дела, от складывающегося в доктрине и на практике представления о том, как нужно определять такие понятия, как «заведомо необоснованный иск», «заведомо необоснованное взыскание», от
32В ситуации же, когда имелись достаточные основания считать себя правым в деле, судебный акт является тем решающим фактом, который снимает соответствующие сомнения (т.е. снимает бремя dubitatio), разрешая их на данном этапе процесса в пользу истца.
126

Свободная трибуна
стандартов добросовестного поведения участников процесса и т.д. Очевидно, что какой-либо определенности здесь еще не возникло, и отечественной науке процессуального права еще предстоит дать ответы на данные вопросы33. Именно поэтому Верховный Суд РФ, характеризуя ситуацию безусловной недобросовестности взыскателя, берет очевидный пример, который не может вызвать каких-либо разногласий, — фальсификацию доказательств, оставляя практике возможность самой выработать критерии заведомой (умышленной) недобросовестности применительно к иным категориям случаев.
4. Выводы
Вышеизложенное можно резюмировать следующим образом.
Позиция Пленума, согласно которой истец, приведший в исполнение ошибочное судебное решение, освобождается по общему правилу от ответственности по уплате процентов годовых с момент производства взыскания вплоть до принятия итогового решения по делу, является ошибочной.
Связано это с тем, что объективные условия привлечения его к ответственности (противоправность) присутствуют изначально, т.е. с момента поступления денежных средств в распоряжение истца, ибо в отсутствие материально-правового основания для удержания спорной суммы она должна считаться его неосновательным обогащением. Само по себе решение суда, пусть и действующее в течение определенного времени, не может выступать в роли каузы, заменяющей собой отсутствующие в действительности материальные предпосылки для пользования чужим имуществом.
В свою очередь, субъективные условия ответственности (вина) наступают как минимум после отмены первоначального решения (а возможно, с получением истцом уведомления о принятии к производству жалобы на такое решение). Эти обстоятельства свидетельствуют о возобновлении спора относительно присужденной денежной суммы, что возлагает на истца (вернее, возрождает для него)
несение бремени сомнения в собственной правоте, являющееся неотъемлемым спутником любого состязательного процесса. Наличие данного бремени обусловливает обязанность истца, владеющего спорной суммой, относиться к ней с той же степенью рациональной заботливости, как если бы она была для него чужой, т.е. извлечь из нее хотя бы минимум дохода, определяемый размером ключевой ставки Банка России. Игнорирование этого бремени является небрежностью истца, а значит, если он не проявил должной заботливости и осмотрительности, обусловленной необходимостью сомневаться, и не обеспечил для используемого им капитала минимальный уровень дохода (в размере процентов годовых по ст. 395 ГК РФ), то затраты на выплату процентов экономически он будет нести за счет своего имущества, из собственного кармана — это и будет применением
33Серьезный шаг в этом направлении уже сделан. См.: Платонова Н.В. Возмещение вреда, причиненного предъявлением необоснованного иска: к вопросу о материально-правовом значении процессуального поведения // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 6. С. 98–123.
127

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
к нему соответствующей меры именно как меры ответственности за недобросовестное поведение.
Таким образом, подход Пленума, согласно которому истец, взыскавший денежные средства по ошибочному судебному акту, освобождается от ответственности за их использование, может быть оправдан только в отношении того периода, в течение которого полученная сумма не обладает статусом спорной (т.е. в отношении которой отсутствует бремя сомнения). Наступление бесспорности должно быть связано со вступлением решения о ее присуждении в законную силу и возникающим вследствие этого режимом правовой определенности, который, однако, может закончить свое действие с дальнейшим развитием процессуального отношения (т.е. с момента отмены первоначального решения либо с получением истцом уведомления о принятии к производству жалобы на первоначальное решение). Следовательно, льготный для истца период ограничен лишь тем промежутком времени, когда действует режим правовой определенности, и ни в коем случае не может приходиться на тот этап разбирательства, когда первоначальное решение отменено, а дело повторно рассматривается по существу в судах первых двух инстанций.
В чем Пленум безусловно прав, так это в том, что истец не может быть освобожден от уплаты процентов, если приведенное им к исполнению решение является для него заведомо необоснованным (умышленная форма вины). Указывая в качестве примера на ситуацию, при которой решение было вынесено на основании доказательств, сфальсифицированных истцом, Пленум ВС РФ не ограничивает суды в определении иных случаев, когда решение суда может быть квалифицировано в качестве заведомо необоснованного для истцовой стороны. Соответствующий стандарт, однако, еще должен быть найден практикой и доктринально обоснован исследователями-процессуалистами.
References
Budylin S.L., Belova M.T. Protection from the Time Travellers? Standards of Pleading in Russia and Abroad [Kak zaschitit’sya ot puteshestvennikov vo vremeni? Standarty pred’yavleniya iska v Rossii i za rubezhom]. Statute [Zakon]. 2016. No. 1. P. 84–107.
Ertmann P. Fundamentals of Doctrine of Color of Law [Osnovy ucheniya o vidimosti prava]. Civil Law Review [Vestnik grazhdanskogo prava]. 2011. No. 4. P. 273–305.
Gurvich M.A. Right of Action [Pravo na isk], in: Gurvich M.A., Selected Works [Izbrannye trudy]. Vol. 1. Krasnodar, Sovetskaya Kuban’, 2006
Gurvich M.A. Court Decision. Theoretical Problems [Sudebnoe reshenie teoreticheskie problem], in: Gurvich M.A., Selected Works [Izbrannye trudy]. Vol. 1. Krasnodar, Sovetskaya Kuban’, 2006.
Ilyin A.V. To the Issue of Permissibility of Qualifying Legal Expenses as Losses [K voprosu o dopustimosti kvalifikatsii sudebnykh raskhodov v kachestve ubytkov]. Civil Law Review [Vestnik grazhdanskogo prava]. 2011. No. 6. P. 120–129.
Novak D.V. Unjustified Enrichment in Civil Law [Neosnovatelnoe obogaschenie v grazhdanskom prave]. Moscow, Statut, 2010. 416 p.
128

Свободная трибуна
Ostanina E.A. Modificatory Actions and Acquisition of Property Right Claims [Preobrazovatelnye iski i priobretenie veschnogo prava], in: Rozhkiva M.A., ed. Claims and Court Decisions: Collection of Essays [Iski i sudebnye resheniya: sb. st.]. Moscow, Statut, 2009. P. 77–106.
Petrazhitskiy L.I. Right of a bona fide Purchaser to Income in Terms of Dogma and Civil Law [Pravo dobrosovestnogo priobretatelya na dokhody s tochki zreniya dogmy i politiki grazhdanskogo prava]. Мoscow, Statut, 2002. 426 p.
Platonova N.V. Compensation of Damages Caused by the Filing of a Frivolous Lawsuit: Revising the Substantive Significance of Procedural Conduct [Vozmeschenie vreda, prichinennogo pred’yavleniem neobosnovannogo iska: k voprosu o materialno-pravovom znachenii
protsessualnogo povedeniya]. The Herald of Economic Justice of the Russian Federation [Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossiiskoi Federatsii]. 2018. No. 6. P. 98–123.
Sakhnova T.V. Course in Civil Procedure: Theoretical Fundamentals and Main Doctrines [Kurs grazhdanskogo protsessa: teoreticheskie nachala i osnovnye instituty]. Moscow, Wolters Kluwer, 2008. 696 p.
Samoilov E.Yu. Public Credibility in Civil Law: Theoretical Construction and Conditions of the Use of Doctrine [Publichnaya dostovernost’ v grazhdanskom prave: teoreticheskaya konstruktsiya i usloviya ispolzovaniya institute]. Civil Law Review [Vestnik grazhdanskogo prava]. 2007. No. 4. P. 63–107.
Sergeev A.P., Tereschenko T.A. Apparent (Implied) Authority in Domestic Doctrine, Civil Legislation, and Law Enforcement Practice [Vidimoe (podrazumevaemoe) polnomochie v otechestvennoi doctrine, grazhdanskom zakonodatelstve i pravoprimenitelnoi praktike]. The Herald of the Arbitrazh Court of Moscow District [Vestnik Arbitrazhnogo suda Moskovskogo okruga]. 2016. No. 1. P. 43–53.
Sukhanov E.A., ed. Civil Law: in 4 Vols. Vol. 1: General Part [Grazhdanskoe pravo: v 4 t. T. 1: Obschaya chast’]. 3rd ed., rev. Moscow, Wolters Kluwer, 2006. 720 p.
Sukhanov E.A., ed. Russian Civil Law: A Textbook: in 2 Vols [Rossiiskoe grazhdanskoe pravo: uchebnik: v 2 t.]. Vol. 2. Мoscow, Statut, 2011. 1208 p.
Ushivtseva D.A. Liability Due to Unjustified Enrichment: Issues of Theory and Practice [Obyazatelstva vsledstvie neosnovatelnogo obogascheniya: voprosy teorii i praktiki]. Tyumen’, Slovo, 2006. 296 p.
Zagainova S.K. Theoretical Problems of Characterizing Court Orders in Civil and Arbitration Procedures [Teoreticheskie problem kharakteristiki sudebnykh aktov v grazhdanskom i arbitrazhnom protsessakh], in: Lesnitskaya L.F., Rozhkova M.A. Problematic Issues of Civil and Arbitration Procedure [Problemnye voprosy grazhdanskogo i arbitrazhnogo protsessov]. Moscow, Statut, 2008. P. 334–355.
Zhilin G.A. Civil Justice: Pressing Issues: A Monograph [Pravosudie po grazhdanskim delam: aktualnye voprosy: monografiya]. Moscow, Prospekt, 2010. 576 p.
Zhuzhzhalov M.B. Settlements When Returning of Property in Non-Contractual Relations (General Issues)) [Raschety pri vozvrate imuschestva v ramkakh vnedogovornykh otnosheniy (obschie voprosy)], in: Rozhkova M.A., ed. Obligations Arising Outside of Contract: Collection of Essays [Obyazatelstva, voznikayuschie iz dogovora: sb. st.]. Moscow, Statut, 2015. P. 272–364.
Information about the author
Daniil Volodarskiy — Assistant Professor at the Department of Civil Procedure of Saint Petersburg State University, PhD in Law (199026 Russia, Saint Petersburg, 22nd Line of Vasilievskiy Island, 7; e-mail: Daniel.volodarskiy@gmail.com).
129
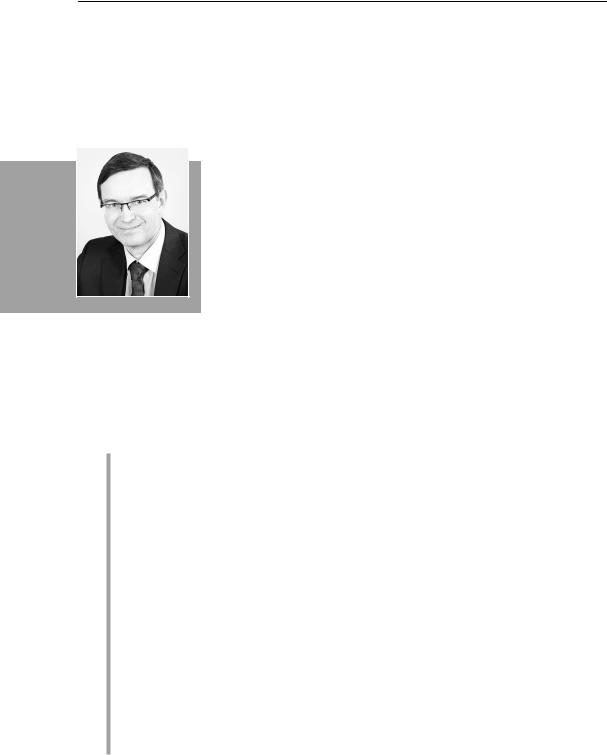
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
Сергей Львович Будылин
старший юрист компании Roche & Duffay
Стандарты доказывания в банкротстве
По мотивам определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 04.06.2018 № 305-ЭС18-413
В этом деле, разрешенном Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ, речь шла о включении в реестр требования вкладчицы банка-банкрота, которая также была и его акционером. Коллегия признала факт существования требования недоказанным. Помимо прочего, Коллегия сформулировала новый для российского права тезис, согласно которому в гражданском процессе существует целая иерархия стандартов доказывания, причем к требованиям кредиторов, аффилированных с должником в банкротстве, применяется максимально жесткий стандарт — «вне разумных сомнений». К сожалению, определение Коллегии в части стандартов доказывания нельзя назвать внятно мотивированным. Стоит также заметить, что применение столь жесткого стандарта доказывания в гражданском или арбитражном процессе представляется как минимум спорным, в том числе с конституционноправовой точки зрения. В самом деле, ведь предъявление к кредитору завышенных требований относительно доказывания существования задолженности означает, что во многих случаях спор о фактах будет решаться неправильно: фактически существующая задолженность будет признана несуществующей ввиду недоказанности по жесткому стандарту. А это равносильно изъятию у кредитора его собственности.
Ключевые слова: стандарт доказывания, банкротство, аффилированный кредитор, субординация долга
130

Свободная трибуна
Sergey Budylin
Senior Lawyer at Roche & Duffay
Standards of Proof in Bankruptcy
Based on Judgment of the Chamber for Economic Disputes of the SC RF No. 305-ЭС18-413, 4 June 2018
In this case, decided by the Chamber for Economic Disputes of the Supreme Court, the claim of a depositor, who also was a shareholder of the bank, was discussed. The Panel found that the existence of the claim was not proved. Among other things, the Chamber laid down a rule, new for Russian law, in accordance to which there is a hierarchy of «standards of proof» in civil proceedings, and the claims of creditors affiliated with the debtor are subject to the most stringent standard: «beyond a reasonable doubt». Unfortunately, the Chamber’s decision can hardly be called intelligibly reasoned, as far as standards of proof are concerned. It is worth noting that the application of this stringent standard of proof in civil proceedings is at least disputable, including from the constitutional law point of view. Indeed, excessive requirements concerning the proof of existence of creditor’s claim mean that in many cases the issue of fact will be resolved incorrectly — an actually existing debt will be found non-existent because it is not proved under the stringent standard. This tantamounts to a seizure of creditor’s property.
Keywords: standard of proof, bankruptcy, affiliated creditors, debt subordination
Концепция стандарта доказывания происходит из англо-американско- го права. В российских судебных актах термин «стандарт доказывания»
впервые появился в постановлении Президиума ВАС РФ, о чем будет идти речь ниже.
Эта тема привлекает интерес исследователей. Совсем недавно А.А. Смола опубликовала очень содержательную и подробную статью с анализом самой концепции стандарта доказывания и российской судебной практики по этому вопросу. Она отмечает: «Существует объективная необходимость для формулирования стандартов доказывания в суде, в том числе различных стандартов доказывания для разных категорий дел. При этом требуется разграничение понятий процессуального права о правилах доказывания, включая предмет доказывания, распределение/перераспределение бремени доказывания. <...> Такая конкретизация не обесточивает «внутреннее убеждение», а, напротив, обеспечивает условия для его использования, поскольку участвующие в деле лица будут следовать заранее обозначенной модели»1.
Как будет видно далее, я в целом разделяю эту точку зрения. Настоящая работа в основном была написана до публикации статьи А.А. Смолы — тем примечательнее совпадение наших выводов. Впрочем, это совпадение не полное: так,
я не уверен в обоснованности введения множества разных стандартов доказыва-
1 Смола А.А. Стандарты, доказывание и Верховный Суд // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 8. С. 129–165.
131

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
ния в гражданско-правовых спорах. На родине стандартов доказывания, в Англии, «гражданский» стандарт доказывания — один-единственный.
Что касается рассматриваемого в настоящей работе дела, то предложенное Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ (далее — Коллегия) применение в гражданско-правовых (банкротных) спорах невероятно жесткого стандарта «за пределами разумных сомнений» представляется мне ошибочным. Да и вообще корректность применения термина «стандарт доказывания» в российских судебных актах вызывает сомнения. Но к этому вопросу мы еще вернемся.
***
В августе этого года Коллегия решила довольно любопытное дело2. Его обстоятельства были следующими.
Совладелица банка «БФГ-Кредит», которой принадлежало 19% его акций, держала свои деньги на счету в своем же банке (а где же еще?). Денег было немало — 2,7 млрд руб.
Этот банк считался весьма надежным. По сообщениям прессы, там держали деньги и федеральные телеканалы, и Департамент строительства правительства Москвы, и даже Министерство иностранных дел. Увы, в 2016 г. у банка возникли финансовые проблемы. В апреле в банке была введена временная администрация, в июле у него отозвали лицензию, а в октябре суд признал банк банкротом и открыл конкурсное производство. Дыра в балансе банка составила более 40 млрд руб.3 Как водится, председатель правления банка обвиняется в хищении и скрывается от следствия за границей4.
Но что же с деньгами вкладчицы-совладелицы? Как и положено, она заявила о своих требованиях конкурсному управляющему (Агентству по страхованию вкладов, АСВ) для включения их в реестр кредиторов. Однако АСВ отказалось включить требования в реестр, отметив, что уже к моменту введения временной администрации денег на счету вкладчицы не было. Вернее, были, но вовсе не 2,7 млрд, а всего лишь около 4 млн руб. Все остальное еще в 2015 г. было переведено на счета неких компаний по неким договорам займа5.
2См.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 04.06.2018 № 305-ЭС18-413 по делу № А40-163846/2016.
3См.: «Дыра» в балансе банка «БФГ-Кредит» составила почти 50 млрд рублей // Forbes. 2016. 13 окт. URL: http://www.forbes.ru/news/330537-dyra-v-balanse-banka-bfg-kredit-sostavila-pochti-50-mlrd-rublei.
4См.: Беглого банкира ждут в Интерполе // Коммерсантъ. 2018. 21 марта. URL: https://www.kommersant. ru/doc/3579128.
5См.: Со счета клиента банка «БФГ-кредит» было списано 2,5 млрд рублей без его ведома // Ведомости. 2017. 13 июня. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/06/13/694143-bfg-kredit.
132

Свободная трибуна
***
Вкладчица обратилась с претензиями в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве. По ее словам, никаких договоров займа, а равно и платежных поручений на перевод денег она не подписывала. И эта проблема обнаружилась еще в период действия временной администрации. Проведенное администрацией служебное расследование показало, что деньги были списаны со счета без подписанных клиенткой платежных поручений, а по личному указанию председателя совета директоров банка. А раз так, то банк должен отвечать по ее вкладу в полном объеме.
Конкурсный управляющий, однако, по-прежнему возражал против включения требований вкладчицы в реестр кредиторов, подозревая, видимо, что тут имело место какое-то жульничество.
Арбитражные суды в трех инстанциях поддержали вкладчицу, сочтя догадки конкурсного управляющего недоказанными.
Управляющий требовал привлечь самих «заемщиков» к участию в деле, чтобы они рассказали, на каких основаниях им перечислялись деньги и что стало потом с этими деньгами. Однако суды ему отказали, сославшись (почему-то) на то, что «в рамках настоящего спора не рассматривается вопрос о недействительности банковских операций» по переводу денег заемщикам. Согласно этой логике, раз суд не решает вопрос о правах и обязанностях заемщиков, то и привлекать их к делу нет необходимости.
Кроме того, конкурсный управляющий рассказал судам загадочную историю о том, как за несколько дней до введения временной администрации деньги якобы были возвращены заемщиками на счет вкладчицы, а буквально на следующий день после введения временной администрации были перечислены вкладчицей на ее же счет в другом банке. (Тут конкурсный управляющий, кажется, немного путается в показаниях, ведь, по его же собственным словам, во всяком случае в изложении Коллегии, на дату введения временной администрации денег на счете не было.)
Так или иначе, суды не поверили управляющему. Как заявил апелляционный суд, на момент предполагаемого перевода денег в другой банк в банке «БФГ-Кредит» уже была сформирована картотека неисполненных платежей и назначена временная администрация. В связи с этим платежные поручения клиентов «фактически не исполнялись», так что доводы конкурсного кредитора основаны на «безосновательных предположениях». По мнению апелляции (в пересказе Коллегии), «при наличии картотеки и новом менеджменте не могли быть осуществлены денежные переводы между двумя кредитными организациями».
В результате суды в трех инстанциях включили требования вкладчицы в реестр кредиторов банка. После этого дело дошло до Коллегии.
133
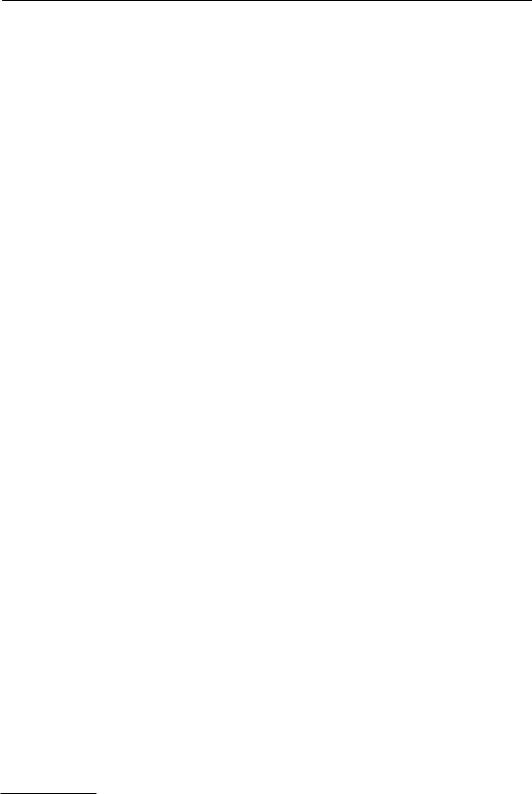
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
***
Коллегия не согласилась с нижестоящими судами, сочтя, что они наделали ошибок при установлении фактов дела.
Во-первых, суды неправильно подошли к решению вопроса о наличии или отсутствии согласия вкладчицы на перевод денег «заемщикам». По словам Коллегии, арбитражный суд не связан выводами временной администрации насчет того, что случилось с деньгами вкладчицы (администрация, напомню, решила, что вкладчица была не в курсе вывода ее денег). Результаты этого служебного расследования, безоговорочно принятые судами за чистую монету, — всего лишь одно из доказательств без какой-либо предустановленной силы.
Коллегия отметила, что «на суде, рассматривающем вопрос о включении требований в реестр, лежит самостоятельная обязанность более тщательной проверки данных требований, в первую очередь, в целях предотвращения «попадания в реестр» недобросовестных кредиторов либо кредиторов с фиктивной задолженностью». Для обоснования своего тезиса она ссылается на позицию Пленума ВАС РФ от 2012 г.6, которую мы еще обсудим ниже. По заключению Коллегии, нижестоящие суды такой «более тщательной проверки» не провели. Основная их ошибка состояла в том, что они не пожелали привлечь к делу самих заемщиков, чьи показания вполне могли бы прояснить ситуацию: «Для установления факта заключения договора, а также выяснения сопутствующих этому обстоятельств необходимо было привлечь к участию в обособленном споре лиц, в пользу которых были осуществлены перечисления денежных средств... которым бы не составило труда дать пояснения...»
Во-вторых, суды не разобрались в рассказанной конкурсным управляющим АСВ загадочной истории о том, как деньги вкладчицы якобы вернулись на ее счет в преддверии краха банка, а потом якобы снова ушли. Суды, напомню, решили, что на самом деле деньги не уходили, потому что «при наличии картотеки» уйти не могли. Видимо, по мнению судов, это означает, что деньги на счет и не возвращались. Коллегия отметила, что, однако, «вывод суда по этому вопросу фактически построен на логическом умозаключении, при этом обстоятельства, касающиеся указанного довода Агентства, проверены не были». В жизни бывает всякое, так что проверка реальных фактов не будет лишней.
По словам Коллегии, судам также следовало привлечь к делу тот банк, куда якобы были переведены деньги, и истребовать у него сведения о движениях по счетам вкладчицы, а заодно проверить его на предмет аффилированности с ней. Суды этого не сделали.
В-третьих, вкладчица является акционером банка-должника. По мнению Коллегии, это означает, что при рассмотрении заявления о включении в реестр кредиторов ее требований подлежит применению повышенный стандарт доказывания. Иначе говоря, при рассмотрении ее заявления суды должны проявлять сугубую подозрительность, но они ее не проявили. По-видимому, этот тезис не был не-
6См.: п. 26 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35.
134

Свободная трибуна
обходимым для решения спора: дело вполне можно было разрешить и на основании первых двух пунктов. Однако именно этот довод является наиболее интересным и спорным с теоретической точки зрения, так что его мы подробнее рассмотрим отдельно.
В итоге Коллегия отправила дело на новое рассмотрение с соответствующими напутствиями нижестоящим судам: «При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, привлечь указанных выше лиц к участию в обособленном споре, оценить реальность долга по вкладу (с учетом совокупности осуществленных денежных переводов), а также проверить задолженность на предмет наличия у нее признаков корпоративного характера исходя из подходов, сформированных в судебной практике».
***
Наиболее интересной с теоретической точки зрения представляется та часть определения Коллегии, что посвящена стандартам доказывания. Что касается использованного Коллегией термина, то так в англо-американском праве называют стандарты (или, иначе говоря, критерии), применяемые судами или присяжными при оценке доказательств для установления фактов дела7. (Англо-аме- риканский подход мы детально рассмотрим чуть ниже.)
Для начала приведу соответствующий пассаж из акта ВС целиком:
«При этом судебная коллегия принимает во внимание то обстоятельство, что Хорошилова Т.Д. является акционером должника (примерно 19% акций). Несмотря на то, что обладание названным количеством акций само по себе не презюмирует наличие статуса контролирующего лица, такой акционер не может быть признан и миноритарным (пункт 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункт 2 пункта 4 и пункт 6 статьи 61.10 Закона о банкротстве). При рассмотрении заявлений о включении рядовых гражданско-правовых кредиторов суд осуществляет более тщательную проверку обоснованности требований по сравнению с общеисковым гражданским процессом, то есть основанием к включению являются ясные и убедительные доказательства наличия и размера задолженности. При рассмотрении же требований о включении неминоритарных акционеров (участников) применяется более строгий стандарт доказывания, такие акционеры должны не только представить ясные и убедительные доказательства наличия и размера задолженности, но и опровергнуть наличие у такой задолженности корпоративной природы, в частности, подтвердить, что при возникновении долга они не пользовались преимуществами своего корпоративного положения (например, в виде наличия недоступной иным лицам информации о финансовом состоянии должника, возможности осуществлять финансирование в условиях кризиса в обход корпоративных процедур по увеличению уставного капитала и т.д.). Целью судебной проверки таких требований является исключе-
7См.: Будылин С.Л. Внутреннее убеждение или баланс вероятностей? Стандарты доказывания в России и за рубежом // Вестник ВАС РФ. 2014. № 3. С. 25–57; № 4. С. 34–67.
135

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
ние у суда любых разумных сомнений в наличии и размере долга, а также в его гражданско-правовой характеристике.
Однако в настоящем споре суды использовали по отношению к Хорошиловой Т.Д. стандарт доказывания, применяемый к обычному гражданско-правово- му кредитору, без учета ее статуса как акционера должника».
Как видим, Коллегия полагает, что в российском праве существует целый спектр стандартов доказывания. (Говорится, что стандарт «применяется», т.е. формально речь идет не о том, что Коллегия вводит в российское право новую норму, а о том, что она применяет уже существующую.) В зависимости от применимого стандарта доказывания к доказательствам испрашивающей решение стороны применяются более или менее жесткие требования. По мысли Коллегии, при включении требования в реестр кредиторов применимый стандарт доказывания зависит от того, кто является кредитором.
Каковы же стандарты доказывания, обнаруженные Коллегией в российском праве? Во-первых, некий непоименованный минимальный стандарт доказывания, применяемый в «общеисковом гражданском процессе». Во-вторых, повышенный стандарт «ясные и убедительные доказательства», применяемый в банкротстве для включения в реестр требований «рядовых кредиторов». В-третьих, еще более высокий стандарт «исключение любых разумных сомнений», применяемый для включения в реестр требований «неминоритарных акционеров» (как бы это выражение ни понималось).
При внимательном прочтении текста определения можно заметить некоторые логические неувязки. Описывая тот самый «более строгий стандарт доказывания», применимый к «неминоритарным акционерам», Коллегия сообщает, что при доказывании наличия и размера их задолженности применяется тот же самый стандарт «ясные и убедительные доказательства», что и в случае «рядовых кредиторов». Но, кроме того, подлежит доказыванию, по неуказанному Коллегией стандарту, отсутствие у задолженности «корпоративной природы» (что бы это ни значило). Неожиданно в следующем предложении Коллегия заключает, что целью всего этого является «исключение у суда любых разумных сомнений» в наличии, размере и характере задолженности. Видимо, эта фраза подразумевает более высокий и строгий стандарт доказывания, чем «ясные и убедительные доказательства».
Очевидно, что Коллегия смешивает два совершенно разных понятия: (1) процессуальное правило, а именно «более строгий стандарт доказывания» наличия, размера и характера задолженности, применяемый, по словам Коллегии, к требованиям «неминоритарных акционеров», и (2) материально-правовую норму (предположительно имеющуюся в российском праве), согласно которой не подлежит включению в реестр задолженность, имеющая «корпоративную природу».
Тема субординации (включая выведение за реестр) задолженности «корпоративной природы», т.е. займов от аффилированных с компанией-банкротом лиц, весьма неоднозначна и заслуживает отдельного обсуждения8.
8См., напр.: Будылин С. Субординация займов акционеров: Так говорил Заратустра // Закон.ру. 2018. 24 апр. URL: https://zakon.ru/blog/2018/4/24/subordinaciya_zajmov_akcionerov_tak_govoril_zaratustra.
136
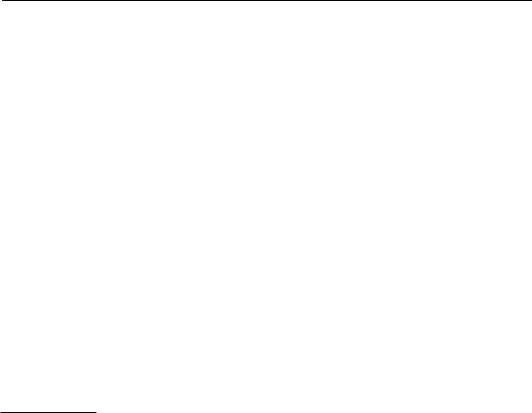
Свободная трибуна
Если очень коротко, разные страны решают этот вопрос по-разному9. Так, в Германии субординируются займы от акционеров и многих связанных с ними лиц (лишь с некоторыми исключениями)10, в Англии никакие займы не субординируются (не принимая в расчет случаев прямого жульничества)11, а в США займы аффилированных лиц субординируются на усмотрение суда (если суд обнаружит в действиях такого лица определенную степень упречности)12.
В России правило о субординации займов аффилированных с банкротом лиц отсутствует в законе, но действует в судебной практике. Возможно, рассматриваемое нами дело следует рассматривать как попытку ввести в российское право норму о субординации «через черный ход», т.е. под видом процессуального правила о «повышенном стандарте доказывания» существования соответствующей задолженности.
Так или иначе, в итоге остается не совсем ясным, какой же из двух стандартов доказывания подлежит применению при установлении наличия и размера задолженности «неминоритарных акционеров», и какой — при установлении ее «корпоративной природы».
Никаких обоснований заявленной иерархии стандартов доказывания, а равно и заявленных правил использования этих стандартов в банкротных делах Коллегия не приводит.
9См., напр.: Gelter M., Roth J. Subordination of Shareholder Loans from a Legal and Economic Perspective. CESifo DICE Report 2/2007. URL: https://www.cesifo-group.de/DocDL/dicereport207-rr1.pdf (статья опубликована до реформы в Германии, касающейся субординации займов, и сведения о Германии неактуальны).
10 |
Точнее говоря, в Германии субординируются все «займы акционеров» (Gesellschafterdarlehen), |
|
а также требования из сделок, аналогичных таким займам в экономическом смысле, за исключе- |
|
нием (1) «санационных займов», выданных акционером, приобретшим акции в период финансо- |
|
вой неустойчивости компании и предоставившим заем для целей санации компании (Sanierung), |
|
и (2) займов от акционеров с долей участия 10% или менее (Insolvenzordnung (InsO) § 39 Abs. 1 Nr. 5; |
§ 39 Abs. 4–5). При этом следует учитывать, что согласно судебной практике «акционер» для этих целей понимается как лицо с прямым или косвенным участием в компании, а к «займам акционера» приравниваются займы от компаний, прямо или косвенно контролируемых акционером, а также от некоторых других связанных с акционером лиц (BGH 21.2.2013 IX ZR 32/12; BGH 18.7.2013 IX ZR 219/11). См.: Tschauner H. Shareholder loans under German insolvency law // Financier Worldwide Magazine. March 2014. URL: https://www.financierworldwide.com/shareholder-loans-under-german-in- solvency-law/; Randow P., von, Ehret D. New German Legislation on the Mandatory Subordination of Shareholder Loans // Latham & Watkins Client Alert. 2008. 26 Sept. No. 745. URL: https://www.lw.com/ thoughtLeadership/new-german-law-mandatory-subordination-shareholder-loans.
11Более того, в случае целевого займа, не использованного компанией по назначению, заимодавец, даже если он акционер, получает приоритет перед остальными кредиторами в банкротстве (так называемое Qustclose trust), см.: Barclays Bank Ltd v. Quistclose Investments Ltd [1968] UKHL 4.
12См.: Benjamin v. Diamond (In re Mobile Steel Company), 563 F.3d 692, 700 (5th Cir. 1977). См. также: Murray J.C. Equitable Subordination in Bankruptcy: An Analysis of In re Yellowstone. 2010. URL: https://www. americanbar.org/content/dam/aba/publications/rpte_ereport/2010/february/rp_murray.authcheckdam.pdf. Следует также учитывать, что в некоторых случаях займы акционеров не «субординируются», а «переквалифицируются» (recharacterization), т.е. приравниваются к вкладам в капитал (что не совсем то же самое), см.: Roth Steel Tube Co. v. Commissioner, 800 F.2d 625 (6th Cir. 1986).
137

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
Названия стандартов («ясные и убедительные доказательства», «вне разумных сомнений»), как и сама идея иерархии гражданских стандартов доказывания, позаимствованы, очевидно, из американского права (в английском праве существует лишь один гражданско-правовой стандарт — «баланс вероятностей»). Однако, как мы увидим далее, в американском праве нет правил о применении повышенных стандартов доказывания в банкротстве, подобных сформулированным Коллегией.
***
Рассматриваемый судебный акт поднимает необычайно актуальную для отечественного права проблему стандартов доказывания. Хотя, следует отметить, ее актуальность пока осознается далеко не всеми. Для понимания сути проблемы рассмотрим простейший пример.
Допустим, в процессе истец и ответчик представили доказательства фактической картины дела — каждый в свою пользу. (Скажем, речь идет о том, дал ли истец ответчику денег взаймы.) Ни те ни другие доказательства не являются абсолютно железобетонными. Допустим, доказательства истца кажутся судье несколько более убедительными, но все же не на 100%. Ситуация, разумеется, вполне типичная. Как должен судья разрешить этот спор о факте?
Очевидно, что ответ на этот вопрос чрезвычайно важен для исхода дела. Иногда, может быть, даже более важен, чем содержание применимых материальноправовых норм. Ведь если судья признает фактическую картину дела, предлагаемую истцом, недоказанной, то до применения материальных норм дело просто не дойдет.
Классический для континентального права ответ на данный вопрос: «Факты устанавливаются по внутреннему убеждению судьи». Однако на самом деле это ответом не является. В чем конкретно должен быть убежден судья? В том, что доказательства истца более весомы, хотя бы чуть-чуть, чем доказательства ответчика? Или же в том, что истец практически несомненно прав? Первое означает, на английском правовом жаргоне, что судья применяет стандарт «баланс вероятностей» (в американском варианте — «перевес доказательств»), а второе — стандарт «за пределами разумных сомнений». Очевидно, в приведенном простейшем примере решение с использованием первого стандарта будет в пользу истца, а с использованием второго — в пользу ответчика.
Легко показать, что с точки зрения общественной целесообразности оптимальным стандартом в гражданско-правовых спорах является первый («баланс вероятностей»), а в уголовных делах — второй («за пределами разумных сомнений»).
138

Свободная трибуна
***
Стандарты доказывания имеют большое значение в англо-американском праве. Они вступают в игру лишь в один момент судебного процесса: при установлении фактов дела исходя из представленных сторонами доказательств.
Стандарт «баланс вероятностей» (balance of probabilities), он же «перевес доказательств» (preponderance of the evidence), предписывает судье или присяжным признать факт доказанным, если, по их мнению, представленные доказательства позволяют заключить, что факт скорее имел место, чем не имел. Этот стандарт минимизирует число ошибочных выводов по вопросу факта, делая примерно равновероятными ошибки в пользу каждой из сторон. Именно он используется в большинстве гражданско-правовых споров, так как минимизирует общественные потери от ошибочных судебных решений. Ведь, как правило, в граждан- ско-правовом споре на кону для каждой из сторон стоит одна и та же денежная сумма.
Стандарт «за пределами разумных сомнений» (beyond a reasonable doubt) предписывает разрешать вопрос факта в пользу испрашивающей решение стороны, только если, по мнению судьи или присяжных, представленные доказательства позволяют исключить все разумные сомнения в том, что заявленный стороной факт имел место. Этот стандарт асимметричен, а именно неблагоприятен для стороны, несущей бремя доказывания. Его применение объективно ведет к значительному числу ошибок. Многие факты устанавливаются неверно, в пользу оппонента испрашивающей решение стороны, со ссылкой на то, что остались разумные сомнения в истинности заявленного ею факта.
Асимметричный стандарт применяется в тех случаях, когда неблагоприятные последствия от ошибки в пользу одной стороны превышают неблагоприятные последствия от ошибки в пользу другой стороны. Именно поэтому имеет смысл минимизировать число ошибок первого рода, пусть даже за счет непропорционального увеличения числа ошибок второго рода.
Стандарт «за пределами разумных сомнений» используется в уголовных делах, ведь в них ценой ошибки в пользу обвинения может быть свобода или даже жизнь обвиняемого. Лучше отпустить десять виновных, чем осудить одного невиновного. Говоря языком экономического анализа права, поскольку социальный ущерб от осуждения невиновного значительно превышает социальный ущерб от оправдания виновного, для максимизации суммарной общественной полезности требуется применение асимметричного стандарта доказывания.
Кроме того, в США иногда применяется промежуточный стандарт доказывания «ясные и убедительные доказательства» (clear and convincing evidence). Конкретная сфера его использования зависит от штата, но в целом можно сказать, что он обычно применяется в тех гражданско-правовых спорах, где речь идет о наложении на ответчика квазиуголовных санкций (вроде штрафных убытков) либо исход дела иным образом затрагивает фундаментальные права ответчика, не сводящиеся лишь к денежному интересу.
139

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
Математически четкое определение этого стандарта дать вряд ли возможно. Но, условно говоря, если стандарт «перевес доказательств» подразумевает, что факт имел место с вероятностью как минимум 51%, а стандарт «вне разумных сомнений» — с вероятностью 99%, то, видимо, стандарт «ясные и убедительные доказательства» соответствует примерно 75% вероятности.
В Англии такого промежуточного стандарта нет: в гражданских спорах применяется лишь стандарт «баланс вероятностей». Впрочем, согласно некоторым прецедентам, этот стандарт следует считать гибким, т.е. применять его с учетом серьезности последствий устанавливаемых фактов13. К этому вопросу мы вернемся в следующем разделе.
Стоит еще раз подчеркнуть, что целью применения повышенного стандарта доказывания не является более надежное установление фактов. Напротив, применение асимметричного стандарта доказывания неизбежно ведет к тому, что в значительной доле споров факты будут устанавливаться объективно ошибочно. Такой ценой достигается минимизация негативных последствий от возможного нарушения прав одной стороны, не сводящихся к денежным интересам.
***
К сказанному о стандартах доказывания в англо-американском праве стоит добавить некоторые подробности, относящиеся к тому, что можно назвать априорной вероятностью доказываемых фактов.
Говоря о стандарте «перевес доказательств», часто используют метафору весов: каждая из сторон кладет доказательства на свою чашу весов; чья чаша перевесила, тот и выиграл. Однако следует осознавать ограниченность этой метафоры. Прежде всего роль суда или присяжных не состоит в определении абсолютного веса каждого отдельного доказательства: все доказательства подлежат оценке в совокупности. Что не менее важно, эти метафорические весы не обязательно находятся в равновесии изначально, т.е. до представления доказательств. Ведь суд или присяжные могут по тем или иным (легитимным) причинам более скептически относиться к фактической картине, представленной одной из сторон14.
Эта проблема часто возникает при доказывании в гражданском процессе фактов серьезных правонарушений, таких как обман (fraud). В Англии принято считать, что обман одним участником гражданского оборота другого участника — это нечто из ряда вон выходящее, т.е. вероятность такого события изначально низка. Не значит ли это, что при доказывании обмана следует применять повышенный стандарт доказывания?
13См., напр.: An, R (on the application of) & Anor v. Secretary of State for the Home Department & Ors [2005] EWCA Civ. 1605 (21 December 2005), para 62.
14См., напр.: Будылин С.Л. Стандарты доказывания: промежуточные итоги // Закон.ру. 2014. 4 апр. URL: https://zakon.ru/blog/2014/4/4/standarty_dokazyvaniya_promezhutochnye_itogi.
140

15
16
Свободная трибуна
Такую идею высказывал лорд Деннинг (Lord Denning) в решении Апелляционного суда от 1950 г. По его мнению, существуют определенные градации внутри гражданского стандарта доказывания: «При доказывании обвинения в обмане гражданский суд, естественно, потребует более высокой степени вероятности, чем при установлении неосторожности»15.
Подобного подхода при доказывании обмана и других серьезных обвинений придерживаются некоторые штаты США, используя для этих целей промежуточный стандарт доказывания. Однако английские суды по этому пути в итоге не пошли, предпочтя иную фразеологию.
Английский подход состоит в следующем.
Как мы знаем из собственного опыта, некоторые факты случаются редко, а некоторые часто. То есть у фактов есть некая априорная вероятность или, как говорят английские судьи, «вероятность, определенная природой вещей» (inherent probability). И именно с нее начинается процесс доказывания. Следовательно, для доказывания какого-то необычного факта заинтересованной стороне придется приложить больше усилий, чем для доказывания того, что случается постоянно.
Это, однако, не означает, что изменился стандарт доказывания. Задача судьи или присяжных все та же: определить, верно ли, что факт скорее имел место, чем не имел. Просто если факт изначально сомнителен, то преодолеть тот же стандарт будет сложнее. Английские судьи иногда говорят, что в этом случае для преодоления стандарта «баланс вероятностей» потребуются «более сильные» (stronger) или «более убедительные» (more cogent) доказательства, чем при доказывании распространенного факта.
Лорд Николс (Lord Nicholls) в решении Палаты лордов от 1995 г. высказался по этому поводу следующим образом: «Стандарт «баланс вероятностей» означает вот что: суд признает, что событие произошло, если суд, исходя из доказательств, считает более вероятным, что событие произошло, чем то, что оно не произошло. При оценке вероятностей суд должен иметь в виду, в степени, подходящей для конкретного дела, что чем более серьезны обвинения, тем менее вероятно, что событие произошло, и, следовательно, тем сильнее [stronger] должны быть доказательства, прежде чем суд признает, что факт установлен по стандарту «баланс вероятностей». Обман обычно менее вероятен, чем неосторожное введение в заблуждение. Умышленное причинение вреда здоровью обычно менее вероятно, чем неосторожное. <...> Хотя результат во многом тот же, сказанное не означает, что в случае серьезных обвинений стандарт доказывания выше. Это означает лишь, что внутренняя вероятность или невероятность события сама должна приниматься в расчет при взвешивании вероятностей и принятии решения, с учетом всех доказательств, о том, произошло ли событие. Чем более невероятно событие, тем сильнее должны быть доказательства того, что оно произошло, прежде чем событие будет доказано по стандарту «баланс вероятностей»16.
Bater v. Bater [1950] 2 All ER 458.
H & Ors (minors), Re [1995] UKHL 16 (05 April 2000), para 73–74.
141

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
Лорд Хоффман (Lord Hoffman) в решении Палаты лордов от 2001 г. поясняет эту мысль на ярком примере: «Гражданский стандарт доказывания всегда означает «факт вероятнее имел место, чем не имел». Единственная более высокая степень вероятности, требуемая правом, — это уголовный стандарт. Но, как разъяснил лорд Николс... некоторые факты по своей природе [inherently] более вероятны, чем другие. Чтобы убедить кого-то, что существо, прогуливавшееся в Риджентспарке, скорее было, чем не было львицей [lioness], потребуются более убедительные [more cogent] доказательства, чем чтобы признать по тому же стандарту вероятности, что это была немецкая овчарка [Alsatian]. Исходя из этого, по общему правилу требуются убедительные доказательства, чтобы гражданский суд признал, что лицо совершило обман или иным образом действовало предосудительно. Но вопрос всегда в том, считает ли суд, что вероятность события больше, чем вероятность того, что события не было»17.
В решении Палаты лордов от 2008 г. тот же лорд Хоффман в своем отдельном мнении счел нужным сделать некоторые дополнительные пояснения. Он решил развеять сложившееся (несмотря ни на что) у некоторых судей впечатление, что требование «более убедительных» доказательств все же означает некий «повышенный гражданский стандарт» доказывания. Заодно он уточняет, что сама по себе серьезность правонарушения не обязательно означает его маловероятность: «Я думаю, пришло время сказать, раз и навсегда, что существует только один гражданский стандарт доказывания: более вероятно, что спорный факт имел место, чем не имел... Лорд Николс не сформулировал новой нормы права. Есть только одна норма, а именно: нужно доказать, что более вероятно, что спорный факт имел место, чем не имел. Здравый смысл, а не право требует, чтобы при решении этого вопроса в надлежащей степени принимались во внимание вероятности, определенные природой вещей [inherent probabilities]... [Но] было бы абсурдом сказать, что суд во всех случаях должен предполагать, что совершение серьезного нарушения маловероятно. Во многих случаях другие доказательства покажут, что оно очень даже вероятно»18.
Последнюю мысль подтверждает и баронесса Хейл (Baroness Hale) в тексте основного решения по тому же делу: «Что касается серьезности обвинений, нет логической или необходимой связи между серьезностью и вероятностью. Некоторое серьезно вредоносное поведение, такое как убийство, достаточно редко, чтобы быть по природе своей невероятным в большинстве ситуаций. Даже в этом случае бывают обстоятельства, например тело с перерезанным горлом и без оружия в руке, когда оно [убийство] вовсе не невероятно. Другие виды серьезно вредоносного поведения, в частности злоупотребление алкоголем или наркотиками, к сожалению, слишком распространены и вовсе не невероятны. Кроме того, серьезные обвинения делаются не в вакууме. Рассмотрим знаменитый пример с животным, замеченным в Риджент-парке. Если животное видели за пределами зоопарка на лужайке для выгула собак, тогда, конечно, это скорее собака, чем лев. Если его видели в зоопарке рядом с львиным вольером с открытой дверью, тогда это, возможно, скорее лев, чем собака»19.
17Secretary of State For The Home Department v. Rehman [2001] UKHL 47 (11th October, 2001), para 55.
18B (Children), Re [2008] UKHL 35 (11 June 2008), para 13, 15.
19Ibid. Рara 72.
142

Свободная трибуна
Таким образом, английский правопорядок не признает множественности стандартов доказывания в гражданском процессе. В любом случае для гражданскоправовых целей применяется симметричный стандарт. Однако если доказываемый факт по природе своей неправдоподобен, т.е. его априорная вероятность мала, то для преодоления обычного стандарта заинтересованной стороне придется приложить больше усилий.
***
В российском праве вопрос о надлежащих стандартах доказывания не только не решен, но, по сути, еще даже толком и не поставлен на теоретическом уровне.
На практике же в российской судебной системе стихийно сложился чрезвычайно завышенный стандарт доказывания в гражданско-правовых спорах, близкий к уголовному стандарту («за пределами разумных сомнений»). Сторона, на которой лежит бремя доказывания (обычно это истец), вынуждена преодолевать такой завышенный стандарт. Это, как обсуждалось выше, означает массовое некорректное разрешение споров: в пользу ответчика, когда объективно прав истец.
Законодатель и высшие суды предпринимают некоторые попытки переломить эту вредную тенденцию. Так, в 2011 г. в деле «Смартс»20 Президиум ВАС РФ, хотя и не использовал термин «стандарт доказывания», но фактически предпринял попытку снизить сложившийся ранее завышенный стандарт доказывания, применяемый к исчислению убытков. В этом деле суды в соответствии с существующей практикой отказали истцу во взыскании убытков, сославшись на то, что их сумма не доказана с абсолютной точностью. Президиум ВАС РФ направил дело на пересмотр, указав, что убытки надо устанавливать «с разумной степенью достоверности», но даже если это не представляется возможным, то суд должен не отказывать в иске, а самостоятельно исчислить убытки «с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости и соразмерности ответственности».
Эта позиция нашла широкое применение в последующей судебной практике, а в 2015 г. была кодифицирована в п. 5 ст. 393 ГК РФ.
По-видимому, введенное Президиумом ВАС РФ и поддержанное законодателем правило исчисления убытков примерно соответствует англо-американскому стандарту «баланс вероятностей», он же «перевес доказательств». Во всяком случае, идея новшества явно состояла в понижении сложившегося стандарта доказывания до оптимального уровня.
***
Что касается самого термина «стандарт доказывания», то, по-видимому, впервые он был употреблен в российском судебном акте высокого уровня Президи-
20 |
См.: постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 № 2929/11 по делу № А56-44387/2006. |
|
143

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
умом ВАС РФ в деле о банкротстве ООО «Мурманские мультисервисные сети» в 2014 г. (судья-докладчик — С.В. Сарбаш)21.
В деле рассматривался вопрос о включении в реестр кредиторов довольно подозрительного требования офшорной компании. Оно было основано на решении иностранного третейского суда, подлинность которого оспаривалась конкурсным кредитором. Нижестоящие суды отказали конкурсному кредитору в проведении соответствующей экспертизы и включили требование в реестр. Президиум ВАС РФ отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение со следующим напутствием: «Возможность конкурсных кредиторов в деле о банкротстве доказать необоснованность требования другого кредитора, подтвержденного решением третейского суда, обычно объективным образом ограничена, поэтому предъявление к ним высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству таких кредиторов. При рассмотрении подобных споров конкурсному кредитору достаточно представить суду доказательства prima facie, подтвердив существенность сомнений в наличии долга. При этом другой стороне, настаивающей на наличии долга, присужденного третейским судом, не должно составлять затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно она должна обладать всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником».
Это позиция затем не раз дословно повторялась судами, включая Коллегию22, а также воспроизводилась в обзорах судебной практики ВС РФ23.
Надо сказать, что правила доказывания наличия и размера задолженности в банкротстве для включения требований в реестр кредиторов еще в 2012 г. обсуждались Пленумом ВАС РФ (на позицию которого ссылается и Коллегия в рассматриваемом нами деле)24. Согласно этой позиции для включения требований в реестр кредиторов нужны «достаточные доказательства» наличия и размера задолженности. Как поясняет Пленум, это значит, что, например, простой расписки может оказаться недостаточно; надо учитывать и различные сопутствующие обстоятельства, подтверждающие или опровергающие реальность заявленной задолженности: «При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. Также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе…»
21См.: постановление Президиума ВАС РФ от 13.05.2014 № 1446/14.
22См., напр.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 28.02.2018 № 308- ЭС17-12100.
23См.: п. 32 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2017 г.) (утв. Президиумом ВС РФ 12.07.2017); п. 10 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (утв. Президиумом ВС РФ 13.04.2016).
24См.: п. 26 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35.
144

Свободная трибуна
Термин «стандарт доказывания» Пленумом не был упомянут, но впоследствии суды рассматривали это правило именно как «повышенный стандарт доказывания» в банкротстве.
Так, в одном из определений Коллегии сообщается: из сформулированного Пленумом правила «следует, что проверка обоснованности требования кредитора в деле о банкротстве предполагает повышенные стандарты доказывания, исключающие возможность включения в реестр требований, не подтвержденных достаточными доказательствами»25.
Часто к этому правилу обращаются, чтобы отказать в удовлетворении требований аффилированных с должником кредиторов26. Однако оно применяется также и к требованиям кредиторов, не связанных с должником (или точнее, связь которых с должником не доказана)27. И наоборот, если подлинность требования одного из кредиторов оспаривает конкурирующий кредитор, к доказательствам последнего не следует предъявлять слишком высокие требования. Ему достаточно лишь «подтвердить существенность» своих сомнений, после чего первый кредитор должен эти сомнения опровергать.
Эта позиция, вполне согласующаяся с упомянутой выше позицией Президиума ВАС РФ от 2014 г., была сформулирована Коллегией в деле о требовании аффилированного кредитора28, а затем попала в Обзор судебной практики ВС РФ № 5 за 2017 г., утвержденный Президиумом ВС РФ 27.12.2017 (п. 20; при этом аффилированность не была обозначена в резюме кейса как существенное обстоятельство): «Если конкурсный кредитор обосновал существенные сомнения, подтверждающие наличие признаков мнимости у сделки, совершенной должником и другим конкурсным кредитором, на последних возлагается бремя доказывания действительности сделки…
Следует учесть, что конкурирующий кредитор не является стороной сделки,
всилу чего объективно ограничен в возможности доказывания необоснованности требования другого кредитора. Поэтому предъявление к конкурирующему кредитору высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству таких кредиторов. В данном случае достаточно подтвердить существенность сомнений
вналичии долга. Напротив, стороны сделки не лишены возможности представить в суд как прямые, так и косвенные доказательства, опровергающие сомнения в реальности ее исполнения. Таким образом, при наличии убедительных доводов и доказательств невозможности хранения бремя доказывания обратного возлагается в данном споре на истца и ответчика».
25Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 18.09.2017 № 301-ЭС15- 19729.
26См., напр.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 23.04.2018 № 305- ЭС17-6779.
27См., напр.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 18.09.2017 № 301- ЭС15-19729.
28См.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 11.09.2017 № 301-ЭС17- 4784.
145

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
Впрочем, иногда суды проявляют бóльшую благосклонность к кредитору. Так, в одном из дел Коллегии Суд признал подлинной трансакцию по снятию денег вкладчиком со счета в банке в период действия картотеки, поскольку в случае граждан-вкладчиков к конкурсному управляющему не следует применять «пониженный стандарт доказывания»: «Вопреки выводам судов, наличие в банке картотеки не может образовывать презумпцию при оспаривании сделок по выдаче наличных денежных средств добросовестным вкладчикам (клиентам) банка. Такое обстоятельство принимается судом во внимание наряду с иными при исследовании вопроса о типичности сделки для конкретной кредитной организации.
Иное означало бы применение по подобного рода обособленным спорам пониженного стандарта доказывания к конкурсному управляющему, что не соответствует статусу обычных граждан-вкладчиков, являющихся, как правило, слабой стороной правоотношений»29.
Почему-то термин «стандарт доказывания» используется российскими судами (не считая разве что цитат из решений ЕСПЧ) почти исключительно в отношении установления требований конкурсных кредиторов в банкротстве. Мне удалось найти лишь одно дело ВС, где термин использовался в другом контексте. Истец просил суд взыскать долг из договора поставки, несмотря на наличие в нем арбитражной оговорки, ссылаясь при этом на свое «тяжелое финансовое положение», не позволяющее заплатить регистрационный сбор в 2 тыс. евро для рассмотрения дела в международном арбитраже. Суды отказали истцу, причем Коллегия высказалась следующим образом: «Учитывая специфику данных правоотношений, обусловленную сложностью сбора доказательств, к таким делам подлежит применению более высокий стандарт доказывания»30. По-видимому, Коллегия скептически отнеслась к уверениям истца о том, что у него нет денег на арбитраж.
Можно заключить, что логика судов такова: «повышенный стандарт доказывания» подлежит применению в тех случаях, когда основные доказательства факта находятся в руках одной из сторон и оппонент испытывает трудности с их получением. Суть же применения этого «повышенного стандарта доказывания», по мысли судов, заключается в том, что на первую сторону переносится бремя доказывания своей правоты — во всяком случае, после предъявления оппонентом «первичных доказательств». А при необходимости доказательства могут быть истребованы у стороны принудительно по ходатайству оппонента.
***
Разумность сформулированных арбитражными судами правил, перечисленных в предыдущем разделе, бесспорна. Однако корректность применения в этом контексте термина «стандарт доказывания» вызывает сомнения.
29Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 02.04.2018 № 305-ЭС17- 22716.
30Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 12.07.2017 № 307-ЭС17-640.
146

Свободная трибуна
Вернемся к ситуации, рассмотренной Президиумом ВАС РФ в деле ООО «Мурманские мультисервисные сети».
Допустим, загадочная офшорная компания желает попасть в реестр кредиторов общества-банкрота с требованием на 1,5 млрд руб., предъявляя решение не менее загадочного третейского суда, и никаких других доказательств суду не представлено. Что, по-вашему, более вероятно: что требование подлинное или что оно фальшивое?
На мой взгляд, безусловно, второе (т.е. требование фальшивое). Конечно, разумные сомнения в фальшивости требования остаются, но в целом баланс вероятностей явно не в пользу кредитора.
Если так, то никакого «повышенного стандарта доказывания» для решения спора не требуется. Спор решается против офшорной компании при использовании обычного «гражданского» стандарта «баланс вероятностей» (он же «перевес доказательств»).
Иной вывод возможен лишь при примитивном (и некорректном) понимании стандарта «перевес доказательств» как требования разрешать спор в зависимости от соотношения количества представленных сторонами доказательств, а не от их реальной убедительности. И если кредитор захочет избежать такого печального результата (т.е. решения спора в пользу оппонента), он, скорее всего, совершенно добровольно представит дополнительные доказательства своей правоты, если таковые имеются.
Содержательный тезис Президиума состоял в том, что нижестоящим судам следовало внять призывам конкурирующего кредитора и истребовать у офшорной компании дополнительные доказательства реальности ее требования или хотя бы провести экспертизу третейского решения.
Этот тезис не вызывает возражений. Однако он не имеет отношения к стандартам доказывания. Ведь стандарты доказывания, как уже упоминалось, применяются лишь в момент оценки представленных суду доказательств. В данном же случае речь идет не о процессе оценки, а о процессе сбора доказательств.
В Англии и особенно в США стороны имеют чрезвычайно широкие возможности по истребованию информации от своих процессуальных оппонентов. Эта процедура называется «раскрытие доказательств» (disclosure/discovery). В результате большинство споров разрешается на основании весьма убедительно установленных фактов31.
Серьезной проблемой российского права, отличной от проблемы с неоптимальным стандартом доказывания, является практическая невозможность для сторон принудительно получить какие-либо доказательства от оппонента. (Особенно остро она стоит в тех видах споров, в которых практически все доказательства,
31См.: Будылин С.Л. Рентгеновский луч права. Раскрытие доказательств в России и за рубежом // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6. С. 56–97.
147

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
необходимые для установления фактов дела, находятся в руках ответчика. В совокупности с завышенным (против истца) стандартом доказывания это делает положение истца почти безнадежным.)
Аналогичная проблема возникает в делах, в которых кредитор предъявляет требования к компании-банкроту: зачастую лишь сам кредитор, а не конкурсный управляющий или тем более другие кредиторы, обладает всей полнотой информации о сделке. Однако раскрывать ее он не спешит.
Как мы видели, при правильном использовании не повышенного, а обычного симметричного стандарта доказывания кредитор получает мощный стимул для раскрытия этой информации. Но в принципе, чтобы ее получить, суду не нужен какой-то специальный стандарт доказывания — следует просто истребовать доказательства у кредитора (по ходатайству его конкурентов). Ну а если тот информации не представит, то сам и виноват. За это на него можно наложить процессуальные санкции вплоть до разрешения спора против него.
Можно заключить, что российские арбитражные суды смешивают три существенно различные концепции: 1) стандарт доказывания, т.е. критерий установления факта на основании представленных суду доказательств; 2) бремя доказывания, т.е. правило о том, кто представляет суду доказательства (во избежание разрешения вопроса в пользу оппонента); 3) процессуальное требование к стороне спора о раскрытии доказательств вкупе с процессуальными санкциями за нарушение этих требований.
***
Сделаю небольшое лирическое отступление о корпоративном праве (при желании его можно пропустить). К упомянутой выше категории дел — в которых все доказательства находятся в руках одной из сторон — относятся и иски миноритарных акционеров о нарушении директором компании своих фидуциарных обязанностей. Действительно, почти все документы компании и почти вся информация о ее сделках находятся под контролем директора и недоступны миноритариям. В результате они практически лишены возможности доказать нарушения со стороны директора.
В случае использования симметричного стандарта доказывания острота этой проблемы до некоторой степени снимается. Как только акционер представил хоть какие-то первичные (prima facie) доказательства нарушения со стороны директора, «баланс вероятностей» в типичной ситуации уже складывается в пользу акционера, после чего директор вынужден представлять доказательства своей правоты, если он не хочет проиграть дело32. Все это на основании, подчеркну, общегражданского стандарта доказывания (не повышенного и не пониженного).
32Сказанное нуждается в некотором уточнении. В англоязычной терминологии «первичные» (prima facie) доказательства — это доказательства факта, достаточные для передачи данного вопроса факта для разрешения присяжными или судьей. Строго говоря, наличие «первичных» доказательств не предопределяет решения вопроса о факте: он решается судом отдельно на основе применимого стандарта доказывания и в принципе может решиться в пользу любой из сторон. Однако на практике, если истец
148

Свободная трибуна
Однако, как уже упоминалось, в российских арбитражных судах стихийно сложился завышенный стандарт доказывания, действующий против истца. Это делает задачу миноритариев почти неподъемной.
В деле Кировского завода33 от 2012 г., в котором миноритарии обвиняли директора в массированном выводе активов завода, Президиум ВАС РФ попытался отчасти решить эту задачу34. Но не путем введения оптимального стандарта доказывания, а путем искусственного манипулирования бременем доказывания. А именно посредством его перемещения на ответчика после представления истцом первичных доказательств. По словам Президиума, «истец представил достаточно серьезные доказательства [правонарушений со стороны ответчика]», в результате чего «именно на [ответчика] перешло бремя доказывания обратного».
Как видим, результат, автоматически достигающийся при применении корректного (симметричного) стандарта доказывания, при применении завышенного (по отношению к истцу) стандарта требует передвижения бремени доказывания в ручном режиме.
В этом же деле Президиум ВАС РФ затронул и проблему раскрытия доказательств. Директор фактически отказался представлять какие-либо доказательства, касающиеся спорных сделок. Это несмотря даже на приказ суда предоставить истцу определенную информацию и на штраф, наложенный за его неисполнение. После этого суды парадоксальным образом разрешили спор в пользу директора (!), сославшись на отсутствие доказательств правонарушений с его стороны.
По мнению Президиума, это было ошибкой со стороны судов. За отказ от раскрытия доказательств на директора следовало наложить процессуальные санкции. А именно Президиум предложил перенести на него бремя доказывания того, что сделки совершены в интересах компании. По словам Президиума, «указанные обстоятельства... не позволяют применить к ответчику презумпцию добросовестности и переносят на него бремя доказывания». А раз директор доказательств не представил, то вопрос, надо понимать, следовало автоматически
представил хоть какие-то доказательства, а ответчик не желает ничего представлять (без внятного объяснения причин), то решение вряд ли будет в его пользу. По этому поводу лорд Лаури (Lord Lowry) в деле Апелляционного суда Англии от 1991 г. высказывался следующим образом: «В нашей правовой системе, вообще говоря, молчание одной из сторон перед лицом доказательств другой стороны может превратить эти доказательства [evidence] в абсолютное доказательство [proof] в отношении фактов, которые известны или, скорее всего, известны молчащей стороне и в отношении которых от этой стороны можно ожидать дачи показаний. Таким образом, в зависимости от обстоятельств «первичные доказательства» [prima facie case] могут превратиться в сильные или даже абсолютные доказательства [overwhelming case]. Но если отказ стороны давать показания (или представлять доказательства) может быть разумным образом объяснен, пусть даже не полностью оправдан, то эффект ее молчания в пользу противной стороны может быть или смягчен, или уничтожен» (R v. Inland Revenue Commissioners, Ex p TC Coombs & Co [1991] 2 AC 283, 300). Эта позиция затем неоднократно с одобрением цитировалась судами, в том числе лордом Сампшном (Lord Sumption) в решении Верховного суда Соединенного Королевства (см.: Prest v. Petrodel Resources Ltd & Ors [2013] UKSC 34 (12 June 2013), para 44).
33См.: постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 № 12505/11 по делу № А56-1486/2010.
34См.: Будылин С.Л. Разум и добрая совесть. Обязанности директора в США, Великобритании, России // Вестник ВАС РФ. 2013. № 2. C. 10–39, 31–36.
149

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
разрешить в пользу акционера, что также можно рассматривать как своего рода процессуальную санкцию.
Итак, по мысли Президиума, бремя доказывания переходит на ответчика (директора) как при представлении истцом (миноритарием) доказательств prima facie, так и при отказе ответчика от раскрытия доказательств по приказу суда.
Замечу, что термин «стандарт доказывания» в этом деле не упоминался (хотя, возможно, упомянуть его стоило).
***
Поскольку идея стандартов доказывания, их иерархии, а также их названия были позаимствованы в США, имеет смысл сказать несколько слов об американском опыте применения стандартов доказывания в банкротстве35.
ВСША, как уже упоминалось, существует три стандарта доказывания. Приведу цитату из одного из решений Верховного суда США на эту тему: «Вообще говоря, эволюция этой области права выделила из непрерывного спектра три стандарта или уровня доказательств для различных типов дел. На одном конце спектра находится типичное гражданско-правовое дело, в котором речь идет о денежном споре между частными лицами. Поскольку общество имеет минимальную заинтересованность в исходе таких частных исков, бремя доказывания истца — это просто перевес доказательств. Стороны судебного разбирательства, таким образом, несут риск ошибки примерно равным образом.
Вуголовном деле, с другой стороны, интересы обвиняемого имеют такую важность, что, по историческим причинам и без прямого конституционного требования, они оказались защищены стандартом доказывания, рассчитанным на то, чтобы исключить, насколько это возможно, вероятность ошибочного осуждения. В уголовной юстиции наше общество возлагает почти весь риск ошибки на себя. Это достигается путем требования… доказывания вины обвиняемого за пределами разумных сомнений. Промежуточный стандарт… используется не так часто, но он не является чуждым гражданскому праву. Типичное использование этого стандарта — в делах, включающих обвинения в обмане или других квазиуголовных нарушениях со стороны обвиняемого. Интересы, играющие роль в таких делах, считаются более существенными, чем просто потеря денег, и некоторые юрисдикции, соответственно, уменьшают риск ошибочного нанесения ущерба репутации ответчика путем увеличения бремени доказывания для истца. Подобным образом этот Суд использовал стандарт доказывания «ясные, недвусмысленные и убедительные [доказательства]» для защиты особенно важных индивидуальных интересов в различных гражданско-правовых делах»36.
35См.: Parikh S.D. The Improper Application of the Clear-and-Convincing Standard of Proof: Are Bankruptcy Courts Distorting Accepted Risk Allocation Schemes? // University of Cincinnati Law Review. 2009. Vol. 78. P. 271.
36Addington v. Texas, 441 U.S. 418, 423–424 (1979) (некоторые внутренние кавычки и ссылки опущены).
150

37
38
Свободная трибуна
Что касается банкротных дел, то они, как правило, касаются лишь денежных интересов, так что напрашивается применение в них обычного общегражданского стандарта. Однако банкротные суды, чувствуя свою особую роль как «судов справедливости», разрешающих дело не столько по строгим нормам закона, сколько по своему усмотрению для достижения справедливости, иногда пытаются применить асимметричный стандарт доказывания «ясные и убедительные доказательства». Обоснованность данного подхода находится как минимум под вопросом.
Одно из таких дел (Grogan v. Garner) дошло в 1991 г. до Верховного суда США37. Речь шла не о включении требования в реестр, а о возможности или невозможности погашения требования по результатам банкротства. Спорное требование было деликтным и происходило из некоего обмана, совершенного должником (суть обмана в деле не обсуждалась).
По американским законам требования, происходящие из обмана (fraud) со стороны должника, не погашаются при банкротстве. В данном случае обман со стороны должника был установлен отдельным судебным решением. В разных штатах действуют разные стандарты доказывания при установлении обмана. Здесь присяжные использовали общегражданский стандарт доказывания «перевес доказательств». Должник настаивал на том, что для целей банкротства к требованиям об обмане должен применяться промежуточный стандарт «ясные и убедительные доказательства», а потому то судебное решение, в котором был установлен обман, не имеет преюдициальной силы для банкротного процесса.
Апелляция, вопреки мнению нижестоящих судов, согласилась с должником, ссылаясь на то, что большинство штатов используют промежуточный стандарт при установлении обмана. Кроме того, по мнению апелляции, общественная заинтересованность в предоставлении возможности должнику начать финансовую жизнь с чистого листа является основанием для применения более благоприятного для него промежуточного стандарта.
Верховный суд не согласился с апелляцией. По его словам, поскольку в федеральном банкротном законодательстве ничего не сказано о применении в данном вопросе специального стандарта, подлежит применению обычный стандарт «перевес доказательств». Что касается возможности начать жизнь с чистого листа, то она должна предоставляться только «честному, но неудачливому должнику», а не обманщику.
«Требование, чтобы кредитор доказал по стандарту «перевес доказательств», что его требование не подлежит погашению, отражает справедливый баланс этих конфликтующих интересов», — отметил судья Стивенс (Stevens), написавший текст решения ВС38.
В итоге дело было разрешено в пользу кредитора, т.е. долг не был погашен по результатам банкротства.
См.: Grogan v. Garner, 498 U.S. 279 (1991).
Ibid., at 287–288.
151

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
Как видим, ВС США не поддержал идею использования каких-то специальных стандартов доказывания в банкротстве, во всяком случае применительно к рассмотренному им вопросу о погашении долгов, проистекающих из обмана.
***
Вернемся к делу о банкротстве банка «БФГ-Кредит» и пропавшем вкладе совладелицы банка.
Справедливость исхода дела не вызывает особых сомнений. История с миллиардами, якобы лежавшими на счете акционера банка, а в преддверии краха то ли выведенными, то ли не выведенными на счета в других банках, несомненно, весьма мутная и не исследована должным образом нижестоящими судами. Можно только приветствовать решение Коллегии направить дело в первую инстанцию для установления фактов дела, а именно реальности заявленного долга.
Однако вся аргументация, связанная со стандартами доказывания (целиком процитированная выше), выглядит очень слабо. Коллегия не пытается пояснить, что именно она понимает под стандартами доказывания, не приводит абсолютно никаких аргументов, будь то нормативных, догматических, политико-правовых или экономико-правовых, в пользу вводимой ею иерархии стандартов доказывания. О том, что нет ссылок на какие-либо научные исследования, можно даже не упоминать.
Коллегия не анализирует существующую российскую судебную практику по вопросу стандарта доказывания (хотя некоторые данные на этот счет имеются), не говоря уже об иностранном опыте. Не приводятся и содержательные аргументы в пользу того, почему в банкротстве к требованиям рядовых кредиторов должен применяться повышенный по отношению к обычному стандарт доказывания («ясные и убедительные доказательства»), а к требованиям неминоритарных акционеров — еще более повышенный («вне разумных сомнений»).
Как справедливо заметил С.А. Халатов, «провозглашаемое требование представления «ясных и убедительных доказательств» без раскрытия авторского понимания судьями Верховного Суда этого стандарта, тем более в сравнении с не названным в настоящем деле стандартом «баланс вероятностей», остается неясным»39.
Предложенная Коллегией теория не находит поддержки в международной правовой практике. В Англии, на родине стандартов доказывания, во всех гражданских спорах применяется один и тот же симметричный стандарт. В США, откуда была позаимствована идея иерархии стандартов доказывания и связанная с этим терминология, в обеих упомянутых Коллегией ситуациях, по-видимому, будет применяться общегражданский стандарт «перевес доказательств». Как
39Халатов С.А. Что сказала СКЭС о стандарте доказывания, или Much Ado About Nothing // Закон.ру. 2018. 7 июня. URL: https://zakon.ru/blog/2018/6/7/chto_skazala_skes_o_standarte_dokazyvaniya_ili_ much_ado_about_nothing.
152

Свободная трибуна
уже обсуждалось выше, стандарт «вне разумных сомнений» в США, как и в Англии, применяется лишь в уголовном праве. Промежуточный стандарт («ясные и убедительные доказательства») в гражданских спорах применяется тогда, когда последствия ошибки в пользу одной из сторон более тяжелые, чем в пользу другой (квазиуголовное наказание). Если же в споре между сторонами просто определенная сумма денег, то, как правило, применяется общегражданский стандарт.
Что касается формулировки предложенного Коллегией правила, то Коллегия явно смешивает заявленный ею повышенный стандарт доказывания требований аффилированных кредиторов (процессуальное правило) и субординацию требования аффилированных кредиторов (материально-правовую норму). Впрочем, возможно, именно желание ввести в банкротное право через черный ход мате- риально-правовую норму о субординации и стало реальной причиной для установления невероятно жесткого стандарта доказывания в отношении требований аффилированных кредиторов. Если так, то честнее все же было сформулировать правило именно как норму о субординации.
Неразбериха усугубляется тем, что во всей предшествующей практике российские суды смешивают повышенный стандарт доказывания (критерий установления фактов на основании представленных доказательств) с возложением на сторону бремени доказывания (правило представления доказательств), а также с предъявлением к стороне спора требования о раскрытии информации (способ получения доказательств).
В итоге процитированный выше пассаж из определения ВС выглядит, скорее, как подвернувшийся под руку предлог для обоснования желаемого исхода дела, чем как серьезная мотивировка решения.
***
Возможно, упорное стремление российских судов деформировать симметричный стандарт доказывания в банкротном процессе связано с ошибочным пониманием общегражданского стандарта «перевес доказательств» как требования разрешать спор в зависимости от соотношения количества представленных сторонами доказательств (например, представлен договор займа), а не от их реальной убедительности.
На самом деле применения повышенного стандарта доказывания при правильном понимании этого термина вовсе не требуется для принятия верных решений по подобным делам. Здравый смысл подсказывает, что следует разрешать спор в пользу кредитора, пусть даже аффилированного, если он, вероятнее всего, прав. То есть если он скорее прав, чем не прав, — а это обычный общегражданский стандарт доказывания. И разумеется, этот стандарт не обязательно будет преодолен при предъявлении кредитором одного лишь договора займа или расписки. А вот при корректном применении повышенного стандарта многие из тех дел, где кредитор, вероятнее всего, прав, придется разрешать против него.
153

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
Вряд ли это тот результат, к которому следует стремиться правопорядку. Если даже правопорядок желает решить проблемы рядовых кредиторов за счет аффилированных лиц банкрота (обоснованность этого шага мы здесь не обсуждаем), то это нужно делать путем введения соответствующей материально-правовой нормы, а не за счет махинаций с доказыванием, таких как установление нереально высокого стандарта доказывания фактов, относящихся к требованиям аффилированных кредиторов.
Более того, представляется, что применение «уголовного» стандарта («за пределами разумных сомнений») в гражданско-правовых делах о банкротстве как минимум проблематично с точки зрения конституционных прав кредитора-ак- ционера. Вдумайтесь: малейшие сомнения в реальности долга влекут отказ от включения требования в реестр. А ведь в отсутствие действенной системы раскрытия доказательств такие сомнения почти всегда останутся. Это значит, что в подавляющем большинстве случаев, когда кредитор объективно прав, ему будет отказано под предлогом недоказанности его требований по применимому стандарту доказывания.
***
Следует упомянуть еще одно обстоятельство, которое может объяснить попытку Коллегии манипулировать стандартом доказывания в банкротстве.
Сегодня весьма серьезной проблемой банкротной судебной практики (российской) являются фальшивые требования со стороны аффилированных лиц должника. В связи с этим понятны мотивы судов, которые пытаются отбиться от таких требований любыми подвернувшимися под руку средствами, включая установление непреодолимых стандартов доказывания для этих лиц.
Цель, конечно, благородная, но вряд ли ее стоит достигать посредством неверного установления фактов дела. А ведь именно к такому результату (отказ в исках аффилированным кредиторам, даже когда они объективно правы) неизбежно ведет асимметричный стандарт доказывания.
На самом деле для решения проблемы фиктивных займов нет никакой необходимости в искажении гражданского стандарта доказывания. Как показывает опыт английских судов, в подобных ситуациях суду достаточно лишь корректно учитывать априорные вероятности доказываемых фактов (в данном случае возможность жульничества со стороны аффилированного кредитора). По этому поводу А.Г. Карапетов заметил: «Вполне возможно, что на самом деле не нужно здесь повышать стандарт доказывания, а следует просто адекватно учитывать априорную вероятность при применении обычного гражданского стандарта доказывания»40.
40Карапетов А.Г. И вновь о стандартах доказывания… // Закон.ру. 2018. 25 июня. URL: https://zakon.ru/ blog/2018/6/25/i_vnov_o_standartah_dokazyvaniya.
154

Свободная трибуна
***
В заключение приведу цитату из работы американского правоведа С. Париха, посвященной стандартам доказывания в банкротстве: «Важность понимания и применения правильного стандарта доказывания очевидна из истории этих стандартов и их использования в американской судебной практике. Установление правильного стандарта доказывания отнюдь не является «пустым семантическим упражнением». К сожалению, мотивы и политико-правовые основания применения данных механизмов оценки остаются, по-видимому, тайной для многих судов, включая суды по банкротству.
Банкротный процесс обычно сводится к гражданско-правовым спорам, в которых на кону не стоит ничего, кроме денег. Как отмечалось выше, в таких спорах наибольшую пользу приносит применение стандарта «перевес доказательств», что согласуется с относительно небольшим значением, которое общество придает чисто денежным спорам. Однако банкротные суды не воспринимаются как типичные гражданские суды. Многие рассматривают их как «суды справедливости», и на основании этого представления многие банкротные судьи выступают за применение стандарта «ясные и убедительные доказательства» в обычных гражданских спорах. Подобные действия могут исказить общепринятые схемы распределения рисков, содержащиеся в стандартах доказывания, последствием чего часто является несправедливый исход дела»41.
Это сказано об американском праве, но, думается, во многом актуально и для нас.
***
Серьезный разговор о стандартах доказывания, в том числе на уровне высшего суда, давно назрел. В его ходе стоит избегать небрежного и приблизительного употребления устоявшихся правовых терминов и концепций. В частности, не следует смешивать стандарт доказывания с распределением бремени доказывания или с процессуальным требованием раскрытия доказательств одной из сторон. Также не нужно путать, например, более строгий стандарт доказывания факта наличия займа и материально-правовую норму о субординации данного займа.
Увы, то, что мы видим в рассмотренном нами деле, вряд ли можно назвать серьезным разговором. Остается утешаться лишь тем, что само упоминание Верховным Судом термина стандарт доказывания может инициировать более содержательную дискуссию об этом понятии...
***
Добавлю, что в сентябре 2018 г. (когда эта статья уже готовилась к печати) Коллегия приняла еще одно определение на тему стандартов доказывания в бан-
41 |
Parikh S.D. Op. cit. P. 2–3 (внутренние ссылки опущены). |
|
155

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
кротстве42. В нем, в частности, говорится следующее: «Критерии достаточности доказательств (стандарт доказывания), позволяющие признать требования обоснованными, устанавливаются судебной практикой. В делах о банкротстве к кредиторам, заявляющим свои требования, предъявляется, как правило, повышенный стандарт доказывания. В то же время предъявление высокого стандарта доказывания к конкурирующим кредиторам считается недопустимым и влекущим их неравенство ввиду их ограниченной возможности в деле о банкротстве доказать необоснованность требования заявляющегося кредитора.
При рассмотрении подобных споров конкурирующему кредитору достаточно заявить убедительные доводы и (или) представить доказательства, подтверждающие существенность сомнений в наличии долга. При этом заявляющемуся кредитору не должно составлять затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно он должен обладать всеми доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником».
Представляется, что это гораздо более взвешенная и грамотно сформулированная позиция, чем то, что мы видели в рассмотренном нами деле. Корректность подобного применения термина стандарт доказывания по-прежнему остается под вопросом. Но, во всяком случае, здесь ВС РФ уже не говорит о необходимости преодоления аффилированным кредитором нереально высокого порога «исключения у суда любых разумных сомнений в наличии и размере долга». Так что у таких кредиторов есть повод для оптимизма...
References
Budylin S.L. An Inner Conviction or Balance of Probabilities? Standards of Proof in Russia and Abroad [Vnutrennee ubezhdenie ili balans veroyatnostey? Standarty dokazyvaniya v Rossii i za rubezhom]. The Herald of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation [Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiiskoi Federatsii]. 2014. No. 3. P. 25–57; No. 4. P. 34–66.
Budylin S.L. Reason and Good Conscience. Obligations of a Director in the USA, Great Britain, and Russia [Razum i dobraya sovest’. Obyazannosti direktora v SShA, Velikobritanii, Rossii]. The Herald of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation [Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiiskoi Federatsii]. 2013. No. 2. P. 10–40.
Budylin S.L. X-Ray of Law. Discovery of Evidence in Russia and Abroad [Rentgenovskiy luch prava. Raskrytie dokazatelstv v Rossii i za rubezhom]. The Herald of the Supreme Arbitrazh Court
of the Russian Federation [Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiiskoi Federatsii]. 2014. No. 6. P. 56–97.
Budylin S.L. Standards of Proof: Interim Results [Standarty dokazyvaniya: promezhutochnye itogi]. Available at: https://zakon.ru/blog/2014/4/4/standarty_dokazyvaniya_promezhutochnye_itogi (Accessed 1 October 2018).
Budylin S.L. Subordination of Loans of Shareholders: Thus Spoke Zarathustra [Subordinatsiya zaimov aktsionerov: tak govoril Zaratustra]. Available at: https://zakon.ru/blog/2018/4/24/subordinaciya_ zajmov_akcionerov_tak_govoril_zaratustra (Accessed 1 October 2018).
42Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 20.09.2018 № 305-ЭС18-6622 по делу № А40-177314/2016.
156

Свободная трибуна
Gelter M., Roth J. Subordination of Shareholder Loans from a Legal and Economic Perspective. CESifo DICE Report 2/2007. Available at: https://www.cesifo-group.de/DocDL/dicereport207-rr1.pdf (Accessed 1 October 2018).
Karapetov A.G. On Standards of Proof Again... [I vnov’ o standartakh dokazyvaniya]. Available at: https://zakon.ru/blog/2018/6/25/i_vnov_o_standartah_dokazyvaniya (Accessed 1 October 2018).
Khalatov S.A. What the Judicial Board on Economic Disputes Said About Standard of Proof, or Much Ado About Nothing [Chto skazala SKES o standarte dokazyvaniya, ili Much Ado About Nothing]. Available at: https://zakon.ru/blog/2018/6/7/chto_skazala_skes_o_standarte_dokazyvaniya_ili_ much_ado_about_nothing (Accessed 1 October 2018).
Murray J.C. Equitable Subordination in Bankruptcy: An Analysis of In re Yellowstone. 2010. Available at: https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/rpte_ereport/2010/february/rp_murray. authcheckdam.pdf (Accessed 1 October 2018).
Parikh S.D. The Improper Application of the Clear-and-Convincing Standard of Proof: Are Bankruptcy Courts Distorting Accepted Risk Allocation Schemes? University of Cincinnati Law Review. 2009. Vol. 78. P. 271. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1427360 (Accessed 1 October 2018).
Randow P., von, Ehret D. New German Legislation on the Mandatory Subordination of Shareholder Loans. Latham and Watkins Client Alert. 26 September 2008. No. 745. Available at: https:// www.lw.com/thoughtLeadership/new-german-law-mandatory-subordination-shareholder-loans (Accessed 1 October 2018).
Smola A.A. Standards, Evidence and the Supreme Court [Standarty, dokazyvanie i Verkhovnyi Sud]. The Herald of Economic Justice of the Russian Federation [Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossiiskoi Federatsii]. 2018. No. 8. P. 129–165.
Tschauner H. Shareholder Loans under German Insolvency Law. Financier Worldwide Magazine. March 2014. Available at: https://www.financierworldwide.com/shareholder-loans-under-german- insolvency-law/ (Accessed 1 October 2018).
Information about the author
Sergey Budylin — Senior Lawyer at Roche & Duffay (115054 Russia, Moscow, Dubininskaya St., 57, bld. 1A, office 1-204, Roche & Duffay; e-mail: sergey.budylin@gmail.com).
157
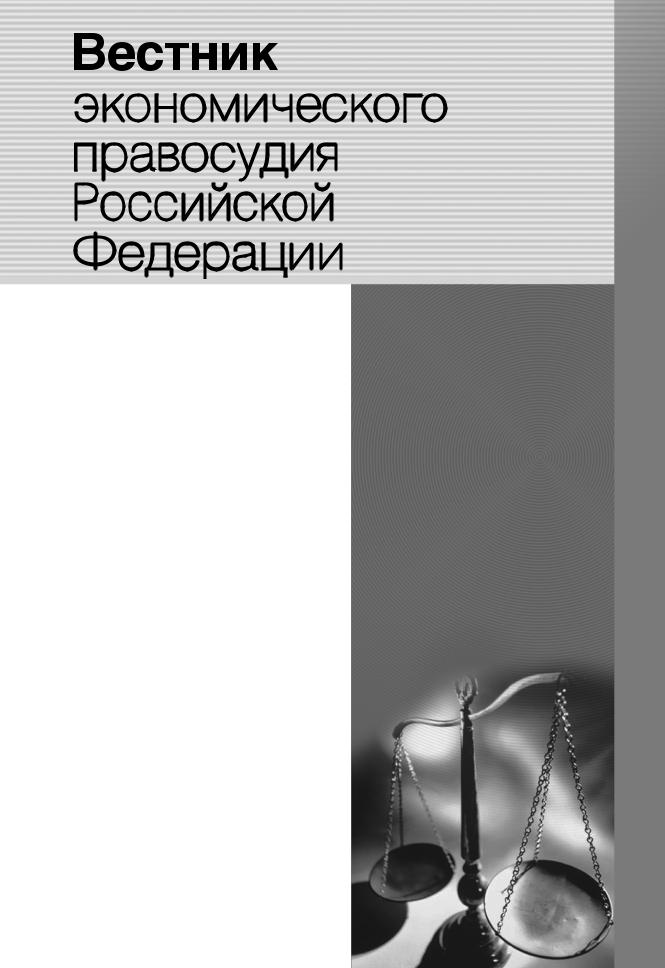
ПО Д П И С К А
на I п о л у г о д и е 2 0 1 9 г о д а
Журнал распространяется по подписке и в розницу.
Подписку на журнал можно оформить
в любом отделении Почты России:
•подписной индекс 70040
вОбъединенном каталоге «Пресса России»,
вкаталоге Агентства «Роспечать»;
•подписной индекс П4314 в каталоге российской прессы «Почта России»
через редакцию:
стоимость одного номера — 900 руб.;
стоимость подписки
на I полугодие 2019 г. — 4800 руб.
Более подробную информацию об условиях подписки можно получить в редакции
по тел.: (495) 927-01-62
Главный редактор: А.Г. Карапетов
(karapetov@igzakon.ru)
Распространение: Ринат Якупов (rinat@igzakon.ru)
post@igzakon.ru
www.igzakon.ru
Наш адрес:
121165, г. Москва, а/я 38
Тел.: (495) 927-01-62
Реклама
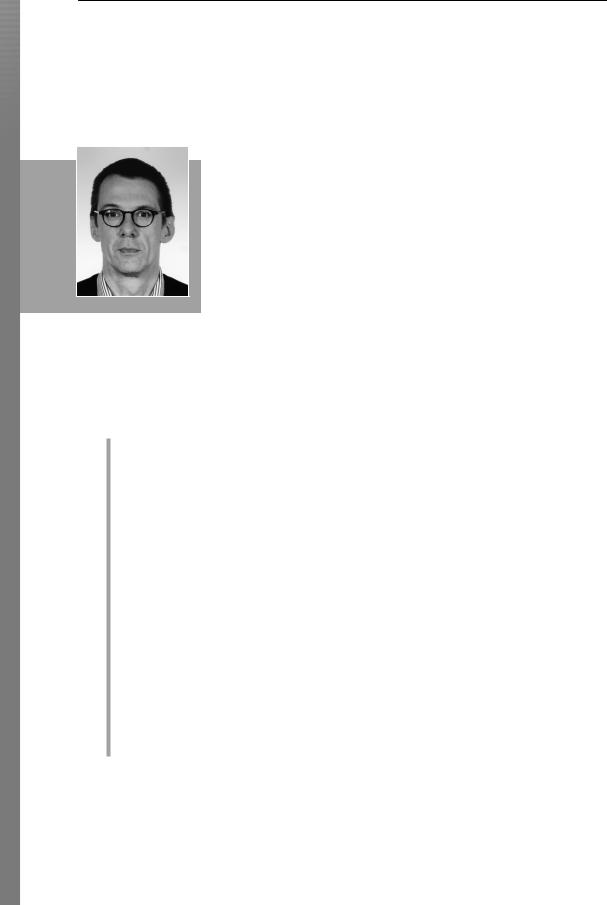
Свободная трибуна
Ханс-Йоахим Шрамм
доктор юридических наук, Университет Висмара
Юридический анализ дизельного скандала в Германии и США — поучительная пьеса на тему защиты прав потребителей
В статье описываются предыстория и юридические последствия так называемого дизельного скандала в Германии и других странах, прежде всего
вСША. Исследуется вопрос о том, почему в США автомобильный концерн «Фольксваген» уже через короткий промежуток времени вынужден был выплатить покупателям сравнительно высокие суммы в виде возмещения убытков. В первой части статьи подробно описываются механизмы публичного права и организационные меры, при помощи которых государство добивается соблюдения нормативных требований, направленных на сокращение выбросов вредных веществ автомобилями. Эти механизмы
вконечном итоге оказались недостаточными, что привело к тому, что автомобильный концерн «Фольксваген» на протяжении многих лет при помощи специального программного обеспечения, регулирующего выбросы двигателя, вводил в заблуждение государственные контролирующие ведомства. Это, в свою очередь, привело к тому, что многие покупатели, которые считали, что купили экологичные транспортные средства, не соблюдали нормы выбросов вредных веществ. Во второй части статьи рассматриваются права покупателей по отношению к продавцу и производителю, а также возможность реализации этих прав в судебном порядке. При этом автор рассматривает отдельные аспекты материального требования и проблему так называемых групповых исков class action.
Ключевые слова: дизельный скандал, нормы выброса вредных веществ, Федеральное автотранспортное ведомство, недостаток товара, права покупателя, групповой иск
159

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
Hans-Joachim Schramm
Doctor of Laws
Legal Analysis of the Diesel Scandal in Germany
and the USA — an Educational Play on Consumer Protection
The article describes the background and the legal consequences of the so-called Diesel Scandal in Germany and other countries, primarily the US, and explores the question, why it was possible in the USA to make Volkswagen pay comparably high compensation payments to buyers after a short period of time. On the one hand, mechanisms of public law and organizational measures are described in more detail, with the help of which the state enforces the normative requirements for reducing harmful emissions from motor vehicles. However, the result was evidently ineffective, so that Volkswagen was able to succeed, over the course of many years, in deceiving the supervisory authorities with the help of special computer software regulating gasoline emissions of the engine. This, in turn, has led many buyers to buy supposedly green vehicles that do not meet emissions standards. In the second part, the article deals with the question of which claims buyers may put forward to the seller and the manufacturer and how these claims may be enforced in court. The author deals with some specific aspects of the material claim on the one hand, and with the problem of so-called class action suits on the other.
Keywords: diesel scandal, emission standards, federal motor transport authority, defect, buyer’s remedies, class action
1.Введение
Встатье рассматриваются причины самого большого скандала в автомобильной промышленности в Германии, связанные с ним правовые проблемы, а также выводы, которые должны быть сделаны по его итогам. При этом освещаются как публично-правовые, так и гражданско-правовые аспекты произошедшего, чтобы на одном примере показать комплексное взаимодействие механизмов регулирования в области налогового, природоохранного права, а также правовых норм, регулирующих защиту прав потребителей. Целью статьи является лишь обзор подлежащих решению вопросов, исчерпывающее же обсуждение всех деталей выйдет за эти рамки.
2.Фактические обстоятельства
После 18.09.2015, когда ведомство США по защите окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA) сообщило о начале расследования против акционерного общества «Фольксваген» по факту нарушения американских стандартов в области защиты окружающей среды на основании Clean Air Act1, стали
1О причинах см.: Reitze A.W. The Volkswagen Air Pollution Emissions Litigation // Environmental Law Reporter. 2016. Vol. 46. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2805186. Нарушение допустимых пределов обнаружил Международный совет по экологически чистым перевозкам (ICCT).
160

Свободная трибуна
известны обстоятельства, которые поставили огромное количество правовых вопросов.
«Фольксваген», являясь одним из крупнейших автопроизводителей в мире и одной из самых известных компаний Германии, начиная с 2008 г. устанавливал программное обеспечение для дизельных двигателей, которое было настроено на то, чтобы распознавать, эксплуатируется ли автомобиль в лабораторных условиях. В этом случае программное обеспечение включало измененный режим подачи топлива, который снижал уровень выбросов вредных веществ. Только при помощи этих манипуляций становилось возможным соблюдение необходимых стандартов
вобласти защиты окружающей среды, а также получение для определенных моделей автомобилей соответствующего разрешения на эксплуатацию в США и ЕС, так как соблюдение стандартов как в США, так и в Германии проверялось только
врамках тестирования в лабораториях. При этом «Фольксваген» в своей рекламе в Европе делал акцент на соблюдении стандартов защиты окружающей среды в соответствии с действующими европейскими нормами.
При эксплуатации автомобилей в рамках дорожного движения в обычных условиях предельно допустимые значения были превышены в одних случаях в 5–20 раз, в других случаях — в 35. По всему миру такое программное обеспечение «Фольксвагена» было установлено на 11 млн дизельных автомобилей, из них 2,5 млн в Германии и 400 тыс. в США. Согласно имеющейся информации другие автопроизводители также использовали программное обеспечение для занижения количества выбросов вредных газов2.
С правовой точки зрения этот случай послужил поводом для большого количества вопросов относительно потребителей, которые считают себя обманутыми, и относительно защиты всего общества, чьи интересы были ущемлены посредством загрязнения воздуха. Кроме того, в этом казусе любопытно то, что он развивался одновременно в разных государствах, и в связи с этим возможно сравнить различные механизмы, используемые в этих странах для решения данной проблемы3. Например, для сравнения можно использовать немецкое и американское право. В то время как в Германии сейчас на рассмотрении находятся тысячи судебных исков, по которым суды низших инстанций приходят частично к разным выводам, в США стороны достигли в суде мирового соглашения, согласно которому «Фольксваген» должен заплатить пострадавшим потребителям в общей сложности 25 млрд долл. США4. Кроме того, должно быть исследовано, какие правовые инструменты в Германии и США привели к таким различным результатам.
2См.: Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии, отчет следственной комиссии «Фольксвагена». URL: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobili- taet/Strasse/bericht-untersuchungskommission-volkswagen.pdf?__blob=publicationFile.
3Отчеты отдельных стран относительно дизельного скандала см.: Journal of European Consumer and Market Law (EuCML). 2017. Nr. 1, 2.
4См.: Eger Th., Schäfer H.-B. Reflections on the Volkswagen Emissions Scandal. URL: https://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=3109538.
161

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
3. Отправная точка: противоречия между налоговой и природоохранной политикой
Для систематизации проблематики дизельного скандала необходимо осветить подоплеку политики развития промышленности и охраны окружающей среды. Отправной точкой является то обстоятельство, что в Германии, где с 1970-х гг. традиционно высокие цены на бензин, законодатель хотел поддержать транспортную отрасль посредством налоговых преференций. Используемое грузовыми автомобилями дизельное топливо облагается более низким налогом, чем используемый легковыми автомобилями бензин. Это побудило автопроизводителей к развитию дизельных двигателей для использования их в легковых автомобилях. В сочетании с более низким расходом это привело к тому, что в Германии порой до половины автомобилей, которые получали допуск к эксплуатации, работали на дизельном топливе5. Из этого возник интерес промышленности к продаже дизельных автомобилей на экспортных рынках, даже если там для дизельного топлива не предоставлялись налоговые льготы. То, что дизельные двигатели выбрасывают больше вредных веществ, чем бензиновые, не играло никакой роли.
Параллельно с этим вначале в Англии, а позже в США было введено законодательство о защите воздуха6. В Германии в 1974 г. был принят Закон «Об охране окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов», причем в настоящее время издание соответствующих нормативных актов находится в компетенции Европейского союза7. В связи с тем, что выбросы транспортных средств влекут за собой значительное загрязнение воздуха, и в США, и в ЕС они были ограничены предельно допустимыми значениями. Однако предельно допустимые значения для вредных выбросов в США значительно строже, чем в Европейском союзе8. Реализация соблюдения предельно допустимых значений достигается посредством того, что для продажи новых моделей транспортных средств установлена необходимость получения так называемого разрешения к эксплуатации. Такое разрешение новые модели могут получить, только если производитель обеспечит технически и сможет подтвердить документально, что транспортные средства соблюдают предписанные предельные значения выбросов вредных веществ9. Соблюдение допустимого объема выбросов контролируется компетентным ведомством. В США такой контроль находится в компетенции ведомства по охране окружающей среды, в Германии — в компетенции Феде-
5Статистику Федерального автотранспортного ведомства относительно допуска к эксплуатации новых автомобилей в 2017 г. см.: https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Neuzulassungen/Umwelt/n_um- welt_z.html.
6Clean Air Act 1956 (Великобритания), Clean Air Act 1963 (США).
7Вначале Директива 96/62 от 12.09.1996, затем Директива 2008/50 от 21.05.2008 о качестве воздуха и чистом воздухе в Европе.
8См.: Eger Th., Schäfer H.-B. Op. cit.
9Важными являются Директивы ЕС 2007/46 от 05.09.2007 (рамочная директива в отношении лицензирования моделей транспортных средств) и постановление ЕС 2007/715 о разрешении на эксплуатацию моделей транспортных средств относительно загрязнения окружающей среды (Euro 5 и Euro 6) от 20.06.2007. В постановлении 692/2008 были регламентированы детали процесса проверки.
162

Свободная трибуна
рального автотранспортного ведомства (Kraftfahrt-Bundesamt), которое осуществляет технический контроль за транспортными средствами10.
При этом изначально соблюдение предельных значений проверялось только в лабораторных условиях. Программное обеспечение, устанавливаемое «Фольксвагеном» начиная с 2008 г., определяло, проводится ли тестирование автомобиля в лабораторных условиях, и в этом случае изменяло настройки двигателя таким образом, чтобы снижался выброс вредных веществ. Во время нормальной эксплуатации автомобиля программное обеспечение отключалось, что вело к превышению предельно допустимых значений вредных выбросов. Использование таких устройств было прямо запрещено постановлением ЕС11. Примечательно, что согласно исследованиям федерального ведомства, в ведении которого находятся вопросы защиты окружающей среды, значительные подозрения существовали уже с 2006 г.12
Эти махинации были обнародованы в письме EPA в октябре 2015 г. Теперь необходимо выяснить, какие правовые последствия они влекут. Уголовно-правовые аспекты, хотя они наличествуют в данном деле, рассматриваться не будут13.
4. Недостаточная защита посредством публично-правовых механизмов
Отправным пунктом с фактической точки зрения является то обстоятельство, что продаваемые концерном «Фольксваген» автомобили, вопреки данным, предоставленным с целью получения разрешений на эксплуатацию моделей, не соблюдали допустимые пределы выбросов вредных веществ. Несмотря на это, «Фольксваген» все же получил разрешение на эксплуатацию моделей автомобилей, так как в заявке не говорилось о свойствах программного обеспечения. С позиции административного права это приводит к тому, что автомобили, имеющие такое программное обеспечение, эксплуатируются без необходимого разрешения. На этом основании компетентное ведомство вправе потребовать от производителя установления на уже эксплуатируемых автомобилях устройств, при помощи которых будет достигнуто соблюдение предусмотренных законом предельных значений14. «Фольксваген» обещал выполнить это требование в течение двух лет, в связи с чем
10См.: Eger Th., Schäfer H.-B. Op. cit.
11См.: аrt. 5 аbs. 1 VO 715/2007. Также об этом см.: Klinger R. Rechtsgutachten zu Verbraucheransprüchen infolge manipulierter Schadsto werte bei Personenkraftwagen. URL: https://www.vzbv.de/sites/default/files/ downloads/Rechtsgutachten-VW-manipulierte-Schadsto werte-KFZ-Oktober-2015.pdf; Eger Th., Schäfer H.-B. Op. cit.
12См.: Führ B., von. Der Dieselskandal und das Recht — Ein Lehrstück zum technischen Sicherheitsrecht // NVwZ. 2017. S. 267.
13В США были осуждены к лишению свободы два менеджера, которые принимали участие в разработке программного обеспечения. В Германии было возбуждено уголовное дело в отношении 37 человек, в том числе ответственного председателя правления. Пока никто осужден не был.
14См.: Fassbender K. Der Dieselskandal und der Gesundheitsschutz // NJW. 2017. S. 1999; Klinger R. Op. cit.
163

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
компетентное ведомство считает выполненными условия, предусмотренные положениями о дорожном движении15.
Относительно загрязнения воздуха имеются расчеты, согласно которым в Германии с момента введения предельных размеров превышение показателей выбросов вредных веществ привело к смерти до 1200 человек16. Однако в связи с тем, что в соответствующих национальных положениях, вопреки Директиве ЕС, отсутствуют санкционные механизмы, это не повлекло для производителей
вГермании никаких значимых последствий17. Так, немецкий Закон об административных правонарушениях предусматривает всего лишь денежный штраф
вотношении юридического лица в размере до 10 млн евро18. В США же возможно наложение административного штрафа в размере 25 тыс. евро за каждый проданный автомобиль19.
Поэтому Европейская комиссия в декабре 2016 г. начала производство против Германии о нарушении договора ЕС в связи с отсутствием достаточных санкционных механизмов. Тем не менее был изменен порядок проверки показателей вредных выбросов, который теперь также предусматривает проверку в реальных условиях при эксплуатации автомобиля в рамках дорожного движения.
5. Гражданско-правовой уровень: индивидуальные иски потребителей
5.1.Основы
Всвязи с тем, что покупатели приобрели автомобили на основании договора, в первую очередь необходимо проверить договорные требования к продавцу. При этом здесь будут оценены только требования к первому продавцу-предпринимателю. Центральным основанием предъявления требования в Германском гражданском уложении (ГГУ) является § 437, который был сформулирован на основе ст. 3 Директивы ЕС 1999/44. Согласно этой норме покупатель вправе вначале потребовать только устранения недостатков, т.е. ремонта или замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору, прежде чем он сможет снизить цену
15См.: Fassbender K. Op. cit. S. 1999. Поведение ведомства в этом отношении сомнительно, так как неизвестно, можно ли добиться соблюдения стандартов при помощи обновления программного обеспечения. Кроме того, переходный срок определен очень щедро.
16Однако такая статистическая взаимосвязь согласно действующему праву является недостаточной для предъявления иска о возмещении ущерба, поскольку не может быть доказана индивидуальная причинная связь между действием и ущербом, возникающим только на основании взаимодействия различных факторов. См. аргументацию Федерального верховного суда ФРГ в так называемом решении об ущербе в лесном хозяйстве: BGH NJW 1988, 478.
17См.: Führ B., von. Op. cit. S. 271.
18См.: § 30 Закона об административных правонарушениях (OWiG).
19См.: 42 U.S.C. Chapter 85. Sec. 7524.
164
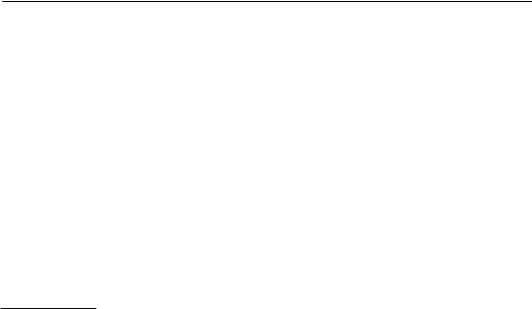
Свободная трибуна
или расторгнуть договор20. Помимо договорных требований, к стороне договора в немецком праве могут быть предъявлены еще и деликтные требования21. Они представляют интерес для покупателя в связи с более длинным сроком исковой давности22. Напротив, требования на основании оспаривания вследствие заблуждения покупателя относительно качества товара изначально исключаются, поскольку права покупателя исходя из положений, регулирующих последствия передачи товара ненадлежащего качества, имеют приоритет как более специальные23.
Договорные требования покупателя к изготовителю не рассматриваются, потому что между покупателем и производителем нет никаких договорных отношений. Только продавец может предъявить к производителю регрессные требования. Однако следует более подробно рассмотреть требования покупателя к изготовителю на основании деликта. Требования покупателя к изготовителю на основании его ответственности за некачественный товар исключены, поскольку Закон об ответственности за недоброкачественную продукцию, как и положенная в его основу Директива ЕС, предусматривают только возмещение ущерба, причиненного другим вещам, а не предмету договора купли-продажи24.
20Похожие положения есть в украинском (ст. 678, 708 ГК Украины) и российском праве (ст. 475, 503 ГК РФ). Согласно этим нормам покупатель вправе сразу устранить недостаток за собственный счет
ипотребовать уменьшения покупной цены. В этом отношении немецкое право является немногим более благосклонным к продавцу. С немецким правом можно сравнить положения о договоре поставки между предпринимателями в российском праве согласно ст. 506 ГК РФ. При наличии такого договора продавец может блокировать права покупателя на уменьшение покупной цены и возмещение своих расходов на устранение недостатков товара посредством замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору (ст. 518 ГК РФ).
21Вопрос конкуренции между деликтными и договорными требованиями в немецком праве решается таким образом, что оба основания предъявления требования могут применяться независимо друг от друга. Однако немецкое деликтное право допускает возмещение чистого имущественного ущерба только при наличии умысла на основании ст. 823 ГГУ в сочетании с защитным законом или на основании ст. 826 ГГУ (см.: Gerven W., van. Cases, Materials and Text on Tort Law. Oxford, 2000. S. 32 .). При продаже товара ненадлежащего качества такие основания предъявления требований рассматриваются очень редко.
22Право требования в связи с недостатком купленного товара истекает согласно § 438 ГГУ через два года после передачи товара, в соответствии со ст. 5 Директивы ЕС 1999/44 деликтные требования истекают через три года после того, как кредитор узнал о лежащих в основе требования обстоятельствах и о должнике (§ 195, 199 ГГУ). На наш взгляд, и в российском, и в украинском праве также выбирают между различными сроками давности. В то время как общий срок исковой давности составляет три года, для требований в связи с покупкой некачественного товара действует более короткий двухлетний срок (ст. 257, 261, п. 2 ст. 680 ГК Украины, ст. 196, 200, п. 2 ст. 477 ГК РФ). Вопрос о том, применимы ли, помимо этого, нормы об ответственности изготовителя за недоброкачественную продукцию, которая в России регулируется ст. 1095, 1097 ГК РФ, в данной статье не рассматривается. В немецком
иевропейском праве деликтная ответственность за некачественный товар наступает только при наличии ущерба, причиненного другому объекту, но не купленной вещи (предл. 2 ч. 2 § 1 Закона об ответственности за недоброкачественную продукцию).
23Решающим здесь опять же является то, что сроки предъявления требований покупателя истекают через два года после передачи товара (§ 435 ГГУ). Это правило имеет приоритет перед общим трехлетним сроком давности, который применяется при оспаривании вследствие заблуждения (BGH NJW 1988. S. 2597).
24См.: § 1 Закон об ответственности за недоброкачественную продукцию (Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte); ст. 9 Директивы ЕС 85/347 от 25.07.1985. Соответственно п. 2 ст. 1187 ГК Украины, ст. 1095 ГК РФ.
165

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
5.2. Обман покупателя
5.2.1. Обман, совершенный продавцом
Как правило, покупатели автомобилей с нелегальным программным обеспечением ссылаются на то, что их обманули. Проблема здесь заключается в том, что продавец защищается при помощи аргумента, что он ничего не знал и не мог знать об установке такого программного обеспечения. Ответственность продавца в таком случае может быть принята во внимание, только если ему может быть вменен обман, совершенный производителем. В этой ситуации применяется § 123 ГГУ — немецкое право здесь следует решению, которое похожим образом регулируется ГК РФ и согласно которому важным является то, знал или как минимум мог ли знать партнер по договору об обмане, совершенном третьим лицом25. По этому вопросу суды до настоящего времени в большинстве случаев решали, что продавцу нельзя вменить в вину обман со стороны изготовителя, так как речь идет о самостоятельных юридических лицах26. По превалирующему мнению, производитель не является помощником продавца в его отношениях с покупателем27. Суды принимали иное решение в отдельных случаях, только если продавец являлся дочерней компанией производителя, имевшего возможность осуществлять определяющее влияние на решения этой дочерней компании28.
5.2.2. Обман, совершенный изготовителем
Обманное действие изготовителя, возможно, заключалось в содержащемся в рекламном проспекте заявлении о том, что автомобили соблюдают необходимые показатели выбросов вредных веществ, хотя показатели соблюдались только в рамках тестирования, а не в нормальных условиях дорожного движения. То, что такое действие, противоречащее прямому запрету европейского права, представляет собой обман покупателя, в значительной мере бесспорно. Спорным является лишь вменение, так как до сих пор обман признали только инженеры, устанавливавшие программное обеспечение. Менеджеры «Фольксвагена», напротив, ссылаются на то, что они ничего не знали об этом. Независимо от того, является ли их возражение убедительным, его недостаточно для освобождения менеджеров от ответственности, поскольку они были обязаны организовать внутренние процессы внутри компании таким образом, чтобы исключить подобные нарушения действующего права29. По отношению к клиентам АО «Фольксваген», таким образом, менеджеры несут ответственность на основании § 823 ч. 2 ГГУ.
25См.: п. 2 ст. 179 ГК РФ, ст. 230 ГК Украины.
26См.: решение Земельного суда Оснабрюка (LG Osnabrück) от 28.06.2017 — 1 O 29/17.
27См.: решение Высшего земельного суда Кобленца (OLG Koblenz). NJW-RR. 2018. S. 54. Применяемая норма в немецком праве — ст. 278 ГГУ, которой соответствует ст. 403 ГК РФ.
28См.: решение Земельного суда Мюнхена (LG München I) от 17.05.2016 — 23 O 23033/15.
29См.: решения Земельного суда Оснабрюка от 28.06.2017 — 1 O 29/17; Земельного суда Дюссельдорфа (LG Düsseldorf) от 09.02.2018 — 7 O 212/16. Однако есть суды, которые решили этот вопрос по-другому.
166
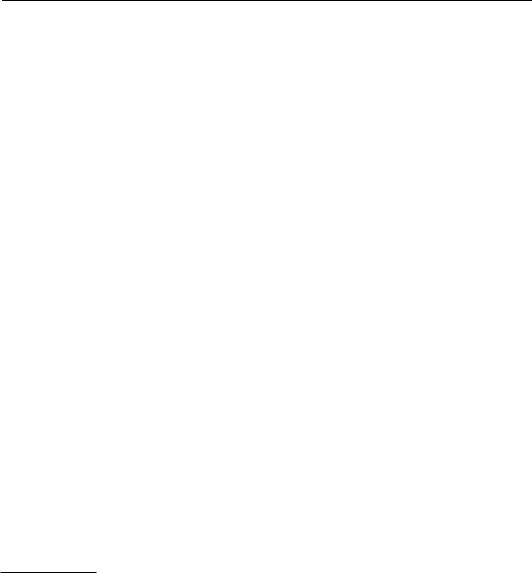
Свободная трибуна
Ответственность «Фольксвагена» за действия менеджеров, кроме того, вытекает из ст. 31 ГГУ30.
5.3. Недостаток вещи
Предпосылкой требования на основании договора купли-продажи является передача вещи, имеющей недостаток. Соответствующее положение ст. 434 ГГУ, которое базируется на положении ст. 2 Директивы ЕС 1999/44, ориентируется при этом на договоренность между сторонами либо на то, что покупатель вправе был ожидать31. Большинство судов в данном случае устанавливали наличие недостатка вещи, указав, что автомобили, вопреки сведениям изготовителя, могли соблюдать показатели выбросов вредных веществ только при помощи противоправных устройств32. Аргумент, что автомобили могут и далее эксплуатироваться в связи с тем, что Федеральное автотранспортное ведомство не отозвало разрешение на эксплуатацию модели, считается неубедительным, так как этот статус может сохраниться только при условии обновления программного обеспечения.
5.4. Права покупателя по отношению к продавцу
5.4.1.Договорные требования
Всоответствии с уже названной ст. 475 ГГУ покупатель некачественной вещи, как и в российском и украинском праве, в принципе может по своему выбору потребовать устранения недостатков в форме ремонта или передачи свободной от недостатков вещи, а также, после предоставления продавцу возможности устранить недостатки, уменьшить покупную цену или отказаться от договора.
Вотличие от российского и украинского права немецкий покупатель не вправе напрямую поручать третьему лицу производство ремонта за счет продавца33. Интересно, что согласно немецкому и европейскому праву потребитель в случае
30В немецком праве это ответственность юридического лица за действия своих органов, которой соответствуют ч. 1 ст. 53 ГК РФ и ст. 92 ГК Украины. В немецком праве эта норма действует также и в случаях деликтной ответственности членов органов юридического лица. Согласно преобладающему в Германии пониманию эта норма является более специальной по отношению к положениям об ответственности работодателя за его работников на основании § 276 ГГУ (соответствует ст. 402 ГК РФ) и § 831 ГГУ (соответствует ст. 1068 ГК РФ). Это соотношение общих и специальных норм имеет в немецком праве значение ввиду того, что ответственность работодателя за действия его работников может быть ограничена в договоре, а в случаях, предусмотренных § 831 ГГУ, — исключена. Исключение либо ограничение ответственности юридического лица за действия его органов не допускается.
31Статья 2 Директивы ЕС: «Обладает качеством, общепринятым для вещей такого сорта, и покупатель может ожидать его наличия». Формулировки в украинском и российском праве немного отличаются от этого определения (ст. 469 ГК РФ, ст. 673 ГК Украины).
32См.: Ring G. Abgas-Manipulationssoftware und Mängelrechte der Käufer // NJW. 2016. S. 3121–3126.
33См.: п. 1 ст. 475 ГК РФ, ст. 678 ГК Украины.
167

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
отказа от договора не обязан возмещать стоимость извлеченных выгод34. Кроме того, могут быть рассмотрены требования о возмещении ущерба, которые, однако, могут признаваться обоснованными только в том случае, если продавец знал о манипуляциях или ему может быть вменено знание изготовителя. Как правило, этого не происходит.
Вотличие от российского и украинского права, которые следуют Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, по немецкому праву покупатель обязан вначале назначить продавцу разумный срок для последующего исполнения, прежде чем он будет вправе отказаться от договора или уменьшить покупную цену35. Общим для всех правовых систем является то, что отказ от договора исключается, если недостаток вещи несуществен36. В данном случае встает вопрос: обязан ли покупатель соглашаться на установку нового программного обеспечения в связи с тем, что передача нового автомобиля по сравнению с установкой нового программного обеспечения является непропорционально дорогой и в связи с этим неприемлемой для продавца?37 Относительно этого в последнее время было вынесено несколько решений, в которых суды исходят из того, что ремонт автомобиля посредством установки нового программного обеспечения в принципе является приемлемым для покупателя38. Последний должен доказать, что после установки дополнительного программного обеспечения недостаток не был устранен полностью или что в результате этого появился побочный эффект (например, увеличился расход топлива). Также и при уменьшении покупной цены покупатель должен доказать, что цена на рынке на автомобили, затронутые дизельным скандалом, снизилась. В отличие от автомобилей, попавших в ДТП, в данном случае не действует паушальное уменьшение цены39.
Вслучае, когда покупатель согласился на установку нового программного обеспечения, необходимо решить, в каком месте она должна быть произведена. Единого мнения по этому поводу нет, но чаще всего от продавца требуется произвести работы по местонахождению вещи40, покупатель не обязан доставлять свой автомобиль продавцу.
34Ранее ч. 5 § 474 ГГУ, сейчас ч. 3 § 475 ГГУ. Насколько можно увидеть, последствия отказа от договора в России и Украине регулируются по-разному (ст. 453 ГК РФ, ст. 653 ГК Украины).
35См.: Nr. 2 § 437 , § 323 ГГУ; в отношении покупки потребительских товаров: ст. 503 ГК РФ, ст. 708 ГК Украины.
36См.: ч. 5 § 323 ГГУ, п. 2 ст. 475 ГК РФ, п. 2 ст. 678 ГК Украины. Отличие заключается в том, что по российскому и украинскому праву покупатель обязан доказать, что недостаток является «существенным», в то время как по немецкому праву продавец должен доказать, что недостаток является «несущественным».
37См.: ч. 3 § 439 ГГУ.
38См.: решения Высшего земельного суда Кобленца. NJW. 2018. S. 376; Высшего земельного суда Дрездена (OLG Dresden). NZV. 2018. S. 296.
39См.: решение Высшего земельного суда Дрездена. NZV. 2018. S. 296.
40См.: Brors Ch. Die Bestimmung des Nacherfüllungsorts vor dem Hintergrund der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie // NJW. 2013. S. 3329.
168

Свободная трибуна
Что касается поставки нового автомобиля, то существует вопрос, вправе ли покупатель требовать новый автомобиль, если модельный ряд, к которому автомобиль относится, больше не производится. В этой ситуации большинство судов отклоняли последующее исполнение посредством передачи свободной от недостатков вещи, отметив, что в этом модельном ряду нет автомобилей, свободных от недостатков. Однако есть и решения, в которых суды признали за покупателем право требования на поставку автомобиля из нового модельного ряда с указанием на договорное соглашение поставки нового автомобиля41.
Также необходимо выяснить, исключается ли отказ от договора на том основании, что при нарушении показателей выбросов вредных веществ и связанного с этим обязательства по обновлению программного обеспечения речь идет о «незначительном» недостатке42. Те, кто отвечают на этот вопрос положительно, указывают на то, что связанные с обновлением программного обеспечения расходы являются небольшими и поэтому недостаток считается незначительным43. Большинство судов, однако, не придерживаются такого мнения, так как по состоянию на сегодняшний день неизвестно, приведет ли к желаемому результату установка улучшенного программного обеспечения44. Покупатель может расторгнуть договор и после установки нового программного обеспечения, если он докажет, что, несмотря на обновление, автомобиль все еще не соответствует договору купли-продажи или возникли косвенные убытки, например более высокий расход топлива45.
5.4.2. Деликтные требования
Деликтные требования к продавцу в значительной степени исключены, так как покупателю не удастся доказать, что продавец знал о манипуляциях и поэтому действовал виновно. Продавцу не может быть вменено знание изготовителя.
5.5. Права покупателя по отношению к изготовителю
5.5.1.Общее о деликтных требованиях по немецкому праву
Сточки зрения покупателя представляют интерес требования не только к продавцу, но и к изготовителю. В связи с тем, что между покупателем и изготовителем нет договорных отношений, здесь могут быть рассмотрены только деликтные требования. В немецком праве в сфере ответственности вне зависимости от наличия
41См.: Witt C.-H. Der Dieselskandal und seine kaufund deliktsrechtlichen Folgen // NJW. 2017. S. 3681.
42См.: ч. 5 § 323 ГГУ.
43См.: решение Высшего земельного суда Мюнхена. NJW-RR. 2017. S. 1238.
44См.: решение Высшего земельного суда Кёльна (OLG Köln). NJW-RR. 2018. S. 373.
45См. там же.
169

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
вины имеются три основания для предъявления требования46. Чистые экономические убытки возмещаются согласно § 826 ГГУ только при наличии умышленного, противоречащего добрым нравам действия. Простая вина ведет к обязанности по возмещению причиненного вреда при нарушении указанных в ч. 1 § 823 ГГУ правовых интересов или при нарушении защитного закона в смысле ч. 2 § 823 ГГУ. Часть 1 § 823 ГГУ здесь исключается, так как в случае с покупателем недоброкачественного автомобиля вред был причинен лишь его имуществу.
5.5.2. Умышленное, противоречащее добрым нравам причинение вреда согласно § 826 ГГУ
Условием ответственности согласно § 826 ГГУ является наличие умышленного, противоречащего добрым нравам действия изготовителя. Такое действие усматривается в установке нелегального программного обеспечения47. Также можно говорить о наличии убытков, если ориентироваться на то, что покупатель вследствие обмана приобрел не такой автомобиль, который он хотел48. С точки зрения доказательственного права, однако, для покупателя возникает проблема: он должен доказать причинную связь между обманом изготовителя и своим решением приобрести автомобиль. Некоторые суды ориентируются при этом на то, что в конкретном случае для покупателя показатели выбросов вредных веществ безразличны и что покупатель и без обмана приобрел бы автомобиль за ту же цену49. Другие суды, напротив, справедливо подчеркивают, что покупатели, зная положение вещей, не купили бы автомобиль без действительного разрешения на эксплуатацию50.
5.5.3. Деликтные требования согласно ч. 2 § 823 ГГУ вследствие нарушения защитного закона
Согласно ч. 2 § 823 ГГУ во внимание может быть принята деликтная ответственность вследствие виновного причинения экономических убытков, если виновное лицо нарушило защитный закон51. Проблему, о которой здесь идет речь, представляет вопрос о том, каждое ли нарушение какой-либо нормы ведет к граждан- ско-правовой ответственности или только нарушение определенных норм. Он интересен в плане нарушения положений о защите окружающей среды. Соглас-
46Описание систематики немецкого деликтного права на английском языке см.: Gerven W., van. Op. cit.
S.63 .
47См.: Öchsler J. Rückabwicklung des Kaufvertrags gegenüber Fahrzeugherstellern im Abgasskandal // NJW. 2017.
S.2865.
48См.: Witt C.-H. Op. cit. S. 3685; решение Земельного суда Хильдесхайма (LG Hildesheim). DAR. 2017. S. 83.
49См.: решение Земельного суда Брауншвейга (LG Braunschweig) от 26.05.2017 — 11 O 4093/16; Öchsler J. Op. cit.
50См.: решение Земельного суда Вупперталя (LG Wuppertal) от 16.01.2018 — 4 O 295/17.
51В российском и украинском праве соответствующее правило отсутствует. Вопрос правомерности действия приводится только в диспозиции нормы, предусматривающей исключение (п. 3 ст. 1064 ГК РФ, п. 4 ст. 1166 ГК Украины).
170
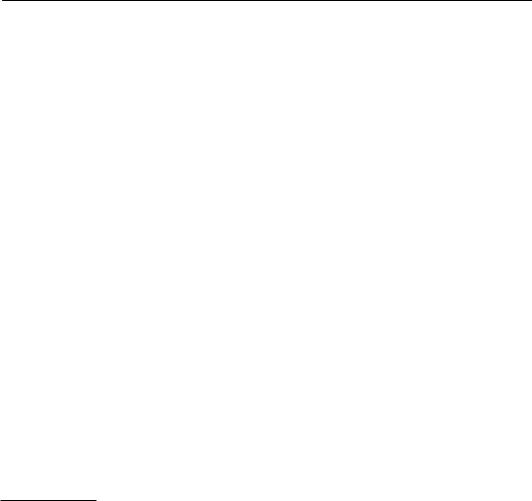
Свободная трибуна
но немецкому праву обязанность по возмещению убытков может быть обоснована нарушением таких положений, если они направлены на защиту другого лица.
Всвязи с этим здесь также встает вопрос52, имеют ли нарушенные нормы, направленные на защиту окружающей среды, своей целью защиту всего общества или также и защиту отдельных пострадавших лиц. Господствующее мнение исходит из того, что разрешение на эксплуатацию содержит заверение по отношению к индивидуальному покупателю53.
Врезультате это означает, что требования покупателя к изготовителю о возмещении убытков, возникших у покупателя в результате заключения договора, также являются обоснованными.
5.6.Основания для предъявления требования согласно праву США
С материально-правовой точки зрения иски против изготовителя в США в значительной степени опирались на два основания54 — на деликтное основание для предъявления требования55 и на положения о защите прав потребителей56. Центральным элементом деликтного основания было обвинение в мошенничестве, а иски на основе положений о защите прав потребителей исходили из признания наличия заверений изготовителя, данных в рекламном проспекте57. Насколько можно увидеть, в американском федеральном праве высказывания, содержащиеся в рекламном проспекте, проще квалифицировать в качестве заверения в правовом смысле, чем в немецком праве58. Дело до судебного решения в конечном счете не дошло, так как стороны заключили мировое соглашение. Тем не менее суд, утвердив мировое соглашение, дал понять, что он считает требования по существу обоснованными59.
52Также может быть рассмотрено нарушение нормы Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за мошенничество (§ 263 УК ФРГ).
53См.: Harke J.D. Herstellerhaftung im Abgas-Skandal // VuR. 2017. S. 83.
54См.: Order granting final approval of the consumer and dealer class action settlement from 25.10.2016. URL: https://www.cand.uscourts.gov/crb/vwmdl/settlement-documents-2-liter.
55См.: Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act («RICO»). 18 U.S.C. § 1962(c)–(d).
56См.: Magnusson-Moss Warranty Act. 15 U.S.C. § 2301 et seq.
57Насколько можно увидеть, по американскому праву рекламные проспекты признаются гарантией, вследствие чего любому гаранту в случае нарушения может быть предъявлен иск.
58«Соответствующая реклама сама по себе не дает основания для признания гарантии» (Weidenka W., in: Palandt. BGB. 76. Aufl. Munich, 2016 (§ 443 Rn. 6.)). Относительно ‘njuj казуса, однако, дискуссия ведется в том направлении, что имеется гарантия изготовителя по отношению к потребителю относительно тех данных, которые изготовитель указал в рамках заявки на получение разрешения на эксплуатацию определенной модели автомобилей, см.: Artz M., Harke J.D. EU-Übereinstimmungserklärung als Auskunftsund Garantievertrag // NJW. 2017. S. 3409.
59См.: Order granting final approval of the consumer and dealer class action settlement from 25.10.2016. S. 16. URL: https://www.cand.uscourts.gov/crb/vwmdl/settlement-documents-2-liter.
171

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
6. Процессуальный уровень
Главное различие американского и немецкого права заключается в процессе реализации требований. В то время как в Германии до сих пор чаще всего60 исходят из модели двустороннего процесса между обладателем нарушенного права и ответчиком, право США предлагает возможность группового иска. В данном случае применяется Rule 23 of Federal Rules of Civil Procedure61, согласно которому можно объединять схожие по содержанию иски в одном процессе и принимать одно решение с действием для всех заинтересованных лиц, если только они прямо не заявят, что не хотят принимать участие в процессе (opt-out). С практической точки зрения, однако, необходимо отметить, что суды в США с учетом связанного с этим потенциала для вымогательства стали в последние годы более сдержанны при применении сlass actions62.
В Европе, в том числе в Германии, в подавляющем большинстве выступают против групповых исков по американскому образцу63. Значительные возражения сводятся к тому, что такие процессы в первую очередь будут служить на пользу адвокатам, так как они требуют гонорар успеха в размере до 30–35% от требуемой в иске суммы, и пострадавшим по окончании процесса достаются лишь незначительные суммы в качестве возмещения убытков64. Проблематичным, кроме того, является объединение большого количества лиц в рамках одной стороны процесса, притом что для включения лица в процесс не требуется его сознательного решения.
Эти возражения привели к тому, что в Германии до сих пор существует только один вид процесса, при помощи которого могут приниматься решения по отдельным правовым вопросам с действием для других заинтересованных лиц (судопроизводство по модельным делам, Musterklage). Но он ограничен применением в сфере рынка ценных бумаг и, кроме того, непрактичен, так как решение суда не становится исполнительным документом65. Для общей защиты потребителей было также введено право признанных союзов на предъявление иска66. Вместе с тем они вправе обращаться в суд лишь с исками о запрете, но не могут требовать возмещения убытков. В некоторых европейских странах, например во Франции67,
60Исключением является ограничивающийся защитой вкладчиков Закон о судопроизводстве по модельным делам, возникающим из правоотношений, регулируемых законодательством о рынке ценных бумаг, от 16.08.2005 в ред. от 02.07.2016 (Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten).
61Дополнен посредством Class Action Fairness Act 28 U.S.C. sections 1332 (d), 1453, and 1711–1715.
62См.: Klono R.H. The decline of Class actions // Washington University Law Review. 2013. Vol. 90. No. 3. P. 729–838.
63См.: Woopen H. Kollektiver Rechtsschutz — Ziele und Wege // NJW. 2018. S. 133–138.
64Ibid.
65См.: Tilp A.W., Schiefer M. VW Dieselgate — die Notwendigkeit zur Einführung einer zivilrechtlichen Sammelklage // NZV. 2017. S. 14–19.
66См.: Закон об исках о запрете при нарушениях законодательства о правах потребителей и других нарушениях (Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechtsund anderen Verstößen) от 26.11.2001.
67См.: Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (Loi Hamon).
172

Свободная трибуна
Великобритании68, Нидерландах69 и Польше70, в настоящее время появились другие институты.
Несмотря на то, что Еврокомиссия еще в июне 2013 г. издала рекомендации относительно процессов о запрете и о возмещении ущерба71, в Германии только в 2017 г. был представлен для дискуссии первый проект закона об общем судопроизводстве по модельным правоустанавливающим делам72. Предложение Еврокомиссии отличается тем, что подобные процессы могут вестись только ассоциациями по защите прав потребителей, а лица становятся стороной процесса только при наличии заявленного согласия (opt-in). В отличие от немецкого права, Еврокомиссия предлагает создать возможность завершения подобных процессов путем заключения мирового соглашения с действием для всех участников. Недавно Еврокомиссия представила отчет о реализации в странах ЕС рекомендаций Комиссии от 2013 г.73 Безусловно, развитие в этой области продолжится.
7.Заключение
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
–одной из предпосылок дизельного скандала стал недостаточный контроль со стороны компетентных ведомств Германии за соблюдением стандартов в области защиты окружающей среды. Причины этого лежат в материальном праве, а именно
внедостаточности контрольных и санкционных механизмов. Кроме того, имеются проблемы в организации. В США есть центральное ведомство, отвечающее за охрану окружающей среды и соблюдение стандартов. В Европе контроль за транспортными средствами находится в компетенции национальных ведомств, частности в Германии — в компетенции Федерального автотранспортного ведомства74. Оно подчинено в организационном плане министерству транспорта и по отношению к национальной промышленности настроено скорее позитивно. Контроль
всвязи с этим осуществлялся в недостаточной мере;
68См.: Consumer Rights Act 2015.
69См.: Code of Civil Procedure Title 14 Class Action.
70См.: Act on group litigation 2010.
71См.: Комиссия ЕС, Общие принципы коллективных процессов о запрете и о возмещении ущерба в странах ЕС при нарушении прав, гарантируемых союзным правом (2013/396/EU), от 11.06.2013.
72Текст проекта закона о введении судопроизводства по модельным правоустанавливающим делам см.: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/DiskE_Musterfeststellungsklage. pdf?__blob=publicationFile&v=3.
73См.: EU-Commission Report (2018/40) of 25.01.2018 on the implementation of the Commission Recommendation of 11 June 2013 on common principles for injunctive and compensatory collective redress mechanisms in the Member States concerning violations of rights granted under Union law (2013/396/EU).
74См.: Eger Th., Schäfer H.-B. Op. cit.
173

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
–с материальной точки зрения и американское, и немецкое право предлагают достаточные инструменты для защиты потребителей. Имеется, как правило, право требования потребителя как к продавцу, так и к производителю автомобиля. При этом требования к продавцу о возмещении убытков исключены, поскольку невозможно доказать его вину;
–отличия наблюдаются прежде всего в вопросе о том, может ли покупатель требовать передачи ему нового автомобиля, свободного от недостатков, и в том случае, если конкретная модель больше не производится;
–ряд проблем связан с предъявлением требований. В отличие от США, в Германии нет процесса, предусматривающего возможность коллективного предъявления требований о возмещении убытков. На практике это привело к тому, что в судах рассматривается большое количество исков, по которым в некоторых случаях принимаются решения, отличающиеся друг от друга. Единообразие судебной практики будет установлено лишь Федеральным верховным судом в рамках рассмотрения конкретного дела;
–в настоящее время в ЕС обсуждается вопрос введения механизмов для коллективной реализации прав. Целью является разработка процесса, который, с одной стороны, был бы достаточным для более эффективного оформления подобных судебных производств, с другой стороны, в отличие от американских групповых исков, должен быть снижен риск злоупотребления адвокатами, участвующими в подобных процессах, в своих интересах.
References
Artz M., Harke J.D. EU-Uebereinstimmungserklaerung als Auskunftsund Garantievertrag. NJW. 2017. S. 3409–3415.
Brors Ch. Die Bestimmung des Nacherfuellungsorts vor dem Hintergrund der
Verbrauchsgueterkaufrichtlinie. NJW. 2013. S. 3329–3332.
Eger Th., Schaefer H.-B. Reflections on the Volkswagen Emissions Scandal. Available at: https://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3109538 (Accessed 12 September 2018).
Fassbender K. Der Dieselskandal und der Gesundheitsschutz. NJW. 2017. S. 1195–2001.
Fuehr B., von. Der Dieselskandal und das Recht — Ein Lehrstueck zum technischen Sicherheitsrecht. NVwZ. 2017. S. 265–273.
Gerven W., van. Cases, Materials and Text on Tort Law. Oxford, Hart Publishing, 2000.
Harke J.D. Herstellerhaftung im Abgas-Skandal. VuR. 2017. S. 83–92.
Klinger R. Rechtsgutachten zu Verbraucheranspruechen infolge manipulierter Schadstoffwerte bei Personenkraftwagen. Available at: https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/ Rechtsgutachten-VW-manipulierte-Schadstoffwerte-KFZ-Oktober-2015.pdf (Accessed 12 September 2018).
174

Свободная трибуна
Klonoff R.H. The Decline of Class Actions. Washington University Law Review. 2013. Vol. 90. No. 3. P. 729–838.
Oechsler J. Rueckabwicklung des Kaufvertrags gegenueber Fahrzeugherstellern im Abgasskandal. NJW. 2017. S. 2865–2869.
Palandt. BGB. 76. Aufl. Muenchen, C.H. Beck, 2016. 3200 s.
Reitze A.W. The Volkswagen Air Pollution Emissions Litigation. Environmental Law Reporter. 2016. Vol. 46. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2805186 (Accessed 12 September 2018).
Ring G. Abgas-Manipulationssoftware und Maengelrechte der Kaeufer. NJW. 2016. S. 3121–3126.
Tilp A.W., Schiefer M. VW Dieselgate — die Notwendigkeit zur Einfuehrung einer zivilrechtlichen Sammelklage. NZV. 2017. S. 14–19
Witt C.-H. Der Dieselskandal und seine kaufund deliktsrechtlichen Folgen. NJW. 2017. S. 3681–3686.
Woopen H. Kollektiver Rechtsschutz — Ziele und Wege. NJW. 2018. S. 133–138.
Information about the author
Hans-Joachim Schramm — Doctor of Laws.
175

Обзор
практики
Дарья Сергеевна Молоканова
бакалавр права
Антон Эдуардович Мухаметшин
студент 4-го курса факультета права НИУ «Высшая школа экономики»
Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств (ст. 406.1 ГК РФ), в судебной практике
Институт возмещения потерь был закреплен в ГК РФ в 2015 г. Суть данного правового механизма заключается в том, что одна из сторон обязуется компенсировать другой стороне имущественные потери, которые могут возникнуть при наступлении определенных договором обстоятельств. Авторы анализируют судебные акты, в которых суды применяют нормы ст. 406.1 ГК РФ, регулирующей институт возмещения потерь. Судебная практика показывает, что, несмотря на появление разъяснений в п. 15–18 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 относительно применения механизма возмещения потерь, суды по-прежнему допускают немало ошибок. Они не всегда различают институт возмещения потерь и иные гражданско-правовые институты: неустойки, возмещения убытков, платы за отказ от договора, договора страхования и зачета. Также имеются и противоречивые позиции по конкретным вопросам. В частности, это касается возможности применения норм ст. 406.1 ГК РФ к отношениям, возникшим до 01.06.2015, и к отношениям из государственного контракта. Однако стоит отметить, что судебные акты, в которых суды верно понимают правовую природу возмещения потерь, также встречаются достаточно часто.
Ключевые слова: возмещение потерь, постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7, смешение гражданско-правовых институтов
176

Обзор практики
Daria Molokanova
Bachelor of Law
Anton Mukhametshin
4th Year Student of the Faculty of Law of the National Research University Higher School of Economics
Compensation of Losses Incurred in the Event of the Occurrence of Circumstances Specified in a Contract (Article 406.1
of the Civil Code of the Russian Federation) in Judicial Practice
The institute of compensation for losses (or, as it is sometimes called, indemnity) appeared in the Russian Civil Code in 2015. The essence of this legal mechanism is that one of the parties to a contract undertakes to compensate the other party for losses that may arise as a result of circumstances specified by the contract.
The subject matter of this article is judicial acts where courts apply provisions of art. 406.1 of the Civil Code of the Russian Federation regulating the mechanism of compensation for losses. Analysis of judicial practice demonstrates that, despite the appearance of clarifications in paras. 15–18 of the ruling of the Russian Supreme Court dated 24 March 2016 No. 7, Russian courts still continue to make mistakes relating to applying the rules of art. 406.1. Courts confuse the doctrine of compensation for losses with other civil legal doctrines: compensation for damages, payment for cancellation of a contract, insurance contract, and set-off. There are also some controversial positions on certain issues. In particular, these relate to the possibility of application of art. 406.1 of the Russian Civil Code to legal relations arising prior to 1 June 2015 and legal relations under state contracts. However, it is necessary to note that there are many judicial acts in which courts demonstrate a correct understanding of the legal nature of the doctrine of compensation for losses.
Keywords: compensation for losses, indemnity, the ruling of the Russian Supreme Court dated 24 March 2016 No. 7, confusion of civil law doctrines
Введение
В результате реформы российского гражданского законодательства в 2015 г. в Гражданском кодексе был закреплен институт возмещения потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств1. Его появление было обусловлено практической необходимостью: сторонам крупных инвестиционных, подрядных, корпоративных сделок требовался инструмент, который, с одной стороны, позволил бы минимизировать риски возникновения убытков, не связанных с противоправными действиями контрагента, а с другой — дал им возможность не прибегать к страхованию (такое желание может быть вызвано, например, неготовностью страховых компаний принять на себя труднопросчитываемый риск либо тем, что стороны договора не хотят нести дополнительные трансакционные издержки)2. Новая ст. 406.1 ГК РФ содержит механизм, который, по мнению мно-
1См.: Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации».
2См.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307– 453 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2017. С. 738.
177

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
гих практикующих юристов и ученых, частично выполняет функции условия об indemnity, широко распространенного в контрактах, заключаемых российскими и зарубежными компаниями по английскому праву. Особенности применения этого института в последующем были разъяснены в п. 15–18 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее — постановление № 7).
Суть рассматриваемого механизма заключается в том, что одна из сторон обязуется компенсировать другой стороне имущественные потери, которые могут возникнуть при наступлении определенных договором обстоятельств. При этом необходимо обратить внимание на некоторые наиболее важные особенности российского института возмещения потерь, которые вытекают из закона или разъяснений высшей судебной инстанции:
1)возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных договором обстоятельств, может использоваться только юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами в связи с участием в корпоративном договоре или в договоре об отчуждении акций или долей (п. 1, 5 ст. 406.1 ГК РФ);
2)невозможно уменьшение размера возмещения потерь, за исключением случаев умышленного содействия увеличению потерь (п. 2 ст. 406.1 ГК РФ);
3)обстоятельства, при которых сторона обязуется компенсировать потери, должны так или иначе относиться к изменению, исполнению или прекращению обязательства. Установленным соглашением сторон обстоятельством не может являться нарушение обязательства;
4)возмещение потерь происходит независимо от наличия нарушения и причинной связи между нарушением и подлежащими возмещению потерями;
5)возмещение потерь допускается, если будет доказано, что они уже понесены или с неизбежностью будут понесены в будущем в связи с указанными в договоре обстоятельствами (п. 15 постановления № 7);
6)в случае неясности того, что устанавливает соглашение сторон — возмещение потерь или условия ответственности за неисполнение обязательства, положения ст. 406.1 ГК РФ не подлежат применению (п. 17 постановления № 7);
7)заключенность и действительность соглашения о возмещении потерь, предусмотренных ст. 406.1 ГК РФ, подлежат оценке судом независимо от заключенности и действительности договора, в связи с которым такое соглашение заключено (п. 17 постановления № 7).
Часто бывает, что обкатка каких-либо новых, незнакомых правовых механизмов обнажает трудности усвоения их природы и правил применения судами. Будет справедливо сказать, что в настоящее время проходит такой процесс привыкания судов и к ст. 406.1 ГК РФ.
178

Обзор практики
В настоящей статье будут приведены примеры дел с неоднозначными или ошибочными позициями, высказанными судами при применении норм о возмещении потерь при наступлении определенных в договоре обстоятельств, а также будут отмечены дела, которые суды разрешили верно. Таким образом, на основе проведенного анализа мы попытаемся осветить, насколько успешно приживается в России аналог indemnity. Считаем, что трехлетний период существования данного института уже позволяет сделать вполне репрезентативную выборку судебной практики.
Ошибочные или спорные позиции судов при разрешении споров, связанных с возмещением потерь
Стоит отметить, что бóльшая часть ошибок судов при применении норм ст. 406.1 ГК РФ связана с неспособностью отграничить институт возмещения потерь от иных гражданско-правовых институтов.
Во-первых, в проанализированном массиве практики нами было найдено довольно много ситуаций, когда суд неверно квалифицировал условие о неустойке как условие о возмещении потерь. Так, в судебном акте суда апелляционной инстанции3 было отмечено следующее. Между ФГУП «Росмоспорт» (далее — предприятие, истец) и ООО «Терминал Новая Гавань» (далее — общество, ответчик) 14.05.2012 был заключен договор, предметом которого является совместное строительство объектов инфраструктуры объекта «Морской терминал для перегрузки накатных грузов…». По данному договору предприятие и общество обязались обеспечивать финансирование и осуществлять строительство объектов в рамках проекта. После завершения строительства общество обязалось осуществлять перевалку грузов на комплексе с целью обеспечения суммарной ежегодной валовой вместимости судов не менее установленных значений. При этом в соответствии с п. 11.2 соглашения в случае неисполнения обществом этого обязательства оно обязано выплатить предприятию неустойку.
В дальнейшем предприятие обратилось в суд с требованием о взыскании неустойки в размере 146 691 496 руб., поскольку обществом не были достигнуты установленные договором показатели. Суд первой инстанции, разрешая спор, указал, что в п. 11.2 договора стороны установили регулирование, аналогичное регулированию ст. 406.1 ГК РФ. Основания такой переквалификации в судебном акте не приведены. По мнению суда первой инстанции, факт снижения объемов перевалки накатных грузов на терминале произошел вследствие объективных экономических причин, находящихся вне воли ответчика. Также суд указал, что: 1) общество являлось слабой стороной при заключении договора, поскольку оно было лишено возможности заключения аналогичного соглашения в силу монопольного закрепления за предприятием акватории морского порта; 2) предприятие просрочило исполнение своих обязательств по строительству объектов; 3) общество уже понесло убытки в размере 1 млрд руб. за четыре года; 4) при реализации соглашения общество затратило намного большую сумму, чем предприятие. Исходя из пере-
3См.: постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.05.2018 по делу № А5670176/2017.
179

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
численных обстоятельств, суд, сославшись на ст. 10 ГК РФ, снизил размер «возмещения потерь» до 14 млн руб.
Апелляция в части выводов о наличии в договоре условий о возмещении потерь отметила, что, во-первых, соглашение заключено в 2012 г., следовательно, к отношениям сторон нормы ст. 406.1 ГК РФ не могут быть применены; во-вторых, соглашение о возмещении потерь должно быть явным и недвусмысленным (п. 17 постановления № 7), а в данном случае стороны очевидно договорились о неустойке. Хотелось бы указать, что суд первой инстанции здесь совершил ошибку даже в рамках своей логики — снизил размер возмещения потерь в нарушение требований п. 2 ст. 406.1 ГК РФ. Дело же, в конце концов, было разрешено в пользу общества по иным основаниям.
Суды кассационной инстанции также не всегда отличают неустойку от возмещения потерь. Так, по материалам одного дела стороны заключили договор поставки, одним из условий которого было возмещение потерь поставщика в размере 500 000 руб. в случае неоплаты покупателем товара в срок до 31.12.2015. Суд, изучив материалы дела, принял решение о том, что «несвоевременное исполнение Обществом обязательства по оплате принятого товара послужило основанием для перечисления на расчетный счет ООО «Сти-Трейдинг» имущественных потерь…»4. Очевидно, согласованное условие тут является не условием о возмещении потерь, а неустойкой, поскольку из соглашения сторон следует, что обстоятельство, при котором возникает обязанность по выплате денежной суммы, связано с нарушением основного обязательства покупателем.
Другой пример: суд посчитал, что условие о снижении размера арендной платы в случае приостановления государственной регистрации договора субаренды нежилых помещений по причинам, за которые отвечает арендатор, — это условие о возмещении потерь5. Фактически речь здесь идет о неустойке по причинам, приведенным в рассмотренном нами выше примере.
Схожая ошибка была допущена и Арбитражным судом г. Москвы в деле № А4013993/20176. Между сторонами был заключен договор аренды помещений в торговом центре. Среди прочего в договор было включено условие об уменьшении арендной платы на 50% в случае сдачи арендодателем помещений в торговом центре другим арендаторам под магазины, реализующие конкурирующие товары. Арендодатель сдавал помещения под магазины, которые реализуют такую продукцию, что было установлено материалами дела. Арендатор согласно договору уменьшил размер арендной платы в одностороннем порядке. Арендодатель обратился в суд с требованием о взыскании задолженности по договору аренды. Суд, указав, что сторонами в договор было включено условие, к которому по аналогии применяется норма ст. 406.1 ГК РФ, в удовлетворении искового требования отказал. Тем не менее ссылаться на эту норму при разрешении спора было нельзя — в данном
4Постановление АС Волго-Вятского округа от 04.04.2017 № Ф01-829/2017 по делу № А28-7109/2016.
5См.: постановление АС Западно-Сибирского округа от 28.06.2017 № Ф04-1833/2017 по делу № А7011245/2016; определение ВС РФ № 304-ЭС17-14395 от 05.10.2017 по делу № А70-11245/2016.
6См.: решение АС г. Москвы от 08.12.2017 по делу № А40-13993/2017.
180

Обзор практики
случае обстоятельство, которое влечет снижение арендной платы, является нарушением обязательства арендодателя. Более того, суд не исследовал, реально ли у арендатора возникли потери вследствие определенных сторонами обстоятельств в соответствии с п. 15 постановления № 7. Вместо этого суд отметил, что «право арендатора по уменьшению размера арендной платы не поставлено в зависимость от его экономического обоснования или наличия отрицательного финансового результата предпринимательской деятельности», что кажется неверным.
Иногда суды ошибочно применяют нормы о возмещении потерь к институту возмещения убытков. В качестве примера можно привести одно из дел, рассмотренных Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области7. Сторонами был заключен договор оказания возмездной услуги техники с экипажем. По его условиям исполнитель (истец) оказывал заказчику (ответчику) услуги по предоставлению в аренду специальной техники с экипажем для целей строительства заказчиком инфраструктуры газоконденсатного месторождения. Условия договора устанавливали, что исполнитель в случае простоя техники не получает вознаграждения. Пунктом 2.3.13 договора также была предусмотрена «сумма возмещения простоя техники по вине Заказчика (Ответчика)». Размер возмещения потерь рассчитывался исходя из ставки работы техники в 1 час согласно приложению к договору, умноженной на количество часов простоя. В период действия договора ответчиком был допущен простой техники. Кроме того, после окончания срока действия договора ответчик в течение месяца не исполнял свое обязательство по вывозу техники с объекта. В течение этого периода исполнитель не имел возможности переместить технику к иному заказчику. Исполнитель обратился в суд с иском о взыскании убытков.
Суд, разрешая дело, указал, что «условие о возмещении потерь исполнителю заказчиком, согласованное сторонами в п. 2.3.13, в полной мере соответствует действующему законодательству, а именно ст. 406.1 ГК РФ, введенной в действие 08.03.2015 ФЗ № 42-ФЗ. …Редакция пункта 2.3.13 Договора не допускает какоголибо иного толкования, данный пункт помещен в раздел договора «Обязанности сторон» и не содержит условий об ответственности за нарушение обязательств». На основании этой нормы суд взыскал потери за простой техники, допущенный в период действия договора, а также возникший из-за последующего ее несвоевременного вывоза.
Думается, что в действительности здесь стороны договорились об условии о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим исполнением кредиторской обязанности заказчиком (ст. 406 ГК РФ). Во-первых, убытки исполнителя возникли из-за отказа заказчика эксплуатировать технику, переданную по договору, что отмечается в самом судебном акте. Во-вторых, упоминание вины как условия ответственности заказчика также доказывает, что имелось в виду именно условие о возмещении убытков при просрочке кредитора. Стоит отметить, что убытки, которые возникли из-за нарушения сроков вывоза техники с объекта заказчиком, должны были взыскиваться на основании ст. 393 ГК РФ. По обязательству по вывозу техники уже заказчик являлся должником, и убытки возникли именно из-за его ненадлежащего исполнения. На основании изложенного полагаем, что в дей-
7См.: решение АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.11.2017 по делу № А56-14939/2017.
181

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
ствительности природа договорного условия в данном деле соответствует скорее природе условия о возмещении убытков, связанных с просрочкой кредитора.
Вдругом деле суд при разрешении спора о взыскании убытков сослался на положения ст. 406.1 ГК РФ о том, что возмещение потерь допускается, если будет доказано, что они уже понесены или с неизбежностью будут понесены в будущем8. Неясно, как эта норма применяется к ситуации поставки некачественного товара, притом что в договоре сторон отсутствуют даже намеки на условие о возмещении потерь.
Врешении Арбитражного суда Новосибирской области от 29.01.2018 по делу № А45-40572/2017 суд также неверно применил нормы о возмещении потерь9. Сторонами был заключен договор эквайринга, по его условиям ООО (ответчик) организовало прием банковских карт при оплате товаров, а банк (истец) перечислял ООО суммы совершенных операций с удержанием платы за выполнение расчетов. ООО также приняло на себя обязательство о составлении документов, связанных с реализацией услуг в торговой точке с оплатой с использованием карт и последующей передачей их банку. Следует отметить, что последствием непередачи таких документов банку являлось списание денежных средств со счета банка в случае оспаривания операций держателями карт сторонних банков-эмитентов согласно правилам Международных платежных систем. ООО обязательство по передаче документов не выполнило, в результате чего со счета банка были списаны денежные средства. Банк предъявил ООО иск о взыскании этих денежных средств. Судом данное требование было квалифицировано как требование о возмещении потерь, дело разрешено со ссылкой на нормы ст. 406.1 ГК РФ. Полагаем, что в данном случае все же имело место требование о возмещении убытков, вызванных неисполнением обязательств контрагентом по договору. Ответственность, следовательно, должна была бы наступить по правилам ст. 393 ГК РФ.
Первый арбитражный апелляционный суд в деле № А11-6237/2016 хотя и вынес верное решение, отграничив условие об ответственности за неисполнение обязательства от условия о возмещении потерь, тем не менее мотивировал его не совсем правильно10. В договор возмездного оказания охранных услуг между ООО «Группа компаний Форпост» (исполнитель) и ООО «Фур Фур» (заказчик) было включено условие о том, что исполнитель несет полную материальную ответственность по договору за ущерб, причиненный кражами товарно-материальных ценностей, совершенными из охраняемого объекта, при этом факт причинения вреда и вина устанавливаются судом либо следствием. В договоре также устанавливалось, что при обнаружении виновных лиц исполнитель имеет право на взыскание с них ущерба.
В период срока действия договора произошла кража охраняемых товарно-мате- риальных ценностей. ООО «Фур Фур» после соблюдения претензионного поряд-
8См.: постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 01.02.2018 по делу № А17-3745/2017.
9См.: решение АС Новосибирской области от 29.01.2018 по делу № А45-40572/2017.
10См.: постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2017 по делу № А116237/2016.
182

Обзор практики
ка обратилось в суд, в обоснование своего иска сославшись на ст. 406.1 ГК РФ. Суд иск удовлетворил, но сослался на разъяснения п. 17 постановления № 7 о том, что в случае неясности того, что устанавливает соглашение сторон — возмещение потерь или условие ответственности за неисполнение обязательства, положения ст. 406.1 ГК РФ не подлежат применению. Следует подчеркнуть, что даже если бы в договоре было прямо написано, что стороны имеют в виду возмещение потерь, условие не подпадало бы под нормы ст. 406.1 ГК РФ: упоминание вины явно свидетельствует, что стороны договорились о возмещении убытков в связи с виновным нарушением исполнителем своих обязательств по обеспечению охраны. Суд же разграничил эти два института только со ссылкой на имевшуюся неясность.
В еще одном деле суд применил нормы о возмещении потерь к договору страхования11. Между ООО «Группа Ренессанс Страхование» (истец) и Жирковой О.А. был заключен договор добровольного комбинированного страхования средств наземного транспорта GAP (Guaranteed Asset Protection). Предметом данного договора являлось страхование непредвиденных расходов, которые собственник транспортного средства, указанного в договоре страхования, должен произвести для приобретения нового транспортного средства взамен утраченного (похищенного) или уничтоженного в результате определенных установленных правилами страховщика событий. В то же время Жирковой О.А. был заключен договор страхования транспортного средства с другой страховой компанией — ООО «Страхования компания «Согласие».
Во время действия договора страхования случилось ДТП, в результате которого застрахованному автомобилю были нанесены повреждения. Виновной в ДТП постановлением ГИБДД по делу об административном правонарушении была признана Лазарева Л.А. (ответчик). Жиркова О.А. обратилась к ООО «Страховая компания «Согласие» с заявлением о страховой выплате. Соглашением сторон был признан факт полной конструктивной гибели автомобиля. Жиркова О.А. получила возмещение в соответствии с соответствующим пунктом договора. Истцом также было выплачено возмещение Жирковой О.А. по договору GAP. Позже ООО «Группа Ренессанс Страхование» обратилось с исковыми требованиями к Лазаревой Л.А. о возмещении ущерба в порядке суброгации. Ответчик против иска возражала: по ее мнению, объем повреждений не был доказан истцом.
Суд первой инстанции в иске отказал, сославшись на результат судебной экспертизы, которым была установлена возможность и целесообразность проведения ремонта автомобиля. Апелляционная инстанция в иске ООО «Группа Ренессанс Страхование» также отказала. По ее мнению, расходы по приобретению нового транспортного средства не могут быть отнесены к реальному ущербу, поскольку направлены на приобретение нового имущества, а не аналогичного потерянному. Ввиду этого к договору GAP «с учетом предусмотренного в нем объекта страхования и его правовой природы» должны быть применены нормы ст. 406.1 ГК РФ о возмещении потерь. Далее суд пояснил, что страховщик взял на себя обязанность не по возмещению убытков, а по возмещению потерь вследствие непредвиденных расходов, которые собственник автомобиля должен будет понести на приобретение нового транспортного средства. Страховщик, таким образом,
11 |
См.: определение ВС Республики Татарстан от 05.09.2016 по делу № 33-14814/2016. |
|
183

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
не приобретает право суброгации, поскольку обстоятельства, возложенные им на себя, не создают последствий для лиц, которые не являются стороной обязательства по страхованию.
Хотя в многочисленных научных работах и подмечается сходство возмещения потерь со страхованием, тем не менее подменять один механизм другим нельзя. Конкретно в данном случае, по нашему мнению, существуют как минимум два аргумента против такой переквалификации договора страхования в договор о возмещении потерь. Во-первых, исходя из прямого указания закона (п. 1 ст. 406.1 ГК РФ) институт возмещения потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств, может применяться только сторонами, которые действуют, осуществляя предпринимательскую деятельность. В рассмотренном кейсе договор не являлся предпринимательским — одной его стороной выступало физическое лицо, страхующее личное транспортное средство, в материалах дела не было информации и о том, что данное транспортное средство использовалось для осуществления предпринимательской деятельности. Таким образом, положения ст. 406.1 ГК РФ не могли быть применены здесь в силу закона. Конечно, А.Г. Карапетовым было высказано мнение, что «нет содержательных аргументов против того, чтобы обязательство по возмещению потерь приняло бы на себя лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, по договору с лицом, такую деятельность не осуществляющим»12. Но он тут же делает оговорку, что данный подход не вытекает из закона и не распространен в судебной практике (а суд все же ориентируется на закон и сложившуюся практику). Более того, в мотивировочной части судебного акта нет даже намеков на применение расширительного толкования норм закона при разрешении спора.
Второй аргумент против указанного решения заключается в том, что, производя замену страхования возмещением потерь, суд не принял во внимание положения п. 17 постановления № 7, согласно которым при применении положений ст. 406.1 ГК РФ суд должен учесть, что соглашение о возмещении потерь должно быть явным и недвусмысленным. Стороны, заключая договор в 2012 г., имели в виду именно страхование непредвиденных расходов, т.е. убытков страхователя, — это следует как из текста договора, так и из факта отсутствия на тот момент ст. 406.1 в Гражданском кодексе. Что интересно, суд упомянутый выше пункт постановления Пленума явно видел и даже упомянул в мотивировке, но по каким-то причинам реально учитывать не стал.
Более того, фундаментальное отличие возмещения потерь от страхования состоит в том, что условие о возмещении потерь сопровождает некий базовый договор и подлежат возмещению потери, возникшие у одной из сторон в связи с заключением, исполнением или прекращением этого договора. Возмещение потерь — это вторичное обязательство, возникающее в связи с неким базовым договорным правоотношением. В случае же страхования выплата страхового возмещения является основным обязательством, входит в предмет договора. Возмещение потерь нередко называют внутренним страхованием, так как бремя возмещения потерь одной из сторон базового договора несет не некое третье лицо — страховщик, берущий
12Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 744.
184

Обзор практики
на себя соответствующий риск за уплачиваемую ему премию, а другая сторона базового договора. Но термин «страхование» в неофициальном названии института возмещения потерь отнюдь не означает отнесение возмещения потерь к разряду договоров страхования. В силу этого применение правил ст. 406.1 ГК РФ к истинному, классическому страхованию невозможно.
Имеют место случаи, когда суды путают плату за отказ от договора с возмещением потерь. Так, в одном из судебных актов суда апелляционной инстанции указывается следующее: «В п. 6.5 договора аренды стороны предусмотрели, что сторона, принявшая решение о досрочном расторжении договора, обязана возместить другой стороне имущественные потери в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ в размере двухмесячной арендной платы, определенной в п. 4.1 настоящего договора»13. Суд первой инстанции со ссылкой на нормы о возмещении потерь иск о взыскании таких «имущественных» потерь удовлетворил, а апелляция согласилась. Есть и другие решения, где суды допускали схожие ошибки14. На самом деле плата за отказ от договора урегулирована специальными нормами (п. 3 ст. 310 ГК РФ). Ссылка на ст. 406.1 ГК в такой ситуации избыточна.
В одном из актов суд смешал понятие «возмещение потерь» с понятием «зачет». Стороны предусмотрели в договоре возмездного оказания услуг условие о том, что «заказчик имеет право уменьшить оплату исполнителю за предоставленные услуги на сумму штрафа, пени, неустойки, убытков, которые должны быть оплачены исполнителем согласно... договору путем проведения зачислений встречных требований»15. В ходе реализации договора заказчик осуществил «удержание» соответствующих денежных сумм при осуществлении выплат исполнителю; заказчику направлены уведомления о зачете. Ответчик с зачетом не согласился, подал иск о взыскании задолженности. Совершенно непонятно, по какой причине суд в мотивировочной части ссылается на ст. 406.1 ГК РФ и рассуждает о том, что соглашением сторон может быть установлена обязанность одной из них возместить имущественные потери другой стороны.
Далее хотелось бы обсудить хотя и не являющиеся ошибочными, но неоднозначные позиции судов, которые не связаны с разграничением возмещения потерь и иных гражданско-правовых институтов. В первую очередь обратим внимание на одно дело, в котором судом был сделан вывод о невозможности применения ст. 406.1 ГК РФ к отношениям, возникающим из государственного контракта. Суд, отказывая в применении ст. 406.1 ГК к отношениям сторон — ООО и ФГКУ (Федеральное государственное казенное учреждение), отметил следующее. Во-первых, ответчик (ФГКУ) не является субъектом предпринимательской деятельности, а во-вторых, «к отношениям, возникшим из государственного контракта, ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяется в силу специального регулирования данных отношений положениями законодательства
13Определение Новосибирского областного суда от 13.06.2017 по делу № 33-5617/2017.
14См., напр.: постановление АС Северо-Западного округа от 22.05.2017 № Ф07-4208/2017 по делу № А5662915/2015.
15Решение АС г. Севастополя от 08.02.2018 по делу № А84-3317/2017.
185

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
о контрактной системе»16. Первый аргумент кажется соответствующим ГК и по существу оправданным, поскольку стороной, обязанной выплачивать возмещение потерь, является некоммерческая организация. Второй аргумент несколько менее очевиден: суд не объяснил, какие именно положения специального законодательства препятствуют применению положений о возмещении потерь. Анализ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ на предмет прямых указаний об этом результатов не дал. В судебной практике найти иные похожие позиции также не удалось. Тем не менее существует определенная вероятность того, что невозможность применения ст. 406.1 ГК РФ действительно исходит из толкования специального законодательства. Мы же, не обладая глубокими знаниями соответствующего регулирования, не можем сделать здесь однозначный вывод о правильности или неправильности позиции суда.
Стоит обратить внимание и на другую неоднозначную позицию, встреченную нами в судебной практике. Так, в одном из дел делается вывод: «Положения статьи 406.1 ГК РФ… не раскрывают понятие потерь и не ограничивают перечень обстоятельств, в связи с наступлением которых у стороны такого соглашения возникает право потребовать от другой стороны возмещения своих потерь»17. В то же время судам при толковании таких позиций следует учитывать п. 15 постановления № 7, в котором говорится о том, что обстоятельства должны быть связаны с исполнением, изменением или прекращением предметов обязательства либо его предметом. Таким образом, обозначенная в начале абзаца позиция должна толковаться ограничительно: потери должны быть так или иначе связаны с заключенным базовым договором (например, если стороны договорились о возмещении потерь при изменении налогового режима, такое изменение должно повлечь расходы одной из сторон в связи с заключенным договором). В самом приведенном деле условие о возмещении потерь связано с исполнением основного обязательства (по условиям договора поставки поставщик возмещает потери покупателю
вслучае, если поставленный им товар не был реализован конечным покупателям
всвязи с истечением срока годности). Суд данное условие договора обоснованно признал, однако широкое толкование сформулированной им позиции может привести к вынесению неверных решений по иным делам.
В заключение данного раздела хотелось бы осветить проблему, связанную с возможностью применения норм ст. 406.1 ГК РФ к отношениям, возникшим до 01.06.2015 (т.е. до даты ее вступления в силу). Этот вопрос весьма часто остро встает при разрешении споров, и позиции судов по нему различаются. Первая позиция заключается в том, что нормы ст. 406.1 ГК РФ соответствуют правилам предшествующего законодательства о свободе договора, а потому могут применяться и к договорам, которые были заключены до 01.06.2015 (непосредственно или по аналогии закона)18.
16Решение АС Свердловской области от 15.01.2018 по делу № А60-55553/2017.
17Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2017 № 11АП-4835/2017 по делу № А65-22926/2016.
18См.: решение АС г. Москвы от 06.10.2017 по делу № А40-9251/2017; постановления АС Северо-Запад- ного округа от 22.05.2017 по делу № А56-62915/2015; Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.01.2017 по делу № А40-124771/16-162-1101.
186

Обзор практики
Суть второй позиции заключается в принципиальной невозможности применения норм о возмещении потерь к отношениям, возникшим до введения нормы в действие19. Применять следует редакцию ГК РФ, действующую на момент заключения договора с учетом соответствующей практики правоприменения. При этом некоторые суды в обоснование такой позиции ссылаются на п. 83 постановления № 7: «Положения Гражданского кодекса Российской Федерации в измененной Законом № 42-ФЗ редакции... не применяются к правам и обязанностям, возникшим из договоров, заключенных до дня вступления его в силу (до 1 июня 2015 года)», некоторые же просто указывают, что на момент заключения договора ст. 406.1 ГК РФ не вступила в силу. Полагаем, что подобные расхождения в судебной практике должны быть разрешены следующим образом. Правила ст. 406.1 ГК не могут автоматически ретроспективно применяться к договорам, заключенным до 01.06.2015, этот подход закреплен Пленумом ВС РФ и не допускает никакого иного толкования. Но в принципе сама возможность заключения подобных соглашений не исключалась и прежним законодательством в силу принципа свободы договора; соответственно, соглашения о возмещении потерь, заключенные ранее, должны признаваться законными.
Можно заключить, что российские суды допускают немало ошибок, квалифицируя те или иные договорные условия как условия о возмещении потерь. Также есть и неоднозначные позиции, о которых нельзя сказать, ошибочны они или нет, — по ним судам еще предстоит прийти к консенсусу.
Примеры правильного разрешения судами споров, связанных с применением института возмещения потерь
Из предыдущей части статьи вполне могло сложиться впечатление о том, что суды в основном не понимают правовую природу института возмещения потерь. Тем не менее случаи, когда суд правильно применяет нормы ст. 406. 1 ГК РФ и соответствующие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, отнюдь не редки. Приведем примеры.
В одном из дел суд верно отграничил ответственность за дачу недостоверных заверений об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ) от соглашения сторон о возмещении потерь20. Между Гулуа Т.А. (продавец) и ООО (покупатель) был заключен договор купли-продажи акций ЗАО. При этом в договоре продавцом были даны определенные заверения об обстоятельствах, касающихся ЗАО. Среди прочего продавец дал заверение в том, что предоставленная «финансовая отчетность ЗАО обеспечивает достоверное представление об активах и обязательствах компании». По соглашению сторон продавец обязался возместить имущественные потери покупателя в размере 50% от суммы договора в случае предоставления недостоверной инфор-
19См.: постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2017 по делу № А192540/2017; Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.05.2018 по делу № А56-70176/2017; Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2018 по делу № А23-1388/2017.
20См.: постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2017 по делу № А631976/2017.
187

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
мации о финансовом положении ЗАО (п. 5.2 договора) и, таким образом, нарушения пункта договора о заверениях. Суд, рассматривая возникший между продавцом и покупателем спор, оценил это условие следующим образом: «Договоренности сторон в п. 5.2 договора нельзя квалифицировать как соглашение о возмещении потерь, регламентированное ст. 406.1 ГК РФ, поскольку по смыслу п. 5.2 договора стороны имели в виду отрицательные имущественные последствия, наступившие в результате предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах».
Встречаются и дела, в которых судами было установлено наличие между сторонами соглашения о возмещении потерь, действительно соответствующего сути и природе этого института. В качестве одного из примеров можно привести дело № А46-15870/201521. Судом было установлено, что между ИП (перевозчик) и ООО
(заказчик) был заключен договор о перевозке грузов водным транспортом. Он содержал условие о возмещении заказчиком всех затрат на охрану судна, вывоз и доставку экипажа, топливо на запуск судна и прочих расходов, связанных с безопасным отстоем судна в случае зимовки. В дальнейшем перевозчик заявил требование о взыскании этих расходов с заказчика в связи с тем, что оговоренное событие (вынужденная зимовка) наступило. Суд, разрешая спор, указал, что применению к указанному условию подлежит ст. 406.1 ГК РФ. Также им был исследован вопрос о возможности освобождения ответчика от возмещения потерь в связи с недобросовестным поведением истца на основании абз. 5 п. 15 постановления № 7 (ООО ссылалось на то, что «предпринимателем не представлены доказательства его невиновности в невозможности продолжения рейса»). Как отметил суд, «факт недобросовестности истца ответчиком не доказан и из материалов дела не усматривается». В свою очередь, истец представил доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, препятствующих выполнению рейса, включая «низкий уровень воды и усиленное льдообразование». В связи с этим суд признал правомерным требование истца относительно возмещения потерь, предусмотренных соглашением сторон.
Другой пример — постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2018 по делу № А45-32564/2017. В этом деле суд посчитал, что условие договора поставки, согласно которому покупатель обязуется возместить поставщику имущественные потери, возникшие в результате привлечения поставщика к ответственности в связи с осуществлением покупателем и/или привлеченными им контрагентами перевозки продукции на условиях самовывоза с нарушением действующих норм и правил, является условием о возмещении потерь. На основании данного пункта договора в пользу поставщика были взысканы имущественные потери, возникшие в связи с оплатой административных штрафов. Интересно отметить, что стороны этим условием частично покрыли чистые экономические убытки поставщика, которые могли бы возникнуть ввиду нарушений публичных правил покупателем и последующих предъявлений требований к поставщику. В принципе, никаких препятствий к возмещению таких убытков, исходя из норм закона и разъяснений Пленума, нет, из материалов дела не следует обязанность покупателя не нарушать нормы КоАП РФ. Соглашение о возмещении потерь в подобных случаях оставляет потерпевшего хотя бы с каким-то средством защиты его прав.
21См.: постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2016 № 08АП-8225/2016 по делу № А46-15870/2015.
188

Обзор практики
Довольно любопытное условие о возмещении потерь было включено в договор лизинга между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» (лизингодатель) и ООО «Се- веро-Западная топливная компания «Гросс» (лизингополучатель) — сторонами по делу № А65-34079/201722. В лизинг передавался тягач «КамАЗ». Стороны предусмотрели, что «поскольку в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»… лизингодателю предоставляется субсидия, лизингополучателю предоставляется единовременная скидка по уплате авансового платежа в размере 642 628 руб.». При этом в случае, если лизингодателю будет отказано в получении субсидии, лизингополучатель в течение определенного срока после получения подтверждающих документов от лизингополучателя обязуется уплатить сумму скидки. Суд признал, что этот пункт, по сути, согласует порядок возмещения потерь сторонами.
Довольно часто условие о возмещении потерь включается и в договоры эквайринга. Обычно в таких договорах условие о возмещении потерь формулируется как обязанность юридического лица (получателя денежных средств) в безусловном порядке возместить суммы, списанные с банка платежной системой или эмитентами по операциям, признанным недействительными23. Подобные условия также правильно признаются судами соответствующими нормам ГК о возмещении потерь.
Выводы
1.Проведенный анализ показывает, что институт возмещения потерь приобрел значительную популярность в российской деловой среде. Условия о возмещении потерь включаются в самые разные виды договоров. В качестве примеров можно назвать не только уже отмеченные договоры эквайринга, поставки, лизинга, но и договоры коммерческой концессии, мировые соглашения по различным спорам24 и многие другие.
2.Суды допускают немало ошибок в спорах, связанных с применением норм о возмещении потерь. При этом нельзя сказать, что появление разъяснений в п. 15–18 постановления № 7 существенно изменило ситуацию. Зачастую суды хотя и наполняют мотивировочные части ссылками на закон и положения этого постановления, тем не менее реально их не учитывают.
3.Основные ошибки, допускаемые судами при квалификации условия как условия о возмещении потерь, — неразличение института возмещения потерь и иных граж- данско-правовых институтов: неустойки, возмещения убытков, причиненных неисполнением договорных обязательств, платы за отказ от договора, договора страхования и даже, что уж совсем удивительно, зачета.
22См.: постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2018 по делу № А6534079/2017.
23См.: решение АС г. Москвы от 27.09.2017 по делу № А40-126710/2017.
24См.: определение АС г. Москвы от 30.08.2016 по делу № А40-187412/2015.
189

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2018
4.В судебных актах встречаются различные позиции по вопросу действия ст. 406.1 ГК РФ во времени и возможности применения норм данной статьи к договорам, заключенным до 01.06.2015. Достаточно очевидно, что общие принципы действия норм ГК о договорах и договорных обязательствах во времени (т.е. строгая перспективность) возобладают, но это не должно происходить за счет признания таких соглашений, заключенных в силу общего принципа свободы договора, недействительными.
5.Также не совсем ясен вопрос о возможности применения механизма возмещения потерь к отношениям из государственного контракта. Надеемся, что в дальнейшем судебная практика разъяснит, почему этого делать нельзя, либо закрепит противоположную позицию.
6.Судебные акты, где суды демонстрируют верное понимание правовой природы возмещения потерь, встречаются часто. Под таковыми мы понимали акты, где суд либо верно указывал на наличие соглашения о возмещении потерь, либо объяснял, почему то, что стороны назвали возмещением потерь, таковым не является. Тем не менее количество ошибок, приведенных в первой части статьи, показывает, что до окончательного усвоения судами российского аналога indemnity еще далеко.
References
Karapetov A.G., ed. Law of Contracts and Obligations (General Part): Article-by-Article Commentary to Articles 307–453 of the Civil Code of Russian Federation [Dogovornoe i objazatel’stvennoe pravo (obshhaja chast’): postatejnyj kommentarij k stat’jam 307–453 Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federatsii]. Moscow, Statut, 2017. 1120 p.
Information about authors
Dariya Molokanova — Bachelor of Law (e-mail: dariyayurova@yandex.ru).
Anton Mukhametshin — 4th Year Student of the Faculty of Law of National Research University Higher School of Economics (e-mail: a.e.mukhametshin@mail.ru).
190
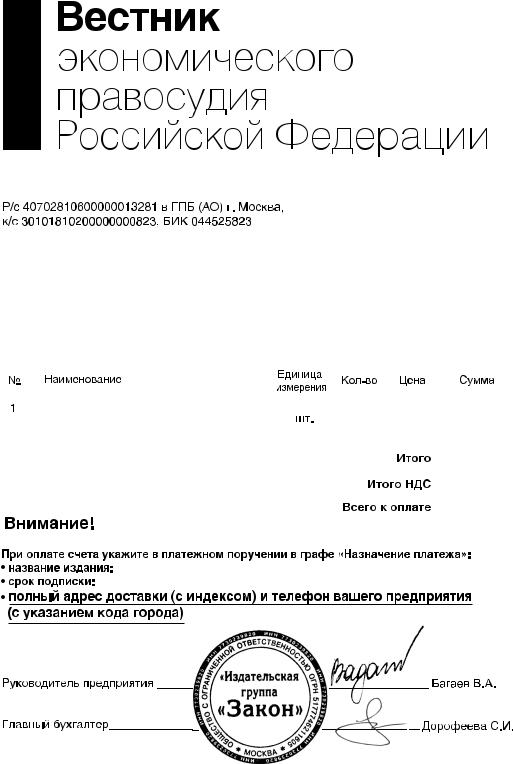
ООО «Издательская группа «Закон» Адрес: 121151 г. Москва, ул. Студенческая, д. 15, комн. 1, 2 Тел. (495) 927-01-62







 ВЗ1ПГ19 от 24.10.2018
ВЗ1ПГ19 от 24.10.2018
|
|
|
|
|
|
|
Комплект «Вестник экономического пра- |
|
6 |
1400-00 |
8400-00 |
|
восудия Российской Федерации»+«Закон» |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
I полугодие 2019 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8400-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
763-64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8400-00 |
|
|
|
|
|
|
«ВЭП РФ» + «Закон»
I полугодие 2019 г.










 ВЗ1ПГ19 от 24.10.2018
ВЗ1ПГ19 от 24.10.2018
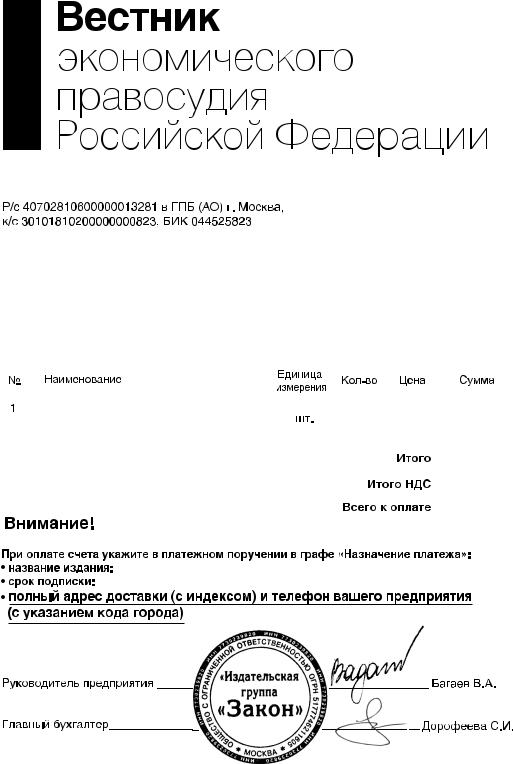
ООО «Издательская группа «Закон» Адрес: 121151 г. Москва, ул. Студенческая, д. 15, комн. 1, 2 Тел. (495) 927-01-62







 ВЗ1ПГ19 от 24.10.2018
ВЗ1ПГ19 от 24.10.2018
|
|
|
|
|
|
|
Комплект «Вестник экономического пра- |
|
6 |
1400-00 |
8400-00 |
|
восудия Российской Федерации»+«Закон» |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
эл.версия, I полугодие 2019 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8400-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
763-64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8400-00 |
|
|
|
|
|
|
«ВЭП РФ» + «Закон»
I полугодие 2019 г.










 ВЗ1ПГ19 от 24.10.2018
ВЗ1ПГ19 от 24.10.2018

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ |
WWW.IGZAKON.RU |
Выходит с 1992 года
Ежемесячный информационно-аналитический журнал. Удостоен премии «Фемида» за 2007 год.
«ЗАКОН» – это уникальное сочетание научно-практических статей, новостных материалов, качественной аналитики и экспертных комментариев
В НОЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ
Главная тема: Борьба с налоговыми злоупотреблениями: новые подходы
Среди авторов номера:
А.П. Сергеев, Т.А. Терещенко
Большие данные (Big Data): в поисках места в системе гражданского права
Большие данные как новый нетрадиционный объект интеллектуальной собственности
А.В. Николаев
Проблема детализации и обобщения в определении договорной категории «злоупотребление налоговым соглашением»
Виды злоупотребления СИДН в международной практике и причины отсутствия данного понятия в международных документах
П.А. Ломакина
Совместные обязательства супругов. Проблемы доказывания
Как распределяется бремя доказывания использования средств на нужды семьи?
ТЕМА БЛИЖАЙШЕГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «ЗАКОН»:
ДЕКАБРЬ: Вещное право. Кризис (ре)формы
Подписной индекс 39001 в Объединенном каталоге «Пресса России», в каталоге Агентства «Роспечать»
Подписаться в редакции — https://zakon.ru/Subscription
Реклама
w w w . i g z a k o n . r u

Реклама
Более 47 780 пользователей
11 840 юристов
2511 студентов
1298 компаний
Сергей
Будылин
старший юрист компании
Roche & Du ay
«ВУголовномкодексе остаетсяещемногостатей, из-закоторыхнеосторожный репостможетобернуться лишениемсвободы»
