

Свободная трибуна
Кирилл Вадимович Нам
кандидат юридических наук, LLM, магистр частного права
История развития принципа добросовестности (Treu und Glauben) в период с 1900 по 1945 г.1
Принцип добросовестности (Treu und Glauben) в праве Германии является сегодня основополагающим принципом практически для всех правовых отношений — как между равными субъектами в частном праве, так и между лицами, находящимися между собой в отношениях власти и подчинения, в области публичного права. Знания о ходе исторического развития принципа добросовестности, о том, в каких общественных отношениях оно происходило, какие политические и экономические факторы на него влияли, помогут лучше понять эту новую и непростую для российского права категорию. В статье предпринята попытка теоретического осмысления принципа в первый период после принятия Германского гражданского уложения, рассказывается, какую роль в его развитии сыграла Первая мировая война и ее последствия и как это развитие происходило во времена Веймарской республики. На примере Германии времен национал-социализма показывается, как содержание принципа добросовестности может трансформироваться в тоталитарном государстве под влиянием политической идеологии.
Ключевые слова: принцип добросовестности, Treu und Glauben, Германское гражданское уложение, Германия
1Настоящая статья подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта по доктринальному обеспечению новелл ГК РФ.
63

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Kirill Nam
PhD in Law, LLM, Master of Private Law
History of the Good Faith Principle in Germany from 1900 till 1945
Today, the good faith (Treu und Glauben) principle in the law of Germany is a fundamental one in practically all legal relations between both equal subjects in private law and individuals in the context of relations of power and subordination in public law. The knowledge of historical development of this principle, understanding of social context in which it evolved and of political and economic factors that influenced it can help us get a better grasp of this new and non-trivial category in Russian law. The article looks into the theoretical thinking with regard to the good faith principle in the first period following the adoption of the Bürgerliches Gesetzbuch (the Civil Code of Germany). It then shows the role of World War I and its aftermath in the development of this principle and how the latter effloresced to the full in the Weimar Republic. Finally, using the example of the national socialist period in Germany, the article further demonstrates how the understanding of the good faith principle can be transformed under the influence of political ideology in a totalitarian state.
Keywords: good faith principle, Treu und Glauben, Bürgerliches Gesetzbuch, Germany
Снедавнего времени российский Гражданский кодекс содержит положения
опринципе добросовестности. Нам еще только предстоит понять и осознать в полной мере необходимость, значение и содержание этого принципа. На данном этапе отношение к нему порой является не самым доброжелательным. Неоднозначным было отношение к добросовестности и в Германии на протяжении всего периода существования нормы § 242 Германского гражданского уложения (ГГУ)2. Принцип добросовестности (Treu und Glauben) называли и необходимым аварийным клапаном, и суперревизионной нормой, а также именовали мертвой или пустой нормой. Опасность или, наоборот, полезность его применения по-разному оценивается в немецкой литературе в зависимости от той или иной точки зрения. Но то, что принцип добросовестности имеет непереоценимое значение не только для гражданского права, но и для всей правовой системы, в немецком праве уже не оспаривается.
Согласно господствующему сегодня бесспорному мнению, принцип добросовестности служит общим правовым принципом для самых разных областей права — обязательственного, вещного, трудового, семейного, процессуального и публичного3.
Нередко можно встретить высказывания, что § 242 ГГУ стал принципом, овладевшим всей правовой жизнью, или что он определяет всё частное и публичное право.
2«Должник обязан исполнить обязательство таким образом, как этого требует добросовестность [Treu und Glauben] с учетом обычаев оборота» («Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern»). ГГУ было принято Рейхстагом 01.07.1896, одобрено Бундесратом 14.07.1896, опубликовано 24.08.1896, вступило в силу с 01.01.1900.
3См.: Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts, Erster Band Allgemeiner Teil. München, 1987. S. 127.
64

Свободная трибуна
За подобными высказываниями лежит длительная история развития этого правового явления. Для лучшего понимания принципа добросовестности и его значения для правопорядка, который ему подчинен, будет полезно иметь представление об историческом развитии, становлении этого принципа в немецком праве.
1. Начало теоретического осмысления и влияние Первой мировой войны
1.1. Доктринальное наполнение принципа добросовестности (Treu und Glauben)
Первые годы после вступления в силу § 242 ГГУ прошли под знаком научных дискуссий о его правовом содержании. Общим было понимание того, что эта норма выполняет функцию регулирующего вмешательства в обязательственные отношения4. При этом в научных юридических кругах развивалось два подхода к определению оснований, объема и масштаба вмешательства в обязательственные отношения путем применения § 242 ГГУ5.
Теория, основанная на предполагаемой воле сторон
Согласно одному из подходов, § 242 как основание для судейского вмешательства в правоотношения сторон призван восполнять пробелы в регулировании обязательственных правоотношений тогда, когда стороны какие-либо вопросы не согласовали или не смогли согласовать и при этом отсутствуют диспозитивные нормы закона, с помощью которых можно было бы закрыть образовавшиеся пробелы.
Вслучае с внедоговорными обязательствами согласно данному подходу § 242 должен вступать в игру при отсутствии в законе положений, способных урегулировать конкретные вопросы.
Влитературе этот подход формулировался следующим образом: «Судья при использовании Treu und Glauben в обязательственных отношениях должен решать спор в вопросах, оставленных законом открытыми, таким образом, как это бы сделал законодатель. Это означает, что со строгим учетом фактических обстоятельств дела, исходя из соображений интересов обеих сторон, необходимо найти среднюю линию между противостоящими интересами сторон и на ее основании принять решение. При этом должны учитываться особенности обычаев оборота»6. При этом подчеркивалось, что согласно такому подходу словосочетание Treu und Glauben должно получить «ясные мысли» (klarer Gedanke) или, иными словами, четкое содержание7.
4См.: Schmidt J. Kommentar zum BGB mit Einfürungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse. Einleitung zu § 241–243. Auflage 13. Berlin, 1995. Rn. 55.
5См.: Looschelders D., Olzen D. Kommentar zum BGB mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse. Einleitung zum Schuldrecht § 241–243. Berlin, 2015. Rn. 39–40.
6Schneider K. Treu und Glauben im Rechte der Schuldverhältnisse des Bürgerlichen Gesetzbuches. München, 1902. S. 132.
7Ibid. S. 132.
65

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Если считать, что основанием для вмешательства в обязательственные отношения является необходимость закрыть пробелы в регулировании соответствующих отношений, появится понимание объема необходимого вмешательства. Имевшие место пробелы договорного и/или законодательного регулирования сами определяли степень вмешательства § 242. Поэтому создаваемые с помощью этой нормы правовые положения должны были иметь ровно тот объем, чтобы закрыть имеющиеся пробелы. В случае с договорными отношениями речь шла о создании как бы недостающих условий конкретного обязательственного правоотношения, но не общих диспозитивных правых норм8. В области же внедоговорных обязательств для конкретного правоотношения недостающие правила, которые законодатель упустил из виду, должны восполняться также с помощью § 157 («Толкование договоров») и 242 ГГУ9.
Основой для вмешательства с помощью § 242 и тем самым для легитимации созданных правовых положений в равной степени как для договорных, так и для внедоговорных отношений могла служить воля сторон. Ее содержание в договорных обязательствах подлежало определять путем толкования имевшихся договоренностей, а во внедоговорных отношениях — путем установления предполагаемой воли сторон обычных порядочных граждан10.
Преимущества данного подхода на первый взгляд могли показаться очевидными для разрешения пробелов в случае с договорными обязательствами. Может показаться логичным, что понятие «воля сторон», которой обосновывается возникновение и исполнение договорных отношений, также может объяснить применение
§242 ГГУ в целях закрытия пробелов в регулировании этих отношений. Правовым базисом здесь служит принцип автономии воли сторон, который в целом пронизывает и является сутью договорных правоотношений. Он же служит и своего рода ограничителем для злоупотреблений со стороны судьи, который при применении
§242 ГГУ связан рамками действительной или предполагаемой воли сторон.
Недостатком такого подхода была узкая сфера применения — лишь для закрытия пробелов в регулировании обязательственных отношений. Кроме того, его кажущаяся логичность вызывала сомнения при анализе легитимирующего основания в случае с внедоговорными правоотношениями. Внедоговорные обязательства основаны не на автономии воли сторон, а в большей степени на так называемых социальных оценках. Даже если исходить во внедоговорных обязательствах из предполагаемой воли сторон, то определяться она должна была в сравнении с «обычными порядочными гражданами». Сам же такой стандарт подлежал определению исходя из существующих в обществе его социальных оценок: «…что в соответствии с целями обязательственного правоотношения ожидаемо от порядочного и справедливо человека…»11, «понимание Treu und Glauben объясняется тем, что приписывает ему оборот»12.
8См.: Schmidt J. Op. cit. § 242. Rn. 59.
9См.: Schneider K. Op. cit. S. 202.
10См.: Schmidt J. Op. cit. § 242. Rn. 60.
11См.: Dernburg H. Die Schuldverhältnisse nach dem Rechte des deutschen Reichs und Preußens. 3. Auflage. Halle, 1905. S. 27.
12См.: Kohler J. Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts. Berlin, 1904. S. 535.
66

Свободная трибуна
То есть так или иначе пробелы в правовом регулировании внедоговорных обязательств объяснялись не через волю сторон, хоть и предполагаемую, а в конечном итоге через некие объективно существующие в обороте и в обществе подходы и ценности. Получалось, что в данном случае содержание § 242 ГГУ должно было бы пониматься двояко: в договорных отношениях пробелы ликвидировались с помощью принципа автономии воли сторон, а во внедоговорных — посредством существующих в обществе объективных стандартов, ориентированных на определенные социальные ценности. Подчеркивалось, что это делало сложным формулирование единообразного подхода к содержанию предписания § 242 ГГУ13.
Противники применения этой нормы лишь как правового средства для восполнения пробелов в обязательственных отношениях вменяли представителям этой теории в вину также то, что принцип Treu und Glauben, если судить по истории его появления в ГГУ, а также в более ранних кодификациях, включая Французский гражданский кодекс, по своему содержанию значительно шире14. Подчеркивалось, что даже в пояснительных материалах в процессе подготовки ГГУ указывалась цель принятия нормы: не просто выяснить с ее помощью обязательства сторон, а сформулировать важный практический принцип, который должен подчинить себе весь деловой оборот15. Как видно, главной проблемой данной теории было обоснование правила для вмешательства положений § 242 ГГУ и создания новых правовых положений.
Теория, основанная на социальных, нравственных ценностях
Сторонники теории предполагаемой воли сторон исходили из потребностей правового регулирования в конкретном деле. Обнаруживавшиеся потребности являлись причиной для применения положений Treu und Glauben. То есть необходимость восполнения выявленных пробелов в регулировании отношений сторон была первична, а применение Treu und Glauben являлось следствием. Необходимостью восполнения правового пробела в конкретной ситуации обосновывался объем и масштаб вмешательства в отношения сторон с помощью § 242. Критики этой теории, наоборот, отталкивались от потребности в легитимации новых правовых положений, которые создавались с помощью § 242 ГГУ. Затем делались попытки определить основания и объем вмешательства. При этом основа для вмешательства и тем самым легитимация новых правовых положений виделись в объективных социальных оценках.
Р. Штаммлер, являвшийся одним из основных представителей16 этой теории, задавался вопросами: что есть Treu und Glauben и какое правило здесь предполагается для разрешения спорных вопросов?17 Отвечая на них, он рассуждал следующим
13Schmidt J. Op. cit. § 242. Rn. 62.
14См.: Looschelders D., Olzen D. Op. cit. § 242. Rn. 45.
15См.: Hamburger M. Treu und Glauben im Verkehr. Mannheim, 1930. S. 4.
16В немецкой литературе указывалось, что правовые мысли Р. Штаммлера получили широкую поддержку в юридических научных кругах и все представители теории социальных ценностей их цитировали, см.: Schmidt J. Op. cit. § 242. Rn. 64; Looschelders D., Olzen D. Op. cit. § 242. Rn. 46.
17См.: Stammler R. Das Recht der Schuldverhältnisse in seinen allgemeinen Lehren. Berlin, 1897. S. 36.
67

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
образом. Закон не пытается самостоятельно решить спорный вопрос и не дает готовую формулу. Он передает эту проблему науке, которая должна развивать предложенное правовое содержание и находить пути решения конкретных вопросов. Ясно, что закон со ссылкой на Treu und Glauben указывает на необходимость разрешения гражданских споров объективным, четким и формально единообразным способом. Не должно подлежать сомнению, что Treu und Glauben в своем общем значении необходимо отличать от отдельных позитивных правовых норм. Не должны быть определяющими те или иные специальные правила, которые стороны установили заранее. Правило Treu und Glauben должно давать для конкретного случая объективно правильное решение, которое должно быть найдено и обосновано. Оно может в отдельных случаях даже предметно противоречить специальным позитивным правовым положениям18.
Таким образом, ключевым для правового содержания § 242 ГГУ должно быть определение того, что является объективно правильным для конкретного спорного случая. Каждое правовое требование той или иной стороны правоотношения не только должно объясняться отдельными договоренностями сторон и/или отдельными позитивными нормами закона и просто им формально соответствовать. Оно должно быть содержательно правильным и обоснованным. А это могло быть возможным, если бы рядом с формулировками закона стояли указания на необходимость соблюдения моральных норм19. Однако норм морали, разработанных специально для каждого случая, не имеется.
В связи с этим возникает вопрос: с помощью какого надежного метода могут быть найдены правовые положения, соответствующие нормам морали и тем самым представляющие собой объективно правильное решение в соответствии с принципом Treu und Glauben? Штаммлер видит его в том, что в конкретном случае, который должен разрешаться с учетом Treu und Glauben, необходимо обращаться к главной цели всего правопорядка, которой является правовое упорядочение отношений всех совместно проживающих индивидов. Собственно, и отдельные позитивные правовые нормы и правила как составные части правопорядка подчинены этой же цели. Совместное проживание индивидов — человеческое сообщество, основанное на взаимной любви и уважении каждого к каждому, согласно Штаммлеру, означает восприятие отдельным членом сообщества интересов другого члена в качестве собственных интересов20. Отсюда вывод, что конечной целью права и государства является сообщество свободных людей, основанное на их гармоничном совместном сосуществовании. Но поскольку такого идеального человеческого общежития в реальной жизни не существует, что это лишь цель, идеал, к которому право должно стремиться, то мерилом для оценки правовых отношений сторон должен выступать некий социальный идеал.
Подобное рассуждение в итоге дает следующее определение рассматриваемого принципа: Treu und Glauben является нормой для решения правового спора, которая в конкретных обстоятельствах дает правильное решение с точки зрения
18См.: Stammler R. Op. cit.
19Ibid. S. 39.
20Ibid. S. 41.
68

Свободная трибуна
социального идеала21. Категория социального идеала придает норме как бы объективный характер. Социально идеальными отношения могут быть, только если они соответствуют этому стандарту. Взвешивание и оценка противостоящих субъективных интересов и желаний сторон правоотношения должны производиться с точки зрения социального идеала. Судья должен принять такое решение, какое было бы принято при социально идеальных отношениях, когда каждая из сторон исходила бы не только из собственных интересов и целей, но также принимала бы интересы другой стороны.
Сторонники данной теории подчеркивали необходимость учитывать, что социальный идеал не всегда является одним и тем же. Поскольку фактических обстоятельств и видов правоотношений очень много, социальный идеал в принципе не может быть единообразным и объем необходимого применения принципа Treu und Glauben может различаться от ситуации к ситуации22.
Если придерживаться этой теории и стандарта социального идеала, то объем вмешательства в правоотношения сторон путем применения § 242 ГГУ будет следующим: сюда попадает вся область регулирования, на которую распространяются новые правовые положения, созданные посредством этого стандарта. Это не только области договорных и внедоговорных отношений, в которых сделками или законом оставлены правовые пробелы, но и урегулированные либо соглашением сторон, либо нормами права отношения. Последние должны проверяться на соответствие стандарту социального идеала.
Данная теория, как считается, имеет очевидные преимущества перед теорией предполагаемой воли сторон. Здесь в качестве правового инструментария выступала единообразная правовая модель, согласно которой в юридико-техническом смысле было понятно, как определить основание и объем вмешательства путем применения § 242 ГГУ в отношения сторон. Также этот подход в равной степени был логически оправдан как для договорных, так и внедоговорных правоотношений.
Однако теория социального идеала в силу ее излишней идеалистичности также вызывала критику в научных кругах. В литературе ее даже называют экстремальной23. Оценивая теорию социального идеала, современники Р. Штаммлера критиковали ее, указывая, что она лежит больше в сфере религиозных и нравственных обязательств, что «право не может ставить себе такие высокие цели», «цели Германского гражданского уложения так далеко не идут»24. Теория социального идеала является чрезмерной для практической правовой действительности25.
В силу излишней крайности теории социального идеала предлагались более мягкие определения значения Treu und Glauben: «Закон не имел в виду ничего другого,
21Ibid. S. 42–43.
22См.: Steinbach E. Treu und Glauben im Verkehr: Eine civilistische Studie. Wien, 1900. S. 22.
23Schmidt J. Op. cit. § 242. Rn. 63.
24Dernburg H. Op. cit. S. 26.
25Oertmann P. Recht der Schuldverhältnisse. Berlin, 1928. S. 27.
69

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
чем то, что судья должен руководствоваться тем, что в обязательстве согласно его целям и обычаям порядочный и справедливо мыслящий человек вправе ожидать от другой стороны»26; «Treu und Glauben является объективным мерилом, в соответствии с которым то, что согласно общему мнению противоречит порядочности в обороте, должно быть лишено судьей правовой силы и правовой защиты»27.
Как видно, и теория социального идеала, и другие в определенной степени схожие с ней подходы, основанные на внешнем масштабе оценки прав и обязанностей сторон в правоотношении, исходили из того или иного внешнего объективного стандарта, санкционированного § 242 ГГУ. Определения сущности этого положения с точки зрения внешнего объективного критерия оценки конкретных правоотношений имели, как уже было сказано, преимущества в юридико-техническом плане и в большей степени соответствовали тем целям и задачам, которые исторически, еще с кодификаций XIX в. и в процессе разработки ГГУ, придавались норме Treu und Glauben. Эти преимущества и определили то, что подходы, основанные на внешнем объективном масштабе, который, в свою очередь, базировался на определенных признаваемых социальных ценностях, получили в литературе статус господствующего мнения28.
Однако данные подходы имели один очевидный минус, который обсуждался еще на протяжении всего XIX в. известными немецкими правоведами29. Всякое применение права, в том числе определение того, какие общественные ценности признаны в определенный период, и соизмерение конкретного спорного случая с подлежащими учету социальными ценностями, отнесено к компетенции судьи. Здесь и проходит линия, которая отделяет правосудие от судейской ошибки или судейского произвола. Для локализации и решения данной проблемы единодушно было признано, что свобода усмотрения судей должна сопровождаться и контролироваться научной доктриной. Кроме того, предсказуемость решений спорных ситуаций на практике должна достигаться тем, что в науке (и прежде всего в комментариях) должны систематизироваться и описываться типовые случаи применения § 242 ГГУ30.
После вступления в силу ГГУ в период активных научных дискуссий о значении и сущности нормы Treu und Glauben внимание теоретиков было естественным образом обращено и к важной составляющей нормы § 242, а именно к обычаям оборота (Verkehrssitte), их роли в контексте всего правила, заложенного в этой норме.
Под обычаями оборота понимали такие обычаи, которые присущи обороту, преобладают в нем с точки зрения большего или меньшего количества людей, то, как
26Dernburg H. Op. cit. S. 26.
27Endemann F. Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts. Band I. Berlin, 1903. S. 592.
28Schmidt J. Op. cit. § 242. Rn. 69.
29Подробнее о проблеме судейского усмотрения при применении bona fides см.: Haferkamp H.-P. Histo- risch-kritischer Kommentar zum BGB. Band II: Schuldrecht. Allgemeiner Teil. 1. Teilband: vor § 241–§ 304. Tübingen, 2007. § 242. Rn. 41–44.
30Ibid. Rn. 65.
70

Свободная трибуна
оборот преимущественно осуществляется на практике31. Обычаи оборота подлежат учету вне зависимости от воли сторон. Это следует из императивности формулировки нормы § 242 ГГУ. То есть соглашение сторон о неподчинении их отношений обычаям оборота не препятствует обязательности учитывать эти обычаи при оценке спорной ситуации с точки зрения Treu und Glauben. Это следует также из того, что вся норма § 242 ГГУ является императивной и не может быть исключена сторонами из правового регулирования их отношений.
Обычаи оборота различны в зависимости от времени и места32. Treu und Glauben и обычаи оборота не равнозначны — последние сами по себе не относятся к категориям порядочности или нравственности33. В этом смысле обычаи оборота не представляют собой какой-то социально-этический принцип, в большей степени они являются фактически существующим в обороте порядком, которого судья должен придерживаться при отсутствии более специальных норм. Обычаи оборота не являются правовыми нормами в узком смысле, так как имеют значение только при учете их в процессе применения Treu und Glauben.
Ссылка § 242 ГГУ o Treu und Glauben означает формальное направление, куда должно двигаться решение судьи при рассмотрении им спорного случая. Обычаи же оборота помогают обнаружить необходимый для оценки правоотношений фактический материал. В этом смысле они ни в коем случае не являются формулой для окончательного решения спора34. То есть спор не должен быть обязательным образом решен так, как это решалось бы только с помощью обычаев оборота. Они служат критерием для оценки обязательственных отношений, но не единственным35. Учет обычаев оборота призван облегчить конкретизацию обязанности, подлежащую исполнению в соответствии с Treu und Glauben.
Смысл правовых норм, подлежащих применению на основании § 242 ГГУ, подлежит определению согласно Treu und Glauben с учетом обычаев оборота. То есть обычаи оборота сами по себе выступают важным вспомогательным средством при толковании позитивных правовых положений36. Требование учета фактических обстоятельств призвано помочь правоприменению. С помощью обычаев оборота легче выяснить масштаб Treu und Glauben в конкретной ситуации. В литературе подчеркивается, что если закон не будет учитывать фактические жизненные обстоятельства, в том числе обычаи оборота, то это не будет соответствовать интересам оборота, может приводить к чуждым ему результатам37. Указывается также, что обычаи оборота выполняют как бы руководящую функцию в отношении Treu und Glauben, что если Treu und Glauben — это текущая вода, то
31См.: Oertmann P. Rechtsordnung und Verkehrssitte insbesondere nach Bürgerlichem Recht. Leipzig, 1914. S. 32.
32См.: Dernburg H. Op. cit. S. 26.
33Ibid. S. 28.
34См.: Steinbach E. Op. cit. S. 13.
35См.: Dernburg H. Op. cit. S. 28.
36См.: Oertmann P. Rechtsordnung und Verkehrssitte. S. 369–370.
37Ibid. S. 374.
71

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
обычаи оборота можно сравнить с соcудом, в котором эта вода только и может быть осязаема38.
Первые годы после вступления в силу ГГУ и, соответственно, норм о Treu und Glauben охарактеризовались широкими научными дискуссиями о норме § 242. Именно в это время были заложены значительные теоретические основы о понятии, значении и роли данного правила.
Начало применения § 242 ГГУ в судебной практике
Позитивное закрепление принципа Treu und Glauben в ГГУ не только породило научный интерес к данной правовой категории, но и стало основанием для его применения на практике в судебных делах. Если сначала количество дел, в которых
§242 использовался в качестве обоснования сделанных выводов, было невелико39, то уже спустя несколько лет после вступления ГГУ в силу оно значительно выросло. Широко распространенная в литературе теория признанных социальных ценностей оказала существенное влияние на подходы судебной практики. Суды начали применять § 242 ГГУ не только для восполнения пробелов в правовом регулировании, но и для широкого контроля и исправления содержания правоотношений. Наряду с восполнением пробелов и конкретизацией договорных обязанностей, а также дополнением диспозитивных законодательных норм Имперский суд корректировал договорные и даже законодательные нормы. Развитие практики применения § 242 характеризуют высказывания в одном из решений Имперского суда в 1914 г.: «Система ГГУ пронизана принципом Treu und Glauben <…>
§157, 226, 242, 826 являются лишь особым выражением общего принципа <…> Принцип подчиняет все отдельные нормы и должен придавать им живое действие через разъяснение, расширение, дополнение или ограничение отдельных дословных формулировок»40.
1.2.Влияние Первой мировой войны на развитие принципа добросовестности
Первая мировая война оказала значительное влияние на немецкое частное право41. Тяжелая экономическая ситуация не могла не отразиться на правоприменении в этот период. Экономическая блокада Германии и ограничение ее экспорта со стороны стран Антанты и их союзников имели огромное негативное значение для всей экономики Германии42, приведя к потерям от внешней торговли и необходимости внутреннего производства выпадающих товаров и оборудования. Это влек-
38Al-Shamari N. Die Verkehrssitte im § 242: Konzeption und Anwendung seit 1900. Tübingen, 2006. S. 70.
39Первое решение Имперского суда было датировано 25 апреля 1901 г.
40Цит. по: Looschelders D., Olzen D. Op. cit. § 242. Rn. 52.
41См.: Dörner H. Erster Weltkrieg und Privatrecht. Rechtstheorie Band 17. Berlin, 1986. S. 401.
42См.: Emmert J. Auf der Suche nach den Grenzen vertraglicher Leistungspflichten. Die Rechtsprechung des Reichsgerichts 1914–1923. Tübingen, 2001. S. 248–249.
72

43
44
Свободная трибуна
ло громадные финансовые затраты. Существенно изменились внутренние рынки
иструктура спроса и потребления. Частное потребление в этот период упало до минимума, до удовлетворения только основных потребностей. Производители
иторговцы пытались расторгать договоры со своими поставщиками, поскольку сильно снизившийся спрос сделал ненужными закупленные и заказанные товары. Переориентация спроса на основные необходимые товары не могла не вызвать их дефицита. Вместе с тем резко увеличился спрос на товары, связанные с войной и военным временем, но в силу дефицита необходимых товаров он не мог быть удовлетворен из-за недостатка производственных мощностей на предприятиях, еще не успевших переориентироваться на военное производство. Данные экономические пертурбации не могли не отразиться на правоприменении.
Поначалу судебная практика продолжала решать возникшие вследствие войны и изменившихся экономических обстоятельств споры с помощью правовой догматики мирного времени. Кто должен был поставлять товар по довоенным ценам, тот должен был делать это, хотя актуальная стоимость товара уже превышала оговоренную еще до войны цену в несколько раз. Кто должен был платить за товар по договору, заключенному до войны, должен был это делать, несмотря на то, что в силу изменившихся обстоятельств товары ему были не нужны и использовать их в силу новых обстоятельств он уже не мог. Правовой формализм в первый период войны имел приоритет. Стороны не имели возможности освободиться или изменить ставшие для них неприемлемыми условия договора. Не признавались ни отказ от договора в силу изменившихся обстоятельств, ни расторжение договора на основании существенных обстоятельств, ни невозможность исполнения вследствие недоступности места исполнения, ни отказ от исполнения обязательств со ссылкой на Treu und Glauben43.
Такой подход (business as usual), оформлявшийся посредством правового формализма, проявлялся через так называемые оговорки о войне. Если в договоре, заключенном до войны, содержалось условие, что сторона освобождается от обязательств в случае войны, то она освобождалась от своих обязанностей, хотя необходимые товары у нее были на складах в достаточном количестве, а покупатель срочно и чрезвычайно нуждался в этих товарах. И наоборот, если такой оговорки не было, то продавец обязан был поставить товары по тем ценам, что были согласованы до начала войны. Обязанность эта сохранялась лишь в силу того, что товар, определенный родовыми признаками, в принципе мог быть поставлен, но при этом не учитывались обстоятельства продавца и то, что исполнение для него стало неприемлемым44.
Ситуация начала меняться с середины войны, когда стало ясно, что она быстро не закончится, в то время, когда экономические катаклизмы становились все масштабнее. Пришло понимание, что изменение обстоятельств ставит стороны договоров в совершенно иные условия. Принцип рacta sunt servanda не должен вести к тому, что договор сохраняется в неизменном виде при полностью изменившихся обстоятельствах, которые стороны не могли предвидеть до заключения договора. В судебных решениях стали появляться в качестве аргументов такие формулиров-
См.: Dörner H. Op. cit. S. 398–399.
Ibid. S. 399.
73

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
ки: «…все перемалывающая мировая война, до которой вся предыдущая жизнь не знала ничего подобного…»45.
Характерны оценки изменения подходов в правоприменении правовых процессов того периода: «Экономическая необходимость берет вверх над верностью буквальному смыслу. Анализ интересов берет вверх над позитивистскими конструкциями. Содержательная договорная справедливость берет вверх над формальными обязанностями. Догматическая эпоха подходит к концу»46. В судебных решениях «стал чувствоваться другой климат, а именно климат готовности к размышлениям, которые больше не находили опоры в формальных нормах закона»47. В итоге судебная практика начала отходить от подхода, согласно которому судья не в состоянии был смягчить жестокость военного времени и найти решение, уравнивающее интересы сторон договора. В решении Имперского суда от 21.09.1920 № III-143/20 указывалось, что тотальное изменение экономических отношений воздействует на существующие договоры таким образом, что интересы одной из сторон договора в его прекращении должны рассматриваться как обоснованные, когда дальнейшее сохранение договора для этой стороны является более экономически неприемлемым. Право требования исполнения обязанности из договора отпадает, если обязательство в силу полностью изменившихся обстоятельств стало экономически иным, чем то, из которого стороны исходили первоначально. Правовой основой для такого подхода в решении назывались § 242 и 157 ГГУ.
Влитературе подчеркивалось, что нормы о Treu und Glauben получили применение в основном в области изменения обязанностей участников правоотношений и адаптирования условий договоров к изменившимся обстоятельствам48, а также в вопросах толкования договоров49.
Ввоенное время были широко распространены договоры, обязательные для заключения. В первую очередь это договоры, стороной которых являлось государство, и договоры для государственных нужд. Страна, находящаяся в состоянии войны, не может не прибегать к планово-экономическим мерам. В связи с этим в правоприменении поднимался вопрос о соотношении таких договоров как с ограничением принципа свободы договора и автономии воли сторон (ограничение права заключать или не заключать договор, права свободно определять условия договора), так и с нормами о Treu und Glauben. В итоге явные перекосы, образовывавшиеся в результате ограничения свободы договора и автономии воли, нередко смягчались посредством применения судами § 242 ГГУ50. Так, посредством Treu
45Решение Имперского суда от 15.10.1918 № III-104/18.
46См.: Dörner H. Op. cit. S. 400–401.
47Nörr K.W. Der Richter zwischen Gesetz und Wirklichkeit. Die Reaktion des Reichsgerichts auf die Kriesen von Weltkrieg und Inflation, und die Entfaltung eines neuen richterlichen Selbstverständnisses. Heidelberg, 1996. S. 10.
48См.: Looschelders D., Olzen D. Op. cit. § 242. Rn. 53.
49См.: Haferkamp H.-P. Op. cit. Rn. 66.
50См.: Nipperdey H.C. Kontrahierungszwang und diktierter Vertrag. Jena, 1920. S. 140–141.
74

Свободная трибуна
und Glauben в подобных договорах решались вопросы приемлемости исполнения обязательства для должника. В силу обязательности договора освобожден он от своих обязательство, как правило, быть не мог, но зато допускалось определенное изменение условий контракта.
Военное время показало наличие многих правовых пробелов, с которыми сталкивались судьи. Последние при правоприменении были предоставлены в тех условиях сами себе. В юридических кругах стало распространенным мнение, что при отсутствии достаточного времени и без необходимых консультаций находимое правовое решение не обязательно должно соответствовать букве закона, что право может применяться по возможности свободно, исходя из целей правового регулирования51.
Первая мировая война стала вынужденным толчком к повороту в праве от позитивистской юриспруденции к юриспруденции интересов. В этом направлении немецкое право развивалось и дальше. Здесь уместны высказывания известного немецкого правоведа Р. фон Йеринга, сделанные им еще в 1852 г.: «Война может оказать на развитие права очень полезное воздействие. Это может звучать парадоксально, но это так. Война в правильное время может за несколько лет привнести большее развитие, чем столетия мирного времени»52.
Таким образом, война и вызванные ей кардинальные изменения общественных и экономических отношений потребовали от права соответствующих изменений в подходах к правовому регулированию изменившихся отношений. Позитивноправовое регулирование в силу своей инертности не могло своевременно и адекватно отвечать на появившиеся вызовы. Но наличие закрепленного в законе принципа добросовестности и определенная теоретическая база позволили немецкому правопорядку в рамках имеющихся правовых норм обеспечить более гибкое правовое регулирование.
2. Период Веймарской республики как важнейший этап развития принципа добросовестности (Treu und Glauben)
Послевоенный период характеризовался в праве в значительной степени обработкой и ликвидацией последствий военного времени. Тотальная перетряска экономических и социальных отношений повлекли за собой масштабное развитие в применении принципа добросовестности, с помощью которого правоприменение пыталось исправить все те перекосы, прежде всего в экономике, которые были вызваны войной. В этот период судебная практика начала широко использовать § 242 ГГУ, задачи же литературы во многом сводились к фиксации, систематизации и обобщению применения принципа добросовестности.
51См.: Dörner H. Op. cit. S. 391.
52Jhering R., von. Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. 5. Auflage. Teil 1. Leipzig, 1891. S. 245.
75

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
2.1. Борьба за индексацию требований, обесценившихся вследствие инфляции
Инфляция, обесценивание национальной валюты, снижение покупательной способности поставили судебную систему перед проблемой адаптации договорных обязательств к изменившимся обстоятельствам. Большое значение в условиях растущей гигантскими прыжками инфляции сыграла так называемая борьба за индексацию (Aufwertungskampf). Для переживших ее юристов она была незабываемым драматическим представлением, остро показавшим противоречие между ius strictum и aequitas53. Строгое право при этом было представлено валютным законом, основанным на принципе номинальности денежной единицы — «марка равна марке». За справедливостью же стоял миллионный хор ограбленных кредиторов. Апогеем этой борьбы стало заявление судейского объединения при Имперском суде о том, что суды откажутся применять постановление правительства, запрещающее индексацию имущественных требований.
Эта юридическая эпопея берет начало еще в ранний период Первой мировой войны. Немецкому государству для ведения войны требовались огромные финансовые средства, которые оно решило привлекать через займы, в том числе у собственного населения. Для получения дополнительных денежных средств власти решили также включить печатный станок и увеличить объем денежной массы. Для этого в начале войны в августе 1914 г. был принят закон об отмене так называемого золотого стандарта, об отмене необходимости обеспечения национальной валюты золотым запасом. Это открыло дорогу неконтролируемой эмиссии денег. Война виделась немецким правителям краткосрочной, заимствованные средства планировалось отдавать за счет бонусов от победы. Когда же стало понятно, что война проиграна, печатание денег для закрытия дыр и долгов приобрело катастрофический характер. Если государству было выгодно погашать свои долги по номиналу, то для других участников оборота, т.е. частных лиц, имевших денежные требования, это означало полный крах. В ноябре 1923 г., чтобы при обмене валюты получить 1 долл., необходимо было отдать 4 трлн марок. Указывалось, что по любым обязательствам, по которым кредиторы получали удовлетворение, на вырученные средства они не могли себе купить даже бутерброд54. При этом государство бездействовало. Поскольку финансирование военной кампании велось не за счет налогов, а за счет займов у собственного населения, то само государство было крупнейшим должником и ни в коей мере не было заинтересовано в индексации денежных требований. В этой ситуации жертвам инфляции оставалось надеяться только на судебную систему.
Имперский суд, однако, первое время не вмешивался, «не желая выходить за рамки судейской компетенции, так как регулирование валюты в развитых народных экономиках относится к решениям законодателя о рамочных условиях функционирования экономики»55. Суды поначалу четко придерживались принципа валютного закона («марка равна марке»). «Никто не может упрекнуть Имперский суд в том,
53Hedemann J.W. Die Flucht in die Generalklauseln. Eine Gefahr für Recht und Staat. Tübingen, 1933. S. 11.
54См.: Nörr K.W. Op. cit. S. 16.
55Ibid. S. 16–17.
76

Свободная трибуна
что он поспешно и необдуманно отменил правило «марка равна марке». Медленно и осторожно признавалась необходимость индексации применительно к отдельным областям права. Но все решительней и шире находил применение данный подход»56. Однако последующее понимание того, что государство не придерживается правил игры, а также «гнев от растущей аморальности валютных правил, инстинктивное чувство того, что над писаным правом есть высшая справедливость, желание помочь и сломать заклинание старого закона»57 привели к радикальному изменению отношения судебной системы к данной проблеме.
Поворотным считается известное решение Имперского суда от 18.11.1923 по делу V 31/23. Ключевым вопросом, ответ на который должен был дать суд, было то, может ли кредитор по ипотечному займу вследствие сильного обесценивания денег потребовать индексации своих требований, чтобы иметь право отклонить погашение долга по номинальной стоимости. Суд, размышляя над природой заемных отношений, отметил, что в договорах займа также предполагается равность основной обязанности и встречного удовлетворения58. При этом оценивалась не соразмерность процентов по займу, а соразмерность переданного первоначально исполнения (выданный заем) с подлежащим возврату через длительное время имуществом (возврат займа). Возвращаемое должно быть равно полученному. Тем самым была проведена параллель между заемными правоотношениями и классическими синаллагматическими обязательствами. После выдачи займа интерес заимодавца состоит в получении назад имущества такой же ценности, что им было передано, а не номинальной суммы, никак не соответствующей по своей ценности тому, что им было передано.
С гражданско-правовой точки зрения препятствий для такого подхода у суда не было, но он противоречил нормам валютного закона. Суд указал, что в данном случае возникает конфликт между предписаниями валютного закона и законодательными положениями о том, что должнику следует исполнить свои обязательства таким образом, чтобы это согласовывалось с требованиями Treu und Glauben, а именно с предписанием § 242 ГГУ, которому подчинена вся правовая жизнь. Встав на сторону кредитора, суд указал, что в данном конфликте приоритет должно иметь предписание § 242 ГГУ, а нормы валютного закона применяться не должны.
Таким образом, суд в противостоянии императивной нормы закона из сферы публичного права с принципом гражданского права о добросовестности отдал предпочтение последнему. В литературе того времени указывалось, что это редкое историческое событие как минимум для Германии, когда «основополагающий закон был убран посредством судебной практики»59. Также звучали высказывания о том, что «публично-правовой закон был выброшен за борт с помощью граждан- ско-правовой генеральной оговорки § 242»60. При этом характеризовался данный
56Die Eingabe des Vorstandes des Richtervereins beim Reichsgericht vom 08.01.1924 in: Deutsche Richterzeitung 1924. S. 7.
57Hedemann J.W. Reichsgericht und Wirtschaftsrecht. Ein Bild deutscher Praxis. Jena, 1929. S. 185.
58См.: Emmert J. Op. cit. S. 399–400.
59Hedemann J.W. Reichsgericht und Wirtschaftsrecht. S. 184.
60Hedemann J.W. Die Flucht in die Generalklauseln. S. 12.
77

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
подход как своевольный61, хоть и сформулированный по причине крайней нужды. Сам суд, осознавая значение своего решения, попытался несколько сгладить возможные непредсказуемые последствия, сформулировав оговорку, что выводы по данному делу не касаются вопросов допустимости индексации в других ипотечных требованиях. Однако § 242 ГГУ стал более широко использоваться в судебной практике для исправления перекосов в отношениях, образовавшихся из-за войны и ее последствий.
При оценке социального значения данного решения указывалось, что суды начали распределять последствия проигранной войны равномерно между держателями денежных средств и держателями материального имущества62. Тем самым могли предотвращаться ситуации, когда полное обесценивание национальной валюты приводило, по сути, к неосновательному обогащению одной стороны по отношению к другой в двусторонних обязательствах63.
Однако для правительства Германии данное решение Имперского суда имело эффект разорвавшейся бомбы64 и повергло его в смятение. Правительство по большому счету не заботили ни гражданско-правовые принципы, ни принципы валютного права. Решение Имперского суда об индексации в качестве прецедентного судебного акта высшей судебной инстанции затрагивало государство как самого крупного должника — заемщика по заемным обязательствам. Война финансировалась в основном за счет займов и эмиссии денег, и погашение государственных займов по номинальной стоимости посредством обесцененной денежной массы было, безусловно, в интересах правительства. В связи с этим решение Имперского суда, хоть и вынесенное по конкретному делу и по спору между частными лицами, вызвало у правительственных чиновников обоснованные опасения, что аналогичная судебная практика может быть распространена и на государственные займы, государственные долги65.
Уже 15 декабря 1923 г., т.е. спустя всего две с половиной недели после нашумевшего решения Имперского суда, министр финансов Г. Лютер представил на комитете по экономике проект так называемого третьего чрезвычайного постановления правительства, в котором содержались положения о том, что «кредиторы, имевшие требования в рейхсмарках, не имеют права требовать повышения размера своих требований, если только не имеется явно выраженных соглашений о том, что сумма требования может быть впоследствии повышена исходя из соответствующей инфляции»66. Это положение явно было призвано нейтрализовать непонравившееся чиновникам решение суда. В литературе не без сарказма подчеркивалось, что
61См.: Hedemann J.W. Reichsgericht und Wirtschaftsrecht. S. 184.
62См.: Nörr K.W. Op. cit. S. 17.
63См.: Emmert J. Op. cit. S. 403.
64См.: Holtfrerich C.-L. Die deutsche Inflation 1914–1923. Ursachen und Folgen in internationaler Perspektive. Berlin, 1980. S. 301.
65См.: Emmert J. Op. cit. S. 404.
66Akten der Reichskanzlei, Weimarer Republik. Die Kabinette Marx I und II. Band 1: November 1923 bis Juni 1924. Nr. 25. S. 108. Fn. 1.
78

Свободная трибуна
министр финансов мог бы в равной степени сформулировать это положение следующим образом: «Кредиторы, которым согласно судебной практике Имперского суда дано право требовать индексации своих требований, требовать этого не имеют права»67. Это постановление правительства, принятое спустя два месяца, называли важнейшим вмешательством в гражданское право со времени принятия ГГУ68.
Объективности ради необходимо сказать, что в самом правительстве не все были за принятие этого постановления. Так, министр юстиции О. Эммингер предупреждал о негативных последствиях дезавуирования решения высшего суда: «Как показывают многочисленные заявления правительства, права требования, об индексации которых идет речь, находятся в большом объеме в руках беднейших слоев населения, которых инфляция застигла врасплох и которые не в состоянии были своевременно реализовать свои требования». «Запрет права на индексацию можно обозначить в правовом смысле как экспроприацию без необходимой компенсации»69. Он также указывал на то, что большая часть держателей обесценившихся долгов была, по сути, принуждена к приобретению долговых бумаг, а запрет индексации и погашение долгов по номинальной стоимости в связи с этим на руку в первую очередь государству как основному должнику.
Запрет на индексацию денежных требований через государственный нормативный акт вызвал острую реакцию в судейском сообществе. В разгар дебатов о планируемом в правительстве запрете с резким заявлением выступило руководство объединения судей при Имперском суде70 с угрозой неприменения судами спорного постановления: «Дальнейшее соблюдение правила о том, что марка равна марке, может привести к огромнейшей несправедливости, что недопустимо в правовом государстве. <…> Принцип Treu und Glauben не ограничен отдельным законом или отдельным позитивно-правовым регулированием. Ни один правопорядок, который заслуживает почетно именоваться правовым, не может существовать без этого принципа. <…> Запланированная мера может рассматриваться как противоречащая Конституции экспроприация. <…> Если к тому придет, что кто-то в споре будет ссылаться на данную новую норму, это будет отклонено с обоснованием, что такая ссылка нарушает принцип Treu und Glauben».
Выступление руководства профессионального судейского объединения стало апогеем негласной борьбы судейского корпуса с органами власти в вопросах смягчения последствий гиперинфляции для участников гражданского, экономического оборота. Этот неслыханный в немецкой истории демарш мог вызвать не имевший примеров политический и юридический кризис71. Острая реакция не заставила себя ждать. Критический ответ был опубликован министром юстиции: «…это может при-
67См.: Emmert J. Op. cit. S. 405.
68Weber W. in: J. v. Staudingers Kommentar zum BGB. II. Band. Recht der Schuldverhältnisse Teil 1b § 242. 11. Auflage. Berlin, 1961. Rn. F17.
69Akten der Reichskanzlei, Weimarer Republik, Die Kabinette Marx I und II. Band 1. Nr. 48. S. 195–196.
70См.: Заявление правления объединения судей при Имперском суде от 08.01.1924 (Deutsche Richterzeitung. 1924. S. 7).
71См.: Nörr K.W. Op. cit. S. 19.
79

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
вести к распаду правового порядка и к необратимым потрясениям государственного устройства, если бы суд взял себе право не применять принятый в соответствии с Конституцией закон»72. Схожим образом высказался и председатель сената Имперского суда: «Озабоченность объединения судей вызвало недоумение в судейских кругах. Подобная судебная практика, без сомнений, является незаконной и противоречащей Конституции»73. Сам же Имперский суд спустя короткое время после письма судейского объединения в решении от 24.01.1924 № III 882/22 явно дистанцировался от нашумевшего заявления. В деле речь шла о действительности одного из постановлений правительства. Среди прочего аргументировалось, что оспариваемое постановление несовместимо с добрыми нравами и противоречит принципу добросовестности. Суд на это указал, что он не рассматривает эти аргументы, так как судья в принципе не уполномочен говорить о применимости или неприменимости закона из-за его содержания, если он принят в установленном порядке.
Пик этого противостояния был отражен и в литературе того времени: «Опасность так называемой юриспруденции добросовестности заключается в том, что, если встанешь на этот путь, уже не будет возможности остановиться»74.
В итоге нашумевшее постановление правительства было принято, но в нем законодатели попытались показать определенный, хоть и символический, компромисс — была установлена возможность индексировать некоторые требования на 15%. Кредиторы, естественно, не могли быть удовлетворены таким решением. Затем в 1925 г. был принят закон об индексации, позволявший увеличивать требования на 25%, что также не могло оправдать ожиданий кредиторов.
Как бы то ни было, крайняя позиция, выраженная в заявлении руководства объединения судей, была в последующем в судебной практике существенно смягчена. Суды в дальнейшем в большей степени делали упор на соответствие нормативного акта положениям Конституции и на конституционные права, в том числе ст. 153, гарантирующую неприкосновенность собственности, на которую также ссылалось руководство объединения судей в своем нашумевшем заявлении75. Судейская свобода по отношению к закону, долгое время расширявшаяся, была ограничена самими же судьями76.
2.2.Расширение применения принципа добросовестности
Влитературе подчеркивалось, что развитие судебной практики в период Веймарской республики показало полное восприятие судами теоретических разработок
72Deutsche Richterzeitung 1924. S. 40–41.
73Ibid. S. 41.
74Hedemann J.W. Die Flucht in die Generalklauseln. S. 10.
75См.: Nörr K.W. Op. cit. S. 22–23.
76Ibid. S. 31.
80

Свободная трибуна
о принципе добросовестности, сделанных в первый период после принятия ГГУ77. Указывалось также, что из борьбы за индексацию обесценившихся требований суды вышли намного сильнее, со значительно большей готовностью применять § 242 ГГУ и регулировать с его помощью правовые отношения78.
Сам принцип добросовестности, как описывалось в литературе того времени, стал пониматься как общий правовой принцип, представляющий собой имманентную позитивным правовым нормам основу79. Если правовая норма при ее применении в конкретном случае соответствует данному общему принципу, то правовое регулирование на этом заканчивается. Если же применение нормы приводит в конкретном случае к противоречащему данному принципу результату, то он должен быть заменен на такой правовой результат, который соответствует принципу добросовестности. При этом положение § 242 ГГУ не представляет собой норму общего характера, имеющую приоритет над нормой специальной. Оно как бы пронизывает собой всю совокупность норм позитивного права. Подчинение отдельных норм принципу добросовестности нужно понимать именно в этом смысле.
Развитие применения судами принципа добросовестности получило в военный и послевоенный период колоссальный размах. Существенное количественное увеличение судебных дел, в которых классические споры в сфере обязательственных отношений (содержание обязательства, исполнение обязанностей) решались с помощью применения принципа добросовестности, привело и к качественному изменению сферы применения правил о добросовестности.
Первым направлением стало то, что суды в большей степени стали применять § 242 ГГУ в делах, в которых решение ранее находилось с помощью применения иных норм по аналогии или еще не было устойчивой практики применения либо аналогичных норм, либо непосредственно принципа добросовестности. Так, обязанность информирования контрагента как общая дополнительная договорная обязанность сначала выводилась при помощи применения по аналогии отдельных норм, например о том, что поверенный в договоре поручительства должен информировать об исполнении своих обязательств. Затем суды начали говорить, о том, что из норм по аналогии можно вывести общее правило об обязанности информирования друг друга сторонами договора. В итоге для обоснования такой обязанности суды стали ссылаться только на § 242 ГГУ. Еще пример: возражения против требований недобросовестного кредитора сначала обосновывались судами на основании применения различных норм по аналогии, в том числе нормы о ничтожности сделок, противоречащих добрым нравам, а затем суды такие возражения признавали в общем, но не готовы были обосновывать их только с помощью принципа добросовестности. В конце концов и для этого суды стали ссылаться лишь на § 242 ГГУ. К 1930-м гг. не в последнюю очередь судебной практикой в обязательственном праве были сформированы многие правовые институты. Это, например, получившие в дальнейшем большое распространение и общее признание так называемые дополнительные обязанности сторон обязатель-
77См.: Schmidt J. Op. cit. § 242. Rn. 78.
78См.: Looschelders D., Olzen D. Op. cit. § 242. Rn. 58; Schmidt J. Op. cit. § 242. Rn. 79.
79См.: Hamburger M. Op. cit. S. 10–11.
81

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
ства (Nebenpflichten), обязательства сторон в преддоговорных отношениях (culpa in contrahendo), правила о злоупотреблении правами и недопустимом осуществлении прав (Rechtsmissbrauch und unzulässige Rechtsausübung), различные случаи изменения или отпадения основания сделки.
Вторым направлением развития принципа добросовестности стало распространение сферы его применения на новые правовые области в других сферах частного права, таких как вещное, трудовое, торговое право, право об обществах, страховое, авторское, процессуальное право. Применение принципа добросовестности в дальнейшем не ограничилось и сферой частного права. § 242 ГГУ стал применяться в целом и в публично-правовых областях, таких как административное право и право государственного управления, налоговое право, право, регулирующее отношения госслужбы, и др.80
В юридической литературе этого периода основной задачей было фиксирование и изучение большого количества решений судов по применению § 242 ГГУ и обоснование их с помощью имевшихся доктринальных положений. Объем комментариев рос пропорционально развитию судебной практики. Если, например, в комментарии Планка в 1914 г. принципу добросовестности было посвящено всего 7 страниц, то в вышедшей в 1930 г. книге М. Гамбургера81, посвященной принципу добросовестности, было уже без малого 300 страниц.
На фоне существенного возрастания значения принципа добросовестности для целого комплекса правоотношений исследователи отмечали уменьшение роли обычаев оборота, снижение внимания к ним в контексте применения подходов, основанных на принципе добросовестности. В одном из исследований, посвященных обычаям оборота в контексте нормы § 242, указывалось, что в судебной практике в период со вступления ГГУ в силу и до 1932 г. они играли лишь маргинальную роль82. В качестве причин, почему обычаи оборота не получили того значения, которое задумывалось разработчиками ГГУ, называлось то, что при разработке нормы оно не было до конца правильно понято. Видимо, вследствие этого обычаи оборота и не были признаны судебной практикой.
2.3. Области применения принципа добросовестности в обязательственном праве
Дополнительные обязанности и учет интересов другой стороны
Основным принципом исполнения договора должно быть правило, что каждая сторона договора в соответствии с § 242 ГГУ должна учитывать известные ей особые интересы другой стороны и действовать таким образом, чтобы избежать причинение ей вреда. В противном случае при умышленном или неосторожном нарушении та-
80См.: Looschelders D., Olzen D. Op. cit. § 242. Rn. 62.
81См.: Hamburger M. Op. cit.
82См.: Al-Shamari N. Op. cit. S. 133.
82

Свободная трибуна
кой дополнительной обязанности нарушившая ее сторона должна будет возместить другой стороне причиненные этим убытки83. Правовой институт дополнительных обязанностей, выведенный из принципа добросовестности, содержащегося в § 242 ГГУ, получил в 2002 г. в процессе реформирования немецкого обязательственного права самостоятельное правовое оформление в абз. 2 § 241 ГГУ.
Сulpa in contrahendo
Принцип добросовестности требует, чтобы каждая сторона, участвующая в переговорах по заключению соглашения, учитывала обоснованные и известные ей интересы другой стороны. Правовым основанием для ответственности за culpa in contrahendo является § 242 ГГУ84. В 2002 г. этот институт получил собственное регулирование в § 311 ГГУ.
Правила о злоупотреблении правами и недопустимом осуществлении прав
Принцип добросовестности касается не только способов исполнения обязательств, — он представляет собой ограничение формально имеющихся у сторон прав. Тот, кто последующим поведением противоречит своему прежнему поведению и тем самым нарушает доверие другой стороны, не вправе ссылаться на свое формально существующее право по отношению к другой стороне85. Недобросовестное или недопустимое осуществление права является существенным для правового положения не только должника, но и кредитора. Должник не должен исполнять свои обязательства, если они для него неприемлемы в силу принципа добросовестности. При этом неприемлемость исполнения может заключаться в том, что поведение кредитора противоречит его предыдущим действиям или нормам закона86. При этом М. Гамбургер на основе анализа судебной практики, в полной мере признавшей exceptio doli, выделяет несколько видов87 возражений против недобросовестного или недопустимого осуществления права другой стороной:
1)возражение против заявления об истечении срока давности: если должник своим поведением давал кредитору повод полагаться на то, что исполнение им будет произведено, что со стороны кредитора не требуется совершения действий по прерыванию срока давности, например предъявление иска, то в суде должник не вправе ссылаться на пропуск кредитором срока исковой давности;
2)возражение против недобросовестной ссылки на недействительность требования на основании пороков формы сделки: если рассматриваемая сделка требует определенной формы и одна из сторон выразила готовность ее соблюсти, а другая сто-
83См.: Hamburger M. Op. cit. S. 61.
84Ibid. S. 138–139.
85Ibid. S. 103.
86Ibid. S. 19–20.
87Ibid. S. 107–116.
83

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
рона заверила ее в отсутствии такой необходимости, то эта последняя не вправе ссылаться на недействительность сделки из-за несоблюдения ее формы;
3)возражение против заявления о запрете зачета денежного требования: в отношении требования работника о выплате зарплаты не может быть произведен зачет требования убытков с работника, если только убытки причинены противоправными действиями работника;
4)недопустимость сговора поверенного с третьим лицом с целью получения выгоды поверенным в ущерб интересам представляемого;
5)возражение в случае ссылки на вступившее в силу решение суда: если лицо путем обмана или мошенничества выиграло дело и получило судебное решение в свою пользу (например, истец подал иск о взыскании с ответчика долга из ничтожного договора; решение было вынесено в отсутствие ответчика, так как он длительно находился за границей, при этом истец знал о ничтожности договора и об отсутствии ответчика), то при установлении данного факта оно может быть лишено права ссылаться на это решение суда.
Изменение или отпадение основания сделки
В исключительных случаях закон может учитывать непредвидимые изменения обстоятельств, неизменность наличия которых была для сторон условием заключения соглашения. Поскольку вследствие существенных изменений отношений исполнение обязательства становится для должника чрезвычайно сложным, неприемлемость такого исполнения может быть обоснована в соответствии с § 242 ГГУ88. При этом подчеркивалось, что первоначально судебная практика не поддерживала такой подход. Причиной изменения отношения судов во многом стала инфляция военного и послевоенного периода. В 2002 г. данный правовой институт нашел свое позитивное закрепление в § 313 ГГУ.
2.4. Применение принципа добросовестности в публичном праве
Частное право как сфера, где зародился принцип добросовестности, и частноправовая доктрина дали толчок развитию понимания этой категории не только применительно к обязательственно-правовым и иным частноправовым отношениям. Добросовестность, содержащая в себе элементы справедливости, честности, необходимости учета интересов всех лиц, участвующих в правоотношении, приобрела в период бурного ее применения после Первой мировой войны значение общеправового принципа, не ограничивающегося только областью частного права. Публичное право, имеющее в контексте системы права иные задачи и характеризующееся императивностью регулирования, практически отсутствием диспозитивности, конечно, принципиально отличается от права частного. Тем не менее мысли о необходимости подчинения публично-правовых формальных норм идеям
88 |
См.: Hamburger M. Op. cit. S. 119. |
|
84

Свободная трибуна
справедливого регулирования, обеспечения интересов прежде всего лиц, находящихся в нижней части властно-правовой вертикали, получили свое распространение и в этой области89. В современном немецком праве считается общепризнанным действие принципа добросовестности в публичном праве90.
Уголовное право
Идеи нахождения справедливого решения в уголовных делах поддерживались правоведами в сфере уголовного права прежде всего в использовании при оценке фактических обстоятельств конкретного дела таких понятий, как добрые нравы и добросовестность. В литературе того периода указывалось, что понятие «неприемлемость», ставшее как минимум со времен инфляции обыденным для каждого цивилиста и родственное «добрым нравам» и Treu und Glauben, все чаще находит применение также в уголовном праве91. Понимание неприемлемости, выведенное из гражданско-правовых категорий, воспринималось в уголовном праве и использовалось для рассмотрения вопросов вины, особенно в обстоятельствах чрезвычайных ситуаций и ситуаций крайней необходимости. Категории добрых нравов и добросовестности играли роль стандартов для оценки фактических обстоятельств при осуществлении судебного усмотрения. Сами же границы судебного усмотрения предлагалось в связи с этим расширить.
На конференции Международного криминалистического объединения в 1926 г. в одном из докладов звучал призыв дать судьям в соответствии с требованиями времени бóльшую свободу усмотрения, чем прежде. Обосновывался этот призыв тем, что судьям сейчас дается все больше свободы не быть привязанными к жестким правилам; принцип добросовестности подчиняет себе все гражданское право и во всех процессуальных порядках ищется возможность большей свободы от действующих общих норм92.
В современном немецком материальном уголовном праве принцип добросовестности по общему правилу используется при определении вины и фактических обстоятельств, в особенности тогда, когда уголовно-правовое толкование обстоятельств требует соответствующих гражданско-правовых оценок. Также он подлежит учету в некоторых отдельных составах преступления93.
Налоговое право
Примеру уголовного права последовало право налоговое. Последнее так же, как и уголовное, было построено на четко определенных составах. Если состав выпол-
89См.: Hedemann J.W. Die Flucht in die Generalklauseln. S. 24.
90См.: Looschelders D., Olzen D. Op. cit. § 242. Rn. 1141.
91См.: Hedemann J.W. Die Flucht in die Generalklauseln. S. 34.
92Ibid. S. 35.
93См.: Looschelders D., Olzen D. Op. cit. § 242. Rn. 1134–1136.
85

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
нен, налог должен быть уплачен, если состава нет, то и платить не нужно. При этом в налоговом праве гражданско-правовые генеральные оговорки получили двоякое значение в том смысле, что они могли быть использованы как в пользу налогоплательщика, так и наоборот. В налоговом праве, как и в обязательственных отношениях в гражданском праве, есть должник и кредитор.
В первом случае, когда налогоплательщик, недобросовестно используя возможности гражданского права, пытается обойти налоговые предписания с целью уклонения от уплаты налога или уплаты его в меньшем объеме, право использовало учения о злоупотреблении правом. В одном из налоговых постановлений правительства было закреплено правило, что через злоупотребление использованием форм и правовых конструкций из гражданского права нельзя обойти обязанность по уплате налога94. Сначала данное правило было несколько необычным для налогового права, но затем стало восприниматься как само собой разумеющееся. При квалификации тех или иных гражданско-правовых действий и сделок как направленных на уклонение от налогообложения не могла не учитываться гражданскоправовая теория о злоупотреблении правом, основанная на принципе добросовестности.
Второе направление касается смягчения отношения налогового права к налогоплательщику в случае чрезмерности и неприемлемости для него налоговой нагрузки. Военные и послевоенные годы, тяжелая экономическая ситуация высветили случаи несправедливости только формального подхода в налоговом праве. Начиная с конца войны в нормативных актах стали появляться так называемые оговорки о чрезмерной жесткости налоговой обязанности: «На основании заявления возможно освобождение от уплаты налога, если… отклонение такого заявление представляло бы собой чрезвычайную жесткость», «…отсрочка, если взыскание налога могло быть связано с существенной жесткостью для налогоплательщика», «…освобождение, если взыскание исходя из положения дел было бы несправедливым»95. В литературе того периода также подчеркивалась необходимость использования в налоговом праве идеи справедливости, аналогичной идее, свойственной гражданскому праву, и отмечалось, что «в налоговом праве и в гражданском праве встречается родственный ход мыслей»96.
Налоговое право сравнивалось с гражданским правом в подходах к определению обязанности в тех и других правоотношениях. В налоговом праве налоговая нагрузка должна подчиняться принципу равномерности, практичности и справедливости. Аналогично в гражданском праве обязанность рассматривается с точки зрения практичности и приемлемости. Подчеркивалось, что развитие налогового права соответствует развитию других областей публичного права и мысли о разумности и справедливости, а также принцип Treu und Glauben одержали победу также и в налоговом праве97.
94См.: § 5 Налогового кодекса Германии 1919 г.
95Цит. по: Hedemann J.W. Die Flucht in die Generalklauseln. S. 40.
96Hein J. Steuerersparungen, Steuererleichterungen und Härteverfahren im deutschen Steuerrecht. Berlin, 1933. S. 13.
97Ibid. S. 18.
86

Свободная трибуна
В современном немецком налоговом праве, как и в целом в административном праве, общепризнана обязанность учитывать интересы каждой из сторон правоотношения и является неоспоримым принцип защиты доверия налогоплательщика. Также никем не оспаривается идея справедливости. Принцип добросовестности применяется в конкретных правоотношениях и может повлечь конкретизацию или ограничение прав и обязанностей как налогоплательщика, так и налогового органа. Злоупотребления при использовании гражданско-правовых конструкций в целях уклонения от уплаты налога запрещены в силу законодательного запрета обхода закона98.
Административное право
В административном праве принцип добросовестности получил в период после Первой мировой войны, наверное, наибольшее распространение.
Одним из направлений заимствования подходов принципа добросовестности были публично-правовые договоры между носителями власти и частными лицами. В большой своей части это были различные договоры по предоставлению определенных преференций со стороны государства и органов местного самоуправления в обмен на обязанность создания оговоренных инфраструктурных сооружений или выполнение иных общественно значимых условий. Регулирование подобных договорных отношений в силу их близости с договорными обязательствами из гражданского права «заимствовало целые области § 242 ГГУ»99.
Другим направлением были отношения между госслужащими и соответствующими работодателями — государственными органами и учреждениями. В силу близости таких отношений к чисто трудовым, которые в немецком праве являются частью гражданского права, к ним стали применяться подходы, получившие развитие в гражданском праве. Госслужащему вменялось в обязанность соблюдение интересов работодателя, в ответ государство обязано было надлежащим образом заботиться о своем работнике. Подчеркивалось, что применение принципа добросовестности получило огромное распространение «по всей линии правоотношения, касающегося госслужбы»100.
Применение принципа добросовестности в сфере госслужбы было перенесено затем и в сферу отношений между госорганами и частными лицами. В частности, здесь стала очень популярной теория несовместимости с принципом добросовестности осуществления права, противоречащего прежнему поведению. Если гражданин полагался на предыдущие заявления госоргана или на его длительное пассивное поведение, выражавшееся в неприменении определенных норм, то последующее изменение поведения госоргана, идущее вразрез с прежними заявлениями или прежним пассивным поведением, признавалось как противоречащее принципу добросовестности.
98См.: Looschelders D., Olzen D. Op. cit. § 242. Rn. 1150–1153.
99Hedemann J.W. Die Flucht in die Generalklauseln. S. 42.
100Ibid. S. 44.
87

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Конечно же, административное усмотрение, присущее этой отрасли права, не могло не коснуться подходов, получивших развитие в гражданском праве. Оценка фактических обстоятельств при административном усмотрении играет важную роль. Определения поведения как добросовестного или недобросовестного и понятие неприемлемости, имеющие при этом большое значение, были развиты из принципа добросовестности.
В настоящее время принцип добросовестности в самых разных его проявлениях присущ практически всему комплексу немецкого административного права.
Период Веймарской республики характерен тем, что принцип добросовестности получил наибольшее развитие. Это в первую очередь связано с тем, что в это время правоприменение было вынуждено активно заниматься преодолением социальных и экономических потрясений, вызванных Первой мировой войной. Именно тогда, по сути, были созданы очертания той систематики принципа добросовестности, которая имеется сейчас.
3. Трансформация содержания принципа добросовестности (Treu und Glauben) во времена национал-социализма
3.1. Влияние национал-социалистической идеологии на принцип добросовестности
Приход к власти в Германии национал-социалистов положил начало приданию принципу добросовестности иного значения. Тоталитаризация общества на основе идеологии национал-социалистической немецкой рабочей партии (далее — НСДАП)101 не могла не привести к использованию имеющегося правового инструментария в идеологических целях. Этот период охарактеризовался политизацией принципа добросовестности. Уже вскоре после прихода к власти национал-соци- алистов в юридической литературе появились призывы к учету национал-социа- листического мировоззрения при применении генеральных оговорок102. Широко распространенный в литературе подход к добросовестности как к стандарту оценки правоотношений с точки зрения существующих и господствующих в обществе социальных оценок и ценностей послужил базой для формулирования правоведами значения и содержания принципа добросовестности в то время.
В литературе подчеркивалось, что интерпретация нормы с точки зрения объективных общественных интересов, а также сложности в ее догматическом определении пошли идеологии нацистов на пользу103. Как только такое понятие, как добросо-
101Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) — политическая партия в Германии, существовавшая с 1920 по 1945 г.; с июля 1933 до мая 1945 г. — правящая и единственная законная партия в Германии. Одним из основателей и ее лидером был А. Гитлер.
102См.: Börner F. Die Bedeutung der Generalklauseln für die Umgestaltung der Rechtsordnung in der nationalsozialistischen Zeit. Frankfurt am Main, 1989. S. 25.
103См.: Looschelders D., Olzen D. Op. cit. § 242. Rn. 66.
88

Свободная трибуна
вестность, касается не гражданского оборота отдельных лиц, а интересов нации в целом, меняется все право без необходимости изменения даже одного-един- ственного позитивного закона104. Поскольку интересы нации определялись идеологией национал-социалистов, то, соответственно, господствующая (единственно разрешенная) идеология и должна была определять подход к содержанию добросовестности: «В немецком государстве настоящего времени главной движущей силой является национал-социалистическое движение. Поэтому принципы этого движения должны определять, что есть Treu und Glauben»105. При этом связанность судьи при применении норм в конкретном рассматриваемом споре принципом добросовестности не подвергалась сомнению106. Однако при определении масштабов данного принципа судья должен был быть связан национал-социалистическими ценностями.
Подобная аргументация не была нова для немецких юридических кругов. Примером такого подхода при толковании и определении неясных правовых понятий с точки зрения соответствия их господствующей идеологии и диктуемым ею целям государства были нормативно-правовые акты Советского Союза. В пример приводилось закрепление в СССР примата советского, коммунистического мировоззрения над всей правовой системой107. Ссылки делались на Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.: «гражданские права охраняются законом, за исключением тех случаев, когда они осуществляются в противоречии с их социально-хозяйственным назначением» (ст. 1); «в целях развития производительных сил страны РСФСР предоставляет гражданскую правоспособность (способность иметь гражданские права и обязанности) всем гражданам…» (ст. 4). Отсюда делался вывод: то, что не соответствует целям социально-хозяйственного, производственного развития страны, стоит вне закона. Личное не может быть выше общественного и должно служить последнему.
3.2.Модернизация права
Впериод правления национал-социалистов, когда основой определения всех общественных отношений являлась национал-социалистическая идеология, правовая система также не могла остаться в стороне. В том числе и гражданское право. Обсуждались и даже предпринимались различные меры модернизации правовой системы.
Изменение действующего законодательства
В литературе указывалось, что институты гражданского права, в том числе основанные на принципе добросовестности, подлежат дальнейшему соответствующему развитию с точки зрения догматических и политико-правовых основ. Вытеснение
104См.: Haferkamp H.-P. Op. cit. Rn. 71.
105Schmitt C. Fünf Leitsätze für die Rechtspraxis. JW 1933 (цит. по: Haferkamp H.-P. Op. cit. Rn. 71).
106См.: Börner F. Op. cit. S. 30.
107См.: Hedemann J.W. Die Flucht in die Generalklauseln. S. 72–73.
89

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
личной пользы из содержания права должно позволить прийти к непосредственному применению национал-социалистического правового воззрения108. Полити- ко-правовой основой формально служил п. 24 программы НСДАП, содержащий в качестве ключевого принципа национал-социалистического мышления правило о том, что «общественная польза превыше личной пользы»109. Исходя из этого предпринимались попытки по-иному определить сущность обязательственных отношений в контексте новой идеологии. Прежде закрытая частная правовая система обязательственных отношений должна была быть подчинена публичному интересу, обязательства должны были ориентироваться не только на личные интересы сторон, в них участвующих, но и учитывать общественные интересы110.
В силу такого подхода роль договорных отношений виделась в том, что договоры должны служить выполнению великой задачи — рациональному распределению товаров и имущества в народном обществе (Volksgemeinschaft). При этом договоры не должны противоречить общему благу111. В связи с необходимостью претворения новых идеологических принципов в право в литературе предлагалось изменить ряд норм ГГУ с целью закрепления в них данной идеи. Предлагались такие формулировки: «Сделка, противоречащая добрым нравам, ничтожна. В особенности ничтожной является сделка, которая явным образом вредит общественному благосостоянию» (§ 138); «Осуществление права запрещено, если при этом наносится вред общественному благосостоянию» (§ 826); везде по тексту, где упоминается выражение Treu und Glauben, дополнить его словами «в смысле немецкого понимания чести и порядочности»112.
Новая кодификация
Инкорпорировать национал-социалистическую идеологию в правовую систему предлагалось не только посредством изменения действующих норм. Следуя примеру итальянских кодификационных работ в период правления Б. Муссолини, в Германии после прихода к власти национал-социалистов было решено разработать и принять так называемый народный кодекс (Volksgesetzbuch). Им планировалось заменить ГГУ на основанный на принципах национал-социализма гражданский кодекс. Необходимость принятия нового кодекса объяснялась тем, что сущность права не может существовать отдельно от жизни народа. Духовное и нравственное возрождение немецкого народа, переход от ценностей отдельной личности к примату ценностей и интересов народа в целом требует иного правового регулирования, для чего и необходим новый кодекс. При этом указывалось, что отдельных изменений правового регулирования недостаточно113.
108См.: Siebert W. Verwirkung und Unzulässigkeit der Rechtsausübung. Marburg in Hessen, 1934. S. 5.
109См.: Börner F. Op. cit. S. 25.
110См.: Stolleis M. Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht. Berlin, 1974. S. 103–104.
111Ibid. S. 104.
112Börner F. Op. cit. S. 26–27.
113См.: Schlegelberger F. Abschied vom BGB, Vortrag, gehalten in der Universität Heidelberg am 25.01.1937. Berlin, 1937.
90

Свободная трибуна
Непосредственно разработкой занимались юристы, объединенные под крышей Академии немецкого права, которая была основана летом 1933 г. Основной ее задачей было «содействие новой организации немецкой правовой жизни и распространение национал-социалистической программы на всю область немецкого права»114. Всего планировалось разработать и принять 8 томов нового кодекса: «Право лиц», «Семейное право», «Наследственное право», «Договорное право», «Право собственности», «Трудовое право», «Право предприятий» и «Право обществ». Принятие нового кодекса планировалось после Второй мировой войны. Работы над проектом были прекращены в 1944 г. При его подготовке разработчиками предлагалось в юридико-техническом смысле закрепить в преамбуле основные идеи НСДАП, которые должны были определять смысл и содержание отдельных норм. Так, в преамбуле к проекту народного кодекса великого немецкого рейха предлагалось закрепить основные правила, среди которых были следующие:
«1) высшим законом является благо немецкого народа;
2) немецкая кровь, немецкая честь и наследственная чистота должны поддерживаться и охраняться. Они являются основой немецкого народного права;
<…>
8) собственность принципиально признается и подлежит правовой защите. Собственник имеет право пользоваться вещью ответственно, в соответствии с ее предназначением и не в противоречии с общественными интересами;
<…>
11)порядок хозяйственной жизни есть существенная предпосылка общественно осознанного совместного проживания товарищей по нации. Договор признается как средство для рационального распределения имущественных благ;
12)никто не может через договор быть лишен своей чести и свободы. Никто не вправе злоупотреблять договорами для безоглядного преследования собственных интересов…
13)договоры признаются, только если они совместимы с народным совместным сосуществованием…
<…>
18) каждый должен при исполнении своих прав и выполнении своих обязанностей учитывать Treu und Glauben и добрые нравы (общепризнанные принципы народного совместного сосуществования). Каждый должен… везде ставить общественное благо выше личной выгоды;
114 |
§ 2 Закона об Академии немецкого права от 11.07.1934. |
|
91

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
19)злоупотребление правом не получает правовой защиты. Злоупотреблением является любое осуществление прав в нарушение Treu und Glauben и добрых нравов (общепризнанных принципов народного совместного сосуществования);
20)злоупотребляет правами в особенности тот, кто настаивает на буквальном исполнении обязанности, потерявшей свою цель и значение, тот, кто грубо противоречит своим последующим предъявлением требования более раннему своему поведению, тот, кто таким образом принудительно исполняет свое требование, что это является чрезмерным и тем самым грубо противоречит народному восприятию;
<…>
25) народный кодекс действует в отношении всех граждан великого немецкого рейха. Для граждан рейха не немецкой крови не действуют те положения, которые по своему назначению определены лишь для граждан немецкой крови;
<…>
30) …наивысшей целью является благо немецкого народного общества как сообщества по крови расово чистых, честных немецких мужчин и женщин»115.
Как видно, разработчики народного кодекса полагали кодифицировать основные принципы НСДАП, такие как приоритет общего блага над личной выгодой и расовая чистота, в основополагающих началах (принципах) нового гражданского кодекса, которым бы подчинялись отдельные правовые нормы.
Толкование действующего права в условиях господства национал-социалистической идеологии
Параллельно, пока разрабатывался народный кодекс, бóльшая часть правоведов того времени склонялись к тому, что основу для национал-социалистическо- го мировоззрения можно найти в уже имеющихся действующих предписаниях: «Параграфы 826 и 242 приводят к мысли о вытеснении личной пользы <…> эти предписания позволяют сделать правовым принципом правило о том, что общая польза должна идти перед личной пользой»116. В юридической литературе предлагалось обращать внимание на то, что национал-социалистическое мировоззрение подлежит учету на основании уже известных имеющихся правовых методов117. Подчеркивалось также, что само действующее частное право при его правильном толковании дает возможность приблизиться к необходимым целям установления приоритета общего над частным118. К такому выводу приводил анализ правовых конструкций, основанных на принципе добросовестности, таких как различные
115Schubert W. Volksgesetzbuch. Teilentwürfe, Arbeitsberichte und sonstige Materialien. Berlin, 1988. S. 45–48.
116Siebert W. Op. cit. S. 132.
117См.: Börner F. Op. cit. S. 28.
118См.: Siebert W. Op. cit. S. 157.
92

Свободная трибуна
формы недопустимого осуществления права. Посыл о недопустимости чрезмерного использования собственных прав приводил к мысли, что положения § 242 ГГУ содержат предписания против индивидуалистических личных интересов и, соответственно, о необходимости приоритетного учета общественных интересов, которые определялись на основании национал-социалистической идеологии.
Также предлагалось претворять в жизнь национал-социалистическое мировоззрение через работу с судьями, которые должны следовать соответствующим рекомендациям и указаниям119. Помимо этого, под работой с судьями понималось проведение персональной политики: «Каждая правовая реформа есть не столько реформа правовых норм, сколько реформа людей, эти нормы применяющих <…> Национал-социалистическому государству необходимы судьи — носители его идей, в противном случае все указания, законы, изменения норм останутся на бумаге»120. «Правовая неопределенность при применении генеральных оговорок будет все больше и больше исчезать, когда сильнее и надежней будут действовать немецкое национал-социалистическое правосознание. Чем крепче и яснее общее «правовое дно», тем меньше остается возможностей для нечеткого наполнения содержания таких общих понятий»121.
Как известно, широко применявшиеся в предшествующий период генеральные оговорки оценивались не только положительно. Достаточно было и критики, и указаний на опасность бесконтрольного их применения. Уменьшение таких опасностей и рисков виделось также в определении целей применения соответствующих понятий. Эти цели должны были служить в качестве руководящих начал для всего правоприменения, которым надлежало содержать фундаментальные принципы национал-социалистического государственного устройства, в том числе такие, как обеспечение превосходства арийской расы122. Подобное логическое построение обосновывалось культурной функцией генеральных оговорок, в качестве которой понималась возможность посредством генеральных оговорок развивать и приспосабливать действующий правопорядок к новым этапам мировоззренческого, экономического, технического и государственно-политического развития123.
Большая популярность и широкое проникновение принципа добросовестности и других генеральных оговорок в практически все правовые области во время Веймарской республики подвигли правоведов периода национал-социализма к использованию потенциала данных норм в своих целях: «Для применения и использования генеральных оговорок судьями, защитниками, служащими судов и преподавателями права принципы национал-социализма имеют непосредственное и крайне важное значение»124. Привязка генеральных оговорок к определен-
119См.: Börner F. Op. cit. S. 28.
120Ibid. S. 28.
121Siebert W. Op. cit. S. 155.
122См.: Hubernagel G. Nationalsozialistische Rechtsau assung und Generalklauseln, in: Nationalsozialistisches Handbuch für Recht und Gesetzgebung. München, 1935. S. 971.
123Ibid. S. 970.
124Schmitt С. Fünf Leitsätze für die Rechtspraxis (цит. по: Börner F. Op. cit. S. 28).
93

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
ному объективному стандарту, основанному на идеологии национал-социалистов, виделась в качестве эффективной меры для проникновения данной идеологии во всю правовую жизнь.
3.3. Судебная практика и новое значение принципа добросовестности
Примером политизации § 242 ГГУ и влияния на принцип добросовестности нацистских ценностей и идеологии может служить судебная практика в вопросах дискриминации по расовому признаку. В литературе, посвященной ее анализу, указывалось, что задачей судов являлось правовое применение расовых подходов в рамках действующего права125. В договорных отношениях такая возможность находилась в § 157 и 242 ГГУ, в соответствии с которыми следовало выяснять, например, есть ли у бывшего работника еврейской национальности право на производственную пенсию в силу имевшегося трудового договора126 и в каком размере. Определять это было необходимо согласно национал-социалистическому мировоззрению. При этом нужно было задаваться вопросом, насколько требование еврея о выплате ему пенсии с учетом враждебного отношения евреев к немецкому народу совместимо с принципом добросовестности и насколько оно допустимо для немецкого предприятия, где работал такой еврей.
Имперский суд по трудовым спорам исходил из того, что с национал-социалисти- ческим правовым мышлением несовместимо позволение лицам еврейской национальности, которые повсеместно исключались из хозяйственной жизни Германии, получать в полном объеме пенсионные выплаты и тем самым разделять успех национал-социалистического государственного руководства127. Подобный подход использовался также и для обоснования полного отказа в требовании выплаты производственных пенсионных платежей128.
Суды стали также воспринимать норму § 242 ГГУ не только в качестве основания для снижения размера прав требований или отказа в удовлетворении таких требований, но и для досрочного расторжения договора129. Расторжение договора по уважительной причине ранее использовалось как средство для решения проблемы конфликта интересов сторон обязательства. Уважительная причина имелась тогда, когда дальнейшее продолжение договора являлось для одной из сторон неприемлемым в силу принципа добросовестности. Такой подход не мог быть не использо-
125См.: Rüthers B. Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus. 4. Auflage. Heidelberg, 1991. S. 226.
126В Германии пенсионная система была построена на государственном и дополнительном производственном пенсионном обеспечении. Основанием для последнего являлось договорное соглашение между работником и работодателем, согласно которому часть заработной платы отчислялась в счет будущей пенсии (cм.: Börner F. Op. cit. S. 44).
127См.: Rüthers B. Op. cit. S. 227.
128Ibid. S. 228–229.
129См.: Börner F. Op. cit. S. 51.
94

Свободная трибуна
ван судебной практикой периода нацизма для проведения в жизнь его идеологии. Большое распространение он получил в трудовых договорах, где использовался для досрочного увольнения работников по расовым мотивам. В решении от 05.07.1939 № 198/39 Имперский суд по трудовым спорам счел обоснованным расторжение трудового договора с евреем, указав, что необходимо учитывать, «какие негативные последствия экономического характера может иметь для работодателя сохранение договора с лицом неарийской расы». Досрочному увольнению подлежали также работники по политическим мотивам, например коммунисты. Основанием для увольнения в определенных случаях служили факты отказа в исполнении на- ционал-социалистических песен или неотдача нацистских приветствий.
Однако все-таки большее количество дел с применением § 242 ГГУ было связано с расово-политическими мотивами130.
***
Политизация принципа добросовестности в период национал-социализма, использование его для достижения идеологических целей в правовом регулировании показывают, что с его помощью можно привести применение формальных норм
всоответствие с целями правового регулирования, которые в конкретный исторический период могут в значительной степени определяться господствующими
вобществе ценностями или идеологией.
В качестве заключения следует сказать, что после поражения гитлеровской Германии во Второй мировой войне право в вопросах, касающихся принципа добросовестности, вернулось к старым подходам, имевшим место до 1933 г.
References
Al-Shamari N. Die Verkehrssitte im § 242: Konzeption und Anwendung seit 1900. Tuebingen, Mohr Siebeck, 2006. 237 s.
Boerner F. Die Bedeutung der Generalklauseln für die Umgestaltung der Rechtsordnung in der nationalsozialistischen Zeit. Frankfurt am Main, Lang, 1989. 212 s.
Dernburg H. Die Schuldverhaeltnisse nach dem Rechte des deutschen Reichs und Preußens. 3. Auflage. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1906. 844 s.
Doerner H. Erster Weltkrieg und Privatrecht, in: Rechtstheorie (Band 17). Berlin, Duncker & Humblot, 1986. S. 385–401.
Emmert J. Auf der Suche nach den Grenzen vertraglicher Leistungspflichten. Die Rechtsprechung des Reichsgerichts 1914–1923. Tuebingen, Mohr Siebeck, 2001. 477 s.
Endemann F. Lehrbuch des Buergerlichen Rechts. Band I. Berlin, Heymann, 1903. 1382 s.
Haferkamp H.-P., in: Historisch-kritischer Kommentar zum BGB. Band II: Schuldrecht. Allgemeiner Teil. 1. Teilband: vor § 241–304. Tuebingen, Mohr Siebeck, 2007. 1412 s.
130 Ibid.
95

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Hamburger M. Treu und Glauben im Verkehr. Mannheim, Bensheimer, 1930. 290 s.
Hedemann J.W. Die Flucht in die Generalklauseln. Eine Gefahr fuer Recht und Staat. Tuebingen, Mohr, 1933. 76 s.
Hedemann J.W. Reichsgericht und Wirtschaftsrecht. Ein Bild deutscher Praxis. Jena, G. Fischer, 1929. 371 s.
Hein J. Steuerersparungen, Steuererleichterungen und Haerteverfahren im deutschen Steuerrecht. Berlin, Stilke, 1933. 147 s.
Holtfrerich C.-L. Die deutsche Inflation 1914–1923. Ursachen und Folgen in internationaler Perspektive. Berlin, de Gruyter, 1980. 360 s.
Hubernagel G. Nationalsozialistische Rechtsauffassung und Generalklauseln, in: Nationalsozialistisches Handbuch fuer Recht und Gesetzgebung. Muenchen, Eher, 1935. 1604 s.
Jhering R., von. Geist des roemischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. 5. Auflage. Teil 1. Leipzig, Breitkopf und Haertel, 1891. 361 s.
Kohler J. Lehrbuch des Buergerlichen Rechts. Berlin, Heymann, 1904. 583 s.
Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. Erster Band Allgemeiner Teil. Muenchen, Beck, 1987. 668 s.
Looschelders D., Olzen D. in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB mit Einfuehrungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 2. Recht der Schuldverhaeltnisse. Einleitung zum Schuldrecht § 241–243. Berlin, Sellier-de Gruyter, 2015. 847 s.
Nipperdey H.C. Kontrahierungszwang und diktierter Vertrag. Jena, Fischer, 1920. 168 s.
Noerr K.W. Der Richter zwischen Gesetz und Wirklichkeit. Die Reaktion des Reichsgerichts auf die Kriesen von Weltkrieg und Inflation, und die Entfaltung eines neuen richterlichen Selbstverstaendnisses. Heidelberg, Mueller, 1996. 32 s.
Oertmann P. Recht der Schuldverhaeltnisse. Berlin, Heymann, 1928. 518 s.
Oertmann P. Rechtsordnung und Verkehrssitte insbesondere nach Buergerlichem Recht. Leipzig, A.Deihertsche Verlagsbuchhandlung, 1914. 526 s.
Olzen D. in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB mit Einfuehrungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 2. Recht der Schuldverhaeltnisse. Einleitung zum Schuldrecht § 241–243. Sellier-de Gruyter, Berlin, 2015. 847 s.
Ruethers B. Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus. 4. Auflage. Heidelberg, Mueller Juristischer Verlag, 1991. 507 s.
Schlegelberger F. Abschied vom BGB. Vortrag, gehalten in der Universitaet Heidelberg am 25.01.1937. Berlin, Vahlen, 1937. 26 s.
Schmidt J. in: J. von Staudingers Kommentar zum BGB mit Einfuerungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 2. Recht der Schuldverhaeltnisse. Einleitung zu § 241–243. Auflage 13. Berlin, Sellier-de Gruyter, 1995. 825 s.
Schneider K. Treu und Glauben im Rechte der Schuldverhaeltnisse des Buergerlichen Gesetzbuches. Muenchen, Beck, 1902. 241 s.
Schubert W. Volksgesetzbuch. Teilentwuerfe, Arbeitsberichte und sonstige Materialien. Berlin, de Gruyter. 1988. 672 s.
Siebert W. Verwirkung und Unzulaessigkeit der Rechtsausuebung. Marburg in Hessen, Elwert, 1934. 259 s.
96

Свободная трибуна
Stammler R. Das Recht der Schuldverhaeltnisse in seinen allgemeinen Lehren. Berlin, Guttentag, 1897. 262 s.
Steinbach E. Treu und Glauben im Verkehr: Eine civilistische Studie. Wien, Manzische Hofverlagsund Universitaеtsbuchhandlung, 1900. 63 s.
Stolleis M. Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht. Berlin, Schweitzer, 1974. 315 s.
Weber W. in J. v. Staudingers Kommentar zum BGB. II. Band, Recht der Schuldverhaeltnisse Teil 1b § 242. 11. Auflage. Berlin, Schweitzer, 1961. 1553 s.
Information about the author
Kirill Nam — PhD in Law, LLM, Master of Private Law (69117 Germany, Heidelberg, Augustinergasse 9; e-mail: 6964889@gmail.com).
97

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Наталья Вячеславовна Платонова
аспирант СПбГУ
Возмещение вреда, причиненного предъявлением необоснованного иска: к вопросу о материальноправовом значении процессуального поведения
Статья посвящена исследованию проблемы ответственности за вред, причиненный предъявлением заведомо необоснованного иска. Анализируется практика судов Великобритании, которой выработана доктрина ответственности за злонамеренное судебное преследование (malicious prosecution). Эта доктрина первоначально применялась лишь
вслучае необоснованного обвинения в преступлении, однако в деле Willers v. Joyce ответственность за судебное преследование была распространена Верховным судом Великобритании на гражданские иски. Автор рассматривает аргументы против применения ответственности за необоснованный иск, высказанные в деле Willers v. Joyce, а также
впредшествующей практике судов Великобритании, давая им оценку в контексте российского права. Последовательный анализ доводов против признания возможности возмещения вреда, причиненного необоснованным иском, приводит автора к выводу об отсутствии существенных препятствий к принятию доктрины ответственности за предъявление необоснованного требования. Этот тезис, в свою очередь, является отражением более общей идеи о материально-правовом значении процессуального поведения.
Ключевые слова: причинение вреда необоснованным иском, ответственность за процессуальное поведение, злонамеренное судебное преследование, материально-правовое значение процессуального поведения
98

Свободная трибуна
Natalia Platonova
PhD Student at Saint Petersburg State University
Compensation of Damages Caused by the Filing of a Frivolous Lawsuit: Revisiting the Substantive Significance of Procedural Conduct
The article is dedicated to the investigation of the problem of liability for damages caused by the filing of a frivolous lawsuit. It analyzes the practice of UK courts that elaborated the doctrine of liability for malicious prosecution. This doctrine was initially used only in the event of unfounded allegations of criminal misconduct; however, in the case of Willers v. Joyce, the UK Supreme Court extended liability for malicious prosecution to civil lawsuits. The author reviews the arguments against the imposition of liability for a frivolous lawsuit that were expressed in the case of Willers v. Joyce and in the previous practice of UK courts and evaluates them in the context of Russian law. A consistent analysis of the arguments against recognizing the possibility of compensating for damages caused by a frivolous lawsuit leads the author to the conclusion that there are no significant obstacles to the adoption of the doctrine of liability for filing a frivolous lawsuit. This premise, in turn, reflects a more general idea of the substantive significance of procedural conduct.
Keywords: causing harm by frivolous lawsuit, liability for procedural conduct, malicious prosecution, substantive significance of procedural conduct
Главное значение предъявления иска — запуск процесса защиты нарушенного права. Для того чтобы понудить ответчика исполнить то, к чему он обязан перед истцом, последний обращается к суду. Между тем цели и последствия предъявления иска могут быть совершенно иными. Так, любой виндикационный иск отражается на стоимости истребуемой вещи, уменьшая ее по крайней мере на сумму судебных расходов, которые должен будет понести всякий новый собственник; предъявление компании крупного иска способно привести к уменьшению ее капитализации в результате ожидания рынком удовлетворения притязания. Вчинение иска подчас приводит к умалению имущества ответчика. Более того, причинение вреда оппоненту иногда оказывается единственной целью, преследуемой
истцом при обращении за судебной защитой.
За всяким умалением права должно следовать его восстановление, а значит, есть основания говорить о возникновении у истца обязанности возместить причиненный вред. Этому, однако, препятствует традиционный взгляд на действия в процессе, состоящий в том, что такие действия порождают лишь процессуальные последствия. Является ли процессуальное поведение основанием возникновения материально-правового деликтного обязательства? Или же причиненный вред не подлежит возмещению?
В российской доктрине проблема незащищенности ответчика от внепроцессуальных последствий предъявления иска практически не исследуется. Этот вопрос затрагивается в ряде исследований, однако лишь в контексте последствий злоупотребления процессуальными правами, что не позволяет авторам прийти к сколько-нибудь значимым выводам1. Аналогичный подход обнаруживается
1Так, И.В. Рехтина и М.А. Боловнев рассматривают вопрос о причинении иском вреда деловой репутации юридического лица и отмечают, что у ответчика должно быть право на возмещение таких потерь (см.: Рехтина И.В., Боловнев М.А. Отдельные аспекты ответственности за злоупотребления процессуальными правами // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 9. С. 53–57).
99

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
в судебной практике. Когда речь заходит о заведомо необоснованном иске, суды определяют его как акт злоупотребления процессуальными правами, не применяя, впрочем, даже последствия злоупотребления2.
Значительно шире, нежели в континентальных правопорядках, проблема возмещения вреда, причиненного предъявлением иска, раскрывается в английской судебной практике. В праве Англии разработана доктрина так называемого злонамеренного судебного преследования (malicious prosecution), которая является составной частью общего деликтного права этой страны. Существо ее состоит в том, что потерпевший имеет право на возмещение вреда, когда в отношении него было злонамеренно и без надлежащего на то основания предъявлено обвинение, которое затем было отклонено в пользу потерпевшего от такого вредоносного обвинения. До недавнего времени доктрина malicious prosecution применялась к жертвам необоснованного уголовного преследования. Однако в июле 2016 г. Верховный суд Великобритании решением по делу Willers v. Joyce and another (Re: Gubay (deceased))
распространил ее действие на гражданские иски3.
Фактические обстоятельства рассмотренного Верховным судом дела таковы: ответчик (Губай) контролировал компанию «Лэнгстоун». Истец (Уиллерс) являлся директором этой компании, но позже был уволен. Компания «Лэнгстоун» предъявила к Уиллерсу иск из нарушения его обязательств руководителя компании. Уиллерс эффективно защитился против иска, доказав, что всю свою деятельность на посту руководителя компании осуществлял в соответствии с указаниями Губая. После этого Уиллерс предъявил иск к Губаю о возмещении вреда, причиненного злонамеренным судебным преследованием, утверждая, что иск, предъявленный ему компанией «Лэнгстоун», был частью кампании Губая, направленной на причинение ему вреда. Ущерб был причинен репутации и здоровью Уиллерса и выразился в упущенной выгоде.
Перед судом встал вопрос: может ли требование, вытекающее из злонамеренного судебного преследования, быть предъявлено одной стороной гражданского дела к другой стороне?
Большинством голосов (5 из 9) Верховный суд установил, что иск о злонамеренном судебном преследовании может быть предъявлен по результатам гражданского судопроизводства. Высказавшиеся в пользу такого решения судьи сочли, что нет разумного основания для принятия того, что существует ответственность за злонамеренное обвинение в преступлении, но не за гражданский иск. Лорд Тулсон приводит цитату из дела Savile v. Roberts: «…если вред вызван злонамеренным судебным преследованием, то разумно и справедливо, что потерпевший должен иметь право на иск о возмещении причиненного ему вреда». Далее он отмечает: «…инстинктивно кажется несправедливым, что лицо пострадало от злонамеренного судебного разбирательства, для которого не было разумных оснований, и при этом не имеет права на компенсацию».
2См., напр.: постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2011 по делу № А47-5394/2010.
3См.: Willers v. Joyce & Anor (Re: Gubay (deceased) No 1) [2016] UKSC 43 (20 July 2016). URL: http://www. bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/uk/cases/UKSC/2016/43.html.
100

Свободная трибуна
Как мы видим, в основу установления деликта из злонамеренного судебного преследования легли представления о справедливости. Справедливость, по мнению лорда Тулсона, является абсолютной ценностью, и для ее ограничения требуются очень веские основания. В чем же, однако, заключается идея справедливости, реализовать которую, как полагает лорд Тулсон, позволит установление деликта из злонамеренного предъявления иска? Применим ли подход, принятый в деле Willers v. Joyce, в российском праве?
Отметим, что позиция лорда Тулсона в первую очередь основана на идее корректирующей справедливости (corrective justice), согласно которой задача деликтного права заключается в восстановлении равновесия, существовавшего до совершения деликта4. Обязательство из деликта корректирует несправедливость, позволяя получить полное возмещение потерь с ответственной стороны, — происходит обратная передача, обратное перераспределение ресурсов. Именно такой видится природа деликтной ответственности большинству российских исследователей. Например, О.А. Красавчиков указывает, что деликтные обязательства являются формой отношений по перераспределению материальных благ, когда причинитель возмещает вред без какого-либо встречного предоставления со стороны потерпевшего5. Корректирующая справедливость предполагает объективное восстановление положения, существовавшего до нарушения. Во многом эта идея отражена в п. 1 ст. 1064 ГК РФ и может быть выражена тезисом «всякий причиненный вред должен быть возмещен в полном объеме».
В то же время основу введения доктрины malicious prosecution составляет не только корректирующая справедливость. Даже самые общие представления о добре и зле приводят к мысли, что не может остаться без последствий умышленное злонамеренное действие одного лица в отношении другого, повлекшее для последнего негативные последствия. Право должно располагать механизмом, позволяющим привлечь злоумышленника к ответственности, тем самым предупредив подобные деяния в будущем. Требование воздаяния за совершенный деликт составляет существо идеи так называемой ретрибутивной справедливости (retributive justice). M.А. Котлер указывает, что «в значительной степени развитие доктрины деликтной ответственности может быть понято с позиций ответственности, как попытка предотвратить поведение, посягающее на основополагающие ценности»6. В российском праве данная идея реализуется прежде всего в принципе виновной ответственности (п. 2 ст. 1064 ГК РФ).
Принцип справедливости предполагает, что за виновным причинением вреда должно последовать его возмещение. С одной стороны, потому что потерпевший должен получить компенсацию за убывшее имущество, с другой — потому что не могут быть оставлены без внимания виновные вредоносные действия. Если же правопорядок не позволяет лицу потребовать возмещения виновно причиненного
4Подробнее см.: Богданов Д.Е. Триединая сущность справедливости в сфере деликтной ответственности // Журнал российского права. 2013. № 7. С. 49–62.
5См.: Советское гражданское право / под ред. О.А. Красавчикова. Т. 2. М., 1985. С. 349.
6Kotler M.A. Utility, Autonomy and Motive: A Descriptive Model of the Development of Tort Doctrine // University Cincinnati Law Review. 1990. Vol. 58. P. 1231, 1248–1254 (цит. по: Богданов Д.Е. Триединая сущность справедливости в сфере деликтной ответственности // Журнал российского права. 2013. № 7. С. 49–62).
101

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
ему ущерба в том или ином случае (например, ущерба, причиненного процессуальной деятельностью), то это ограничение принципа справедливости, и оно должно быть обосновано веской причиной. В деле Willers v. Joyce судьи, не согласившиеся с решением большинства, предположили, что такие причины имеют место, когда речь идет о вреде, причиненном заведомо необоснованным иском. Чтобы определить, существует ли столь веская причина ограничить возмещение вреда в российском праве, рассмотрим возражения судей против применения доктрины malicious prosecution и проследим, насколько они актуальны для российского права.
Проблема «субъективной стороны»
Первый возможный аргумент против признания за потерпевшим от необоснованного иска права на возмещение вреда сводится к доводу о недопустимости привлечения к ответственности истцов, которые предъявили необоснованный иск случайно (в силу ошибки, заблуждения) или же в надежде на то, что ответчик в ходе процесса не реализует в полной мере свои возможности и проиграет спор. Сложно не согласиться с тем, что установление ответственности за любой необоснованный иск было бы таким радикальным решением, что поставило бы под сомнение само право на доступ к суду, поскольку для лиц, чьи права предположительно нарушены, риск претерпеть негативные последствия проигрыша дела во многих случаях перевешивал бы возможный положительный эффект от победы. Обращаться к суду тогда следовало бы не за разрешением возникшего спора, а лишь за понуждением ответчика к исполнению при наличии абсолютно подтвержденных прав истца.
Данное обстоятельство, как представляется, стало причиной того, что английские судьи при формировании доктрины ответственности за необоснованный иск пошли по пути максимального ограничения случаев деликтного возмещения. Одним из направлений такого ограничения стало установление условий ответственности, которые мы (применительно к российскому праву) отнесли бы к субъективной стороне состава нарушения.
Лорд Тулсон указывает, что обязательным условием ответственности за предъявление иска является обнаружение у истца злонамеренности (malice). В праве Англии malice является разновидностью намерения, цели. Предпринимая некое действие, характеризуемое как злонамеренное, лицо имеет цель навредить ко- му-либо и действует исключительно ради ее достижения. Для возмещения вреда требование наличия malice означает, что одного только предъявления необоснованного иска недостаточно, чтобы привлечь истца к ответственности: нужно еще установить, что главной, решающей целью действия истца было причинение вреда ответчику.
Несомненно, такой подход позволяет оградить истцов, не имевших каких-либо злостных намерений в отношении ответчика, от требований возместить вред в случае проигрыша дела. Однако возможность использования критерия злонамеренности в гражданских делах вызвала сомнения у не согласившихся с решением судей. В английском праве malice относится к уголовно-правовым категориям и обычно
102

Свободная трибуна
является признаком преступления. Malice присутствует в уголовном деянии тогда, когда наличествует либо фактическое намерение причинить конкретный вид вреда, который в итоге был причинен, либо безразличное отношение к тому, должен такой вред наступить или нет (причинитель знал, что конкретный вид ущерба мог быть нанесен, и все же пошел на риск). Именно это — традиционно уголовноправовое — учение лорд Тулсон предложил экстраполировать на отношения по возмещению гражданско-правового вреда.
Еще в деле Crawford Adjusters v. Sagicor General Insurance7, где ранее был сделан вывод о невозможности существования ответственности за гражданский иск, судьи указали на уголовно-правовой характер категории цели как на аргумент против применения доктрины malicious prosecution в гражданском судопроизводстве. Так, по мнению лорда Нойбергера, «злой умысел не имеет отношения к ответственности в гражданском праве. Хотя применительно к преступлениям может быть установлено иное регулирование, право Англии не причисляет мотив к элементам гражданского правонарушения»8. На первый взгляд аргументация лорда Нойбергера выглядит непоследовательной и вызывает вопрос: неужели судья предлагает придерживаться широкого понимания ответственности за необоснованные иски? И если нет, то какое учение, ограничивающее ответственность по субъективному критерию, может быть признано более удачным? Представляется, однако, что лорд Нойбергер рассматривает отсутствие надлежащих критериев ответственности в области гражданского права как аргумент против ее применения в целом. Коль скоро такая ответственность не подчиняется обыкновенным правилам и требует дополнительных условий, заимствований или аналогий, ее введение, по мнению лорда Нойбергера, не является верным решением.
Данный довод весьма актуален для российского деликтного права, где категория цели также признается безразличной: условием наступления ответственности за причинение вреда называется вина причинителя, однако его мотивы и цели не имеют значения9. Заметим, что в некоторых исследованиях, посвященных деликтным обязательствам, условия возмещения вреда предлагается рассматривать аналогично составу преступления, выделяя соответственно субъект, объект, субъек-
7См.: Crawford Adjusters & Ors v. Sagicor General Insurance (Cayman) Ltd & Anor (Cayman Islands) [2013] UKPC 17 (13 June 2013). URL: http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/2013/17.html.
8Обратим здесь внимание на следующий момент. В английских решениях, посвященных проблеме ответственности за злонамеренное предъявление иска (дела Crawford v. Sagicor, Willers v. Joyce), для определения понятия malice используются одновременно два термина — «мотив» (motive) и «намерение» (intention). Другими словами, malice одновременно определяется и как мотив, и как цель. Однако в английской доктрине о признаках преступления категории мотива и цели не считаются равнозначными. Е. Дэнжел так определяет соотношение мотива и цели: «Мотив — это не цель, хотя он и приводит к постановке цели. Он предшествует преступному поведению, тогда как цель сопровождает его... Он [мотив] искушает разум совершить преступление — вынуждает совершить действие, чтобы достичь определенного результата» (Dangel Е.М. Criminal law. Boston, 1951, Р. 92–93). Употребление понятий «мотив» и «цель» как равнозначных может быть вызвано тем, что судьи не придают значения разнице мотива и цели, имея в виду, что они относятся к уголовному праву и в сфере гражданского права неприменимы. Между тем повторимся, что malice — это именно цель, характеристика действия (направленность на определенный результат), а не внутренне побуждающее чувство. Важно, что истец преследовал цель причинить вред; чтó же стало отправной точкой — жадность, ненависть или что-то иное, значения не имеет.
9См.: Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. М., 1951. С. 6.
103

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
тивную и объективную сторону причинения вреда10. Между тем даже здесь авторы не рассуждают о возможности распространения на деликтное правоотношение категорий цели и мотива.
Как и в английском праве, у нас категория цели исследуется в области уголовного права применительно к субъективной стороне состава преступления. Целью преступления признается мысленная модель желаемого результата, достигнуть которого лицо стремится посредством совершения преступления11. Включение специальной цели в субъективную сторону конкретного состава преступления указывает на прямой умысел12.
Однако если в английском праве для привлечения истца к ответственности за вред, причиненный необоснованным иском, достаточно установления злонамеренности (malice), охватывающей все значимые обстоятельства интеллектуальной и волевой сфер деятельности субъекта, то для российского права вопрос распадается на две части: должна ли ответственность быть виновной и если да, то требуется ли специальная цель? Как мы увидим, далеко не очевидно, что ответственность за предъявление иска в российском праве должна быть построена на принципе вины, ибо законодательство и правоприменительная практика дают основания для констатации ее рискового характера.
Как уже было отмечено, признание виновного начала возмещения вреда, причиненного необоснованным иском, позволит оградить от ответственности тех истцов, которые предъявили такие требования с намерением получить судебную защиту, не предполагая и не желая нанести ущерб ответчику.
В то же время условие наличия вины приведет к тому, что во многих случаях пострадавшие от необоснованного иска ответчики не возместят свои имущественные потери (поскольку не докажут вину истца). Положительный на первый взгляд эффект признания виновной ответственности может быть поставлен под сомнение и с точки зрения необходимости превенции исков, направленных на причинение вреда, поскольку задача предотвращения подобных требований наиболее эффективно решается установлением ответственности за случай. Идею рисковой ответственности за причиненный вред в обобщенном виде можно описать так: если некто предъявляет иск, он должен быть уверен в его обоснованности либо в том, что вовлечение в процесс не причинит вреда ответчику, так как, предъявив необоснованное требование, он будет обязан к возмещению нанесенного своим действием ущерба.
Обратимся здесь к анализу известной российскому праву возможности возмещения вреда, причиненного процессуальной деятельностью. Речь идет о ст. 98 АПК РФ, позволяющей ответчику, чьи права и (или) законные интересы нарушены обеспечением иска, потребовать от истца, по заявлению которого были при-
10См., напр.: Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2003. Т. 2. С. 536 (автор главы — Н.Д. Егоров).
11См.: Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.В. Лукьянова, В.С. Прохорова, В.Ф. Щепелькова. СПб., 2013. С. 215 (автор главы — Н.И. Пряхина.
12См.: Там же.
104

Свободная трибуна
няты обеспечительные меры, возмещения убытков, если решением арбитражного суда в удовлетворении иска отказано. Данная норма связывает возникновение деликтного обязательства с двумя обстоятельствами: принятием обеспечительных мер по заявлению истца и последующим отказом в удовлетворении притязаний; вина причинителя прямо не названа в числе условий возмещения вреда. Означает ли это, что ответственность является рисковой? Или применению подлежит общее правило возмещения вреда — «на началах вины»?13
Разрешая вопрос о значении субъективной направленности действий причинителя вреда, ВС РФ в определении от 14.09.2015 № 307-ЭС15-366314 пришел к выводу, что в предмет доказывания по иску о возмещении убытков, причиненных в связи с обеспечением иска, не входит установление виновности лица, инициировавшего принятие обеспечительных мер. Позиция суда приводит нас к мысли, что истец, испросивший обеспечительные меры исключительно для защиты своих прав и интересов, уверенный в обоснованности своего притязания, отвечает так же, как истец, действовавший единственно ради причинения вреда ответчику.
В обоснование указанного тезиса Верховный Суд привел положение ч. 2 ст. 9 АПК РФ, согласно которой лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения ими процессуальных действий, и указал, что «право на возмещение соответствующих убытков основано на положениях пункта 3 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации15 и возникает в силу прямого указания закона (статьи 98 АПК)». Как мы успеем убедиться, далеко не бесспорен довод о том, что ущерб, наступивший в результате совершения процессуальных действий, возмещается на основании норм о вреде, причиненном правомерной деятельностью. Одновременно с этим вызывает интерес обращение Верховного Суда к положениям ст. 9 АПК РФ. Применение данной нормы, во-первых, означает, что в число рисков совершения процессуальных действий включаются не только процессуальные, но и материально-правовые последствия деятельности спорящих сторон. Во-вторых, доводы Суда позволяют заключить, что в этой статье речь идет о риске в контексте ответственности за вину и за случай в гражданском праве: если закон указывает на риск, то последствия для причинителя вреда наступают и в отсутствие его вины. В этом смысле ст. 9 АПК РФ открывает возможность для констатации существования невиновной гражданско-правовой ответственности за процессуальную деятельность.
Стоит отметить, что ранее в судебной практике господствовал тезис о невозможности возмещения вреда, причиненного обеспечительными мерами, когда не доказано, что истец преследовал цель причинить вред. В частности, ВАС РФ в определении от 25.02.2013 по делу № А27-8964/2012 отмечал, что «условием, необходимым для привлечения лица к гражданско-правовой ответственности,
13Согласно п. 2 ст. 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
14В данном деле истец ссылался на то, что вследствие подачи ходатайств о принятии обеспечительных мер ответчиками в течение длительного времени был лишен возможности зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости и распоряжаться ими.
15«Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом».
105

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
является также наличие с его стороны неправомерного поведения (действия или бездействия одного лица, нарушающего права другого) <…> если отказ в удовлетворении исковых требований не связан с тем, что иск был заведомо необоснован и подан исключительно с целью причинения вреда... то испрашивание истцом обеспечительной меры по требованиям, которые впоследствии не были удовлетворены, не может расцениваться как противоправное поведение истца»16. Вполне ясно, что подход, предложенный ВАС РФ, существенно ограничивал (можно сказать, полностью исключал) возможность возмещения вреда, причиненного обеспечительными мерами, поскольку предполагал, что заведомая необоснованность иска должна быть установлена решением об отказе в его удовлетворении, а не в последующем споре о возмещении вреда. При этом заведомая необоснованность иска не входит в число условий отказа в удовлетворении какого-либо требования (достаточно того, что требование просто необоснованное, устанавливать заведомость не требуется), а потому, как правило, не исследуется судом при вынесении решения.
В свою очередь, приведенные выше суждения Верховного Суда во многом продиктованы насущной необходимостью борьбы с практикой предъявления исков ради одного только принятия обеспечительных мер, что, по мнению Суда, оказалось бы невозможным, если бы одним из условий удовлетворения требования ответчика являлась вина истца, заявившего о принятии обеспечительных мер. Аргументируя свои выводы, Верховный Суд в определении от 14.09.2015 № 307-ЭС15-3663 указал: «Отказ в иске о возмещении убытков, возникших по причине принятия обеспечительных мер по необоснованным исковым требованиям, означал бы отсутствие необходимого превентивного воздействия на субъекты, которые заявляют такие требования, испрашивая по ним обеспечительные меры. Однако правопорядок не должен содействовать как предъявлению подобных исков, так и освобождению от ответственности заявивших их лиц».
По мнению ВС РФ, установлением деликтной ответственности истца за вред, причиненный принятыми по его ходатайству обеспечительными мерами, решается задача недопущения предъявления необоснованных исков, направленных исключительно на принятие обеспечительных мер судом. Иными словами, когда Суд говорит, что иск нельзя предъявлять ради обеспечения, он полагает необходимым предотвратить специальную цель предъявления иска — «единственно ради обеспечительных мер».
Доводы Верховного Суда позволяют провести аналогию с весьма интересным взглядом А.С. Кривцова на обязательства по возмещению договорных убытков. Автор отмечает, что во всех случаях существования обязательств из причинения убытков имеет место момент цели, понимаемый как интерес, выгода лица от совершения вредной деятельности17. Иными словами, цель — это в конечном счете то благо, ради которого противоправное действие было совершено. Для чего, например, лицо не исполняет денежное обязательство в срок? Для того чтобы поль-
16ВАС РФ использует категорию цели как образующий признак противоправности действия, что, на наш взгляд, не совсем верно, поскольку цель причинения вреда (если таковая признается значимой) наряду с виной является самостоятельным условием гражданско-правовой ответственности.
17См.: Кривцов А.С. Общее учение об убытках // Вестник гражданского права. 2015. № 6. С. 139–184.
106

Свободная трибуна
зоваться денежными средствами. Подобный хозяйственный, личный интерес составляет момент цели в обязательстве из причинения убытков.
Разрешая вопрос об убытках, причиненных обеспечительными мерами, ВС РФ руководствовался схожими соображениями. Ответственность за вред наступает потому, что правопорядок не допускает предъявление иска для целей иных, кроме как разрешение спора. Общественная необходимость требует установления превентивных мер ради недопущения специальной цели предъявления иска, реализации собственных хозяйственных интересов путем совершения процессуальных действий. При этом Верховный Суд полагает, что правопорядок эффективно не допускает иски, поданные ради одного только обеспечения, когда ответственность за вред, причиненный ответчику, наступает вне зависимости от наличия цели (и даже вины) истца. Возможна и иная точка зрения, принятая отчасти ВАС РФ: коль скоро цель имеет определяющее значение (если лицо не преследовало особую цель, нет общественной необходимости предотвратить действие), то ее наличие является конститутивным условием возмещения вреда.
Обратим здесь внимание на еще одно немаловажное обстоятельство. Доводы высших судов, посвящены, конечно, только убыткам, причиненным обеспечительными мерами. Но если необоснованный иск нельзя предъявить ради обеспечения (правопорядок ставит перед собой задачу бороться с подобными действиями), то так же требуется предотвращать и предъявление исков, направленных на причинение вреда иным способом. Собственно, в чем состоит разница между предъявлением иска с целью нанести вред обеспечительными мерами и предъявлением иска с целью причинить вред самим вовлечением в процесс? Вряд ли может быть найдено существенное отличие. Практика применения судами ст. 98 АПК РФ демонстрирует нам, что английская доктрина ответственности за заведомо необоснованный иск вполне совместима с отечественной правовой системой.
Рассмотренные позиции приводят нас к выводу, что в основе разницы подходов к субъективному элементу ответственности лежит не что иное, как политикоправовые соображения. Когда необходимо наиболее эффективно предотвратить предъявление всякого иска, направленного на ненадлежащую цель (будь то обеспечительные меры или причинение вреда ответчику вовлечением в процесс), а также безусловно компенсировать возникший от подобных действий ущерб, устанавливается рисковая ответственность причинителя вреда. Ответственность за случай предопределяет высокие требования к материально-правовой обоснованности иска, ибо, не будучи уверенным в его удовлетворении, истец должен воздержаться от его предъявления. В свою очередь, ответственность за виновное действие и действие, совершаемое с целью причинить вред, обусловливает более мягкие требования к обоснованности процессуального действия, не исключая в то же время ситуации, когда процесс становится средством причинения вреда ответчику и этот вред не возмещается.
Иными словами, если общественная необходимость требует сформировать осторожное отношение к предъявлению иска, а процесс является профессиональным и предсказуемым, то устанавливается рисковая ответственность истца за нанесенный ущерб. Когда же решающая роль отводится обеспечению участникам процес-
107

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
са права на ошибку, ответственность наступает при наличии вины и цели причинителя.
В завершение рассмотрения проблемы субъективной направленности действий причинителя обратимся к вопросу, неизбежно возникающему при исследовании субъективной направленности процессуальной деятельности. В российской правовой системе, где судебный процесс построен на принципе состязательности, предопределенность решения суда исключается. Бывают ли в этом смысле заведомо необоснованные иски? Предъявляя абсолютно немотивированное требование, истец вправе надеяться, что ответчик признает иск, или же, при наличии минимума доказательств, — на то, что ответчик ошибется, проигнорирует процесс, уже утратил собственные доказательства и т.д. Более того, ни один истец не может предвидеть, каким образом судом в итоге будут оценены доказательства.
Отвечая на поставленный вопрос, подчеркнем, что нельзя абсолютизировать непредсказуемость исхода дела. Предъявляя малообоснованный иск, истец может сделать определенные предположения относительно исхода процесса, однако его расчет ни в коей мере не может быть связан с ожиданием от ответчика действий во вред себе. Так же и принцип свободной оценки доказательств не дает истцу поводов думать, что ничем не подтвержденное требование в глазах суда вдруг станет в полной мере обоснованным.
Отсутствие обязанности истца заботиться об ответчике как аргумент «против»
Принятие доктрины ответственности за вред, причиненный необоснованным требованием, закономерно порождает вопросы: способно ли предъявление иска в принципе быть противоправным? Возможно ли, что, обращаясь с иском, лицо нарушает свою материально-правовую обязанность? Задавшись ими, английские судьи, не согласившиеся с решением большинства по делу Willers v. Joyce, заключили, что не существует общеправового требования воздержаться от предъявления иска при тех или иных обстоятельствах. Лорд Мэнс, в частности, привел в числе доводов против позиции большинства аргумент об отсутствии у потенциальных истцов обязанности проявлять заботливость по отношению к возможным ответчикам.
В гражданском законодательстве Англии обязанность позаботиться о другом (duty of care) — это обязанность лица предпринимать меры по ограждению других лиц от возможного ущерба, который может быть вызван его действиями. Она возникает там, где отдельный человек или группа людей ведет какую-либо деятельность, которая, в силу разумного предположения, может нанести вред другому человеку. К примеру, вождение может нанести физическую травму, специализированная деятельность типа экономических консультаций может привести к финансовым потерям. Подчеркнем: ответственность за нарушение duty of care существует только там, где есть особая деятельность, требующая ее установле-
108

Свободная трибуна
ния. Если лицо не создавало положения, в котором может быть нанесен вред, оно не несет обязанность заботиться об окружающих.
Для определения наличия duty of care используется тест, разработанный в деле Caparo v. Dickman18. Палата лордов определила, что суд обязан ответить на три вопроса: 1) мог ли ответчик, если предъявлять к нему разумные требования, предвидеть, что предпринятые им действия (бездействие) чреваты опасными последствиями; 2) существовали ли между ответчиком и истцом достаточно тесные отношения; 3) справедливо и обоснованно ли возлагать на ответчика в предложенных обстоятельствах обязанность принимать во внимание права и интересы истца?
Учитывая существо обязанности проявить заботу, ответим на вопрос, связано ли ею лицо, намеревающееся предъявить иск.
Обязанность потенциального истца перед потенциальным ответчиком является обязанностью каждого по отношению друг к другу, ибо если она и существует, то до предъявления иска, когда каждый может стать истцом и каждого можно сделать ответчиком. В свою очередь, обязанность проявить заботу возникает там, где начинается специальная, ограниченная деятельность лица, она побуждает к осмотрительности, и требует, помимо прочего, тесных отношений причинителя вреда и потерпевшего. Duty of care — это не обязанность всех перед всеми, она ограничивается особым отношением, вытекающим из определенной опасной деятельности. С этой точки зрения, действительно, можно согласиться с английскими судьями, считающими, что от истца не ожидается забота об избранном им ответчике.
Однако вернемся к известной российскому праву возможности возместить вред, причиненный обеспечительными мерами. Чем, как не требованием проявить заботу и осмотрительность при подаче заявления об обеспечении иска, может быть обоснована невиновная ответственность истца? Ходатайствуя о принятии обеспечительных мер, истец в состоянии предвидеть опасные последствия своих действий (деятельность истца в процессе потенциально вредоносна), а отношения истца и ответчика сами по себе можно признать настолько тесными, что этого достаточно для привлечения истца к ответственности, даже если он не был виновен. Мы видим, что противоправность заявления об обеспечении вытекает из нарушения обязанности проявить заботу об ответчике19.
Рассуждая о гипотетическом отсутствии противоправности действий истца, лорд Тулсон соглашается с лордом Мэнсом в том, что обязанность позаботиться об ответчике на истца не возлагается, при этом отмечает, что «существует большая разница между ответственностью из обязанности проявить заботу и ответствен-
18См.: Caparo Industries Plc v. Dickman [1990] UKHL 2 (8 February 1990). URL: http://www.bailii.org/uk/ cases/UKHL/1990/2.html.
19Duty of care может быть обнаружена и там, где речь идет о процессуальном поведении ответчика. Когда им определенным образом строятся возражения против иска, на что полагается истец, следует говорить о деятельности, требующей повышенной заботливости и осмотрительности. Последующая резкая перемена избранной позиции, если таковая случится, составит нарушение duty of care.
109

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
ностью за злонамеренное возбуждение судебного процесса без разумной или вероятной причины». Таким образом, речь идет о существовании двух совершенно различных деликтов — деликта из нарушения обязанности проявить заботливость (duty of care) и деликта, основанного на злом умысле (malice). То же различие, по словам лорда Тулсона, прослеживается в уголовном процессе: полиция не обязана заботиться о подозреваемом (Calveley v. Chief Constable of Merseyside Police20), но это не означает, что офицер полиции имеет иммунитет против иска из злонамеренного судебного преследования. Критика подхода, занятого в деле Willers v. Joyce лордом Тулсоном, высказывалась ранее, в деле Crawford v. Sagicor, где судьи отметили, что «существование злого умысла при совершении действия, которое само по себе не является незаконным, не преобразует это действие в гражданское правонарушение, за которое можно требовать возмещение». Мы бы сказали (рассуждая в категориях отечественного гражданского права), что тезис лорда Тулсона получил справедливый упрек как допускающий смешение понятий вины и противоправности.
Примечательно, что в деле Crawford v. Sagicor судьи обсуждали вопрос о принципиальном отсутствии какой-либо обязанности истца перед возможным ответчиком (вне связи с duty of care). Так, лорд Нойбергер указал: «Признание существования деликтного правоотношения противоречило бы устоявшемуся общему правилу, что тяжущийся не несет обязанностей перед своим противником в ходе гражданского судебного разбирательства». В настоящем же деле судьи этого тезиса практически не коснулись, ограничив дискуссию вопросом о duty of care. И лишь лорд Кларк (согласный с лордом Тулсоном) весьма точно обратил внимание на суть проблемы, сказав, что не важно, существует ли в данном случае обязанность истца заботиться об ответчике, главный вопрос заключается в том, есть ли такое правонарушение, как предъявление иска.
Именно так стоит вопрос для российского права. Обращение к суду принято считать правомерной деятельностью, в принципе неспособной породить материаль- но-правовое деликтное правоотношение, а заведомая правомерность процессуального действия становится аргументом против применения ответственности за вред, причиненный необоснованным иском.
Одна сторона этой проблемы (чисто цивилистическая) заключается в поиске противоправности предъявления иска как необходимого условия возникновения деликтного обязательства. Здесь надо подчеркнуть, что принцип генерального деликта, на котором основана наша система возмещения вреда21, составит обоснование всякой доктрины, предполагающей компенсацию имущественного ущерба. Идея о malicious prosecution состоит не более чем в требовании возмещения любого вреда, в том числе причиненного процессуальной деятельностью, и там, где ан-
20См.: Calveley v. Chief Constable of the Merseyside Police HL ([1989] AC 1228, [1989] 1 All ER 1025, [1989] 2 WLR 624).
21Принцип генерального деликта воплощен в п. 1 ст. 1064 ГК РФ, согласно которому вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Этот принцип предполагает противоправность всякого поведения лица, причиняющего вред личности или имуществу гражданина либо юридического лица (см.: Гражданское право / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. С. 491).
110

Свободная трибуна
глийские судьи увидели простую справедливость, мы можем усмотреть действие принципа генерального деликта22.
В то же время идея генерального деликта дает максимально широкое, абстрактное понимание противоправности действия. Представим, к примеру, что истец предъявил обоснованный иск (его притязание было удовлетворено судом), при этом самим судебным преследованием ответчику был нанесен имущественный ущерб. С точки зрения доктрины malicious prosecution, как она сформулирована английскими судьями, ответственность за причиненный вред не наступает, ибо это противоречит самой идее ее установления. Лорд Тулсон сформулировал критерии возникновения ответственности за необоснованный иск, к которым, помимо специальной цели, отнес отсутствие разумной и вероятной причины предъявления иска и отказ в удовлетворении иска. Установление этих критериев, хотя и ограничивает действие принципа генерального деликта, заслуживает всяческой поддержки.
Другая сторона проблемы связана с пониманием права на иск и в связи с этим — оценкой обоснованности его ограничения. Резонно предположение, что предъявление иска представляет собой такое действие, которое никогда не может быть противоправным, так как оно, во-первых, направлено на реализацию права на иск, а во-вторых, всегда происходит под контролем и с санкции публичного субъекта — суда. Законом же намеренно не установлены запреты и ограничения на предъявление необоснованного иска, потому что такое действие по своему существу правомерно, даже если затрагивает чьи-то права и интересы. Могут ли найтись доводы против подобных рассуждений?
Право на иск традиционно рассматривается в двух смыслах — материальном (право на иск как состояние субъективного права) и процессуальном (право на иск как обращенное к суду право на возбуждение и осуществление процесса).
Первое значение права на иск предполагает, что предъявлением требования реализуется само субъективное материальное право, точнее — заложенное в нем правомочие (право на защиту). Можно ли в требовании к ответчику обнаружить противоправность действий истца? Казалось бы, нет, ибо иное означало бы, что субъективные права лишаются всякого смысла. В то же время нельзя забывать, что
22Заметим, что существует и иной подход, представляющий противоправность действия как нарушение объективного права (см.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 141). Противоправное поведение может заключаться в совершении запрещенного либо в несовершении предписанного законом обязательного действия. Дабы установить противоправность, требуется соотнести поведение субъекта с запрещающей или предписывающей нормой права. Если обнаружится противоречие, действие можно счесть противоправным. Если понимать противоправность в столь узком смысле, то предъявление необоснованного иска противоправным действием не является, поскольку нет нормы права, запрещающей предъявлять иски при тех или иных условиях. В то же время указанный подход может быть подвергнут критике как предполагающий необходимость регламентации каждой отдельной противоправности, что, в свою очередь, прямиком ведет к тезису о существовании в российском праве системы частного деликта. Такой деликт характерен для англо-американского права, где на основе прецедентов выработана масса специальных деликтных обязательств, возникающих при различных условиях. Причем требование к установлению запрета в отношении каждого действия, которое правопорядок считает недозволенным, — это крайняя степень частности, нехарактерная даже для англо-американского права.
111

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
когда мы говорим о противоправности предъявления иска, то имеем в виду только иски необоснованные, т.е. требования, где на самом деле никакого материального права у истца нет. Реализация субъективных прав (когда эти права действительно есть) не влечет ответственности их обладателя (истца), поскольку отсутствует условие подобной ответственности — необоснованность притязания, выразившаяся как минимум в отказе в удовлетворении иска.
С точки зрения права на иск в его втором, процессуальном, значении предъявление требования — это обращение к суду. Соответственно, и реакция на иск ожидается от суда. Предположив, что предъявление необоснованного иска является противоправным действием, мы придем к выводу, что и санкция должна исходить именно от суда (состоять она должна, видимо, в том, что суд такой иск не примет и не рассмотрит) и отношениями между судом и истцом ограничиваться. В свою очередь, вред возмещается в рамках отношений истца и ответчика, возникших при причинении неудобств последнему, но не отношений истца с судом, связанных с принятием искового заявления к производству, возбуждением процесса и т.д. Реализация права на иск в процессуальном смысле имеет мало общего с отношениями истца и ответчика из причинения вреда и противоправность действий истца не образует.
Если рассматривать право на иск в этих двух его значениях, то предъявление иска действительно не может быть противоправным.
Подчеркнем, однако, что право на иск — это не только состояние субъективного права и требование к суду об осуществлении процесса. Это еще и право истца сделать любого правоспособного субъекта ответчиком по своему требованию, право обвинить. Оно уже не может носить абсолютный характер, предопределяя правомерность любого соответствующего действия.
Для аргументации нашего тезиса обратимся к уголовному закону, согласно которому преступлением является заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Представим, что результатом заведомо ложного обвинения лица в преступлении стало причинение ему вреда (к примеру, ущерба деловой репутации). Будет ли совершивший ложный донос обязан возместить вред, причиненный преступлением? Вполне ясно, что да. Но можно ли сказать, что вред, причиненный заведомо необоснованным обвинением в преступлении, подлежит возмещению, но вред, причиненный заведомо необоснованным иском, не должен возмещаться? Сразу отметим, что общественная опасность как образующее свойство преступления не может служить критерием различия, ибо речь идет не о вредоносности в значении нарушения интересов правосудия и не о риске необоснованного привлечения к ответственности. Для деликтного обязательства имеет значение только то, что имело место противоправное действие — обвинение лица и наступивший в результате этого вред. Конечно, обвинением в преступлении можно нанести больший вред, чем обвинением в гражданско-правовом нарушении. Это уже вопрос размера возмещения, но не критерия отделения действий противоправных от правомерных. Неверным будет полагать столь большую разницу между различными формами обвинений (будь то преступление или гражданско-правовое нарушение), когда в одном случае действие является преступным, а в другом — всегда и всюду правомерным.
112

Свободная трибуна
Там, где одно лицо делает другое ответчиком по своему требованию без минимальных к тому причин (в этом, подчеркнем еще раз, состоит обоснование противоправности предъявления иска), мы обнаруживаем необходимость возмещения вреда.
Взаключение рассмотрения вопроса о противоправности предъявления иска обратимся к тезису лорда Нойбергера, высказанному в деле Willers v. Joyce («тяжущийся не несет обязанностей перед своим противником в ходе гражданского судебного разбирательства»), и обозначим еще один аспект проблемы (отчасти связанный с процессуальным значением права на иск). Аргумент об отсутствии у истца обязанностей перед ответчиком подразумевает в том числе и то, что стороны разбирательства несут ответственность не друг перед другом, а только перед судом. Обязанности в процессе суть публичные. Значит, если у нарушения обязанности не предъявлять необоснованный иск и есть правовые последствия, то они лежат исключительно в публично-правовой сфере. Возможно, именно публично-право- вые, процессуальные инструменты позволяют оградить ответчика от возможных имущественных потерь, а если таковые все же случились — компенсировать их.
Вэтом отношении тезис об отсутствии обязанности истца перед ответчиком тесно связан со следующим аргументом.
Проблема допустимости материально-правовой защиты
Возникновение деликтного обязательства из предъявления иска предполагает, что за процессуальным действием следует материально-правовое отношение, вернее, даже первое служит основанием возникновения второго. Вот только порождая ма- териально-правовые права и обязанности, процессуальное действие (предъявление иска) одновременно влечет за собой и процессуальные последствия. Отсюда возникает вопрос: правильно ли считать, что предъявлением необоснованного иска причиняется вред, возмещаемый в гражданско-правовом порядке, учитывая, что последствия признания притязания необоснованным установлены процессуальным законом? Как допущение материально-правовой защиты соотносится с процессуальными эффектами деятельности сторон?
Указанная проблема неоднократно рассматривалась в английских решениях: всякий раз, когда судьи исследовали возможность и необходимость возмещения вреда, причиненного процессуальной деятельностью, они обращались к аргументу о недопустимости материально-правовой защиты против процессуальных действий оппонента. К примеру, в деле Jain v. Trent Strategic Health Authority23 сделан следующий вывод: «…защита сторон судебного процесса от ущерба, причиненного им судебным разбирательством или действием, совершенным в ходе процесса, должна осуществляться только путем контроля над судебным разбирательством уполномоченными на то лицами, в соответствии с правилами и процедурами, регулирующими судебный процесс». Генеральную идею судьи сформулировали
23См.: Trent Strategic Health Authority v. Jain & Anor [2009] UKHL 4 (21 January 2009). Цит. по: Willers v. Joyce & Anor (Re: Gubay (deceased) No 1) [2016] UKSC 43 (20 July 2016). URL: http://www.bailii.org/cgi- bin/format.cgi?doc=/uk/cases/UKSC/2016/43.html.
113

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
в деле Manifest Shipping Co., Ltd v. Uni-Polaris Insurance Co., Ltd24, указав, что «как только стороны оказываются в судебном процессе, их поведение подчиняется правилам, регулирующим судебное разбирательство, которые заменяют собой применение правил о любых внепроцессуальных обязанностях». В деле Willers v. Joyce на данный вопрос обратил внимание лорд Скотт, сославшись на упомянутые прецеденты.
Для российского права характерно представление о предъявлении иска как о юридическом факте процессуального права (юридическом действии)25. Процессуальные юридические факты порождают, соответственно, процессуальные последствия, что уже дает основания для отрицания материальных последствий предъявления иска.
Какие же процессуальные следствия влечет предъявление иска и достаточны ли они для удовлетворения интересов ответчика, пострадавшего от заведомо необоснованных требований? Предъявление иска влечет правовые последствия двух типов: 1) процедурные — те, что связаны с обязанностью суда отреагировать на поступившее заявление (проверить наличие предпосылок и условий предъявления иска, возбудить судебную деятельность); 2) своего рода экономические эффекты, состоящие в возникновении у ответчика права на возмещение судебных расходов.
Что касается процедурных последствий, то о них можно говорить как о полноценной альтернативе возмещения вреда только тогда, когда у суда есть полномочие отказать в рассмотрении заведомо необоснованного иска. У английского суда такое право есть, потому лорд Скотт и обратил внимание на наличие процессуальных средств предотвращения причинения вреда. «Для чего нужно давать ответчику возможность взыскать вред, если судебная процедура устроена так, что необоснованные требования заранее исключаются из сферы деятельности суда?» — так в обобщенном виде звучит поставленный им вопрос. Однако притом что английский суд имеет несравнимое число возможностей регулировать процесс, заведомо необоснованные иски им допускаются и рассматриваются, — примером являются дела, приводимые в настоящем исследовании. Даже английский суд со всеми его возможностями не отсеивает каждое необоснованное притязание, и в результате подобные иски причиняют ущерб ответчикам, а потому подобная превенция не может в полной мере заместить право на возмещение вреда.
Кроме того, логическим продолжением довода лорда Скотта будет возложение ответственности за всякий вред от необоснованного иска на государство, которое в лице своих судебных органов не исполнило обязанность по недопущению рассмотрения такого притязания. Подобный вывод ставит под сомнение как метод prima facie, которым пользуется суд при принятии иска к рассмотрению (наличие
24См.: Manifest Shipping Company Limited v. Uni-Polaris Shipping Company Limited and Others [2001] UKHL 1; [2001] 1 All ER 743; [2001] 2 WLR 170 (18 January 2001). URL: http://www.bailii.org/uk/cases/ UKHL/2001/1.html.
25См.: Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве: монография. М., 1984; Ярков В.В. Юридические факты в цивилистическом процессе. М., 2012.
114

Свободная трибуна
оснований к иску исследуется лишь «на первый взгляд», самым общим образом), так и обеспеченность права на доступ к правосудию в целом, ибо публичная власть под угрозой ответственности будет стремиться отказать в рассмотрении любого малообоснованного иска.
Другим процессуальным последствием предъявления необоснованного требования (и его поддержания) является право на возмещение судебных расходов26. Путем компенсации судебных расходов достигается цель восстановления имущественного положения стороны, неправомерно вовлеченной в судебное разбирательство. Как мы видим, с экономической точки зрения распределение судебных расходов и возмещение вреда направлены на одно и то же — компенсацию имущественных потерь. Быть может, допущение одновременного существования прав на компенсацию процессуальных расходов и на возмещение убытков от необоснованного иска приведет к дублированию средств правовой защиты ответчика? Имеется в виду предположение, что имущественные потери, причиненные иском, по существу своему должны быть отнесены к судебным расходам, так как представляют собой экономические последствия процессуальной деятельности. Если же процессуальным законом не установлена возможность взыскания всех потерь от необоснованного иска, то это уже проблема конституционности законодательного регулирования.
Однако имущественные отношения, возникающие при предъявлении необоснованного иска, судебными издержками не исчерпываются. Судебные расходы — это только те траты, которые были понесены для того, чтобы процесс мог продолжиться27. Они представляют собой своего рода финансовое условие процесса, ограниченного рамками конкретного спора о праве. В свою очередь, предъявление иска влечет не только расходы «на процесс», но и такие последствия, которые находятся за рамками текущей процессуальной деятельности, составляя предмет самостоятельного спора о праве гражданском. Этому нетрудно найти подтверждение в отечественном процессуальном законодательстве, не предполагающем, к примеру, возмещения репутационного вреда в порядке, установленном для компенсации судебных издержек.
Влияние процессуальной деятельности сторон на отношения, которые находятся за рамками спора, не может быть компенсировано судебными расходами. Следовательно, правовая природа вреда, причиненного предъявлением необоснованного иска, разнится с природой процессуальных издержек, а потому первый не может быть включен в состав вторых.
26Отметим, что в доктрине не выработан единый подход по вопросу о правовой природе судебных расходов: одни авторы полагают, что судебные расходы являются процессуальным следствием поведения сторон (процессуальная концепция), другие видят в судебных расходах гражданско-правовые убытки (материальная концепция). Подробнее см.: Пепеляев С.Г. О правовой природе института судебных расходов // Закон. 2013. № 11. С. 106–112. Мы будем придерживаться процессуальной концепции судебных расходов, не отрицая между тем дискуссионность этого вывода.
27Традиционно в доктрине гражданского процессуального права под судебными расходами понимаются «денежные суммы, уплачиваемые участниками процесса в ходе рассмотрения дела арбитражным судом и имеющие целью полное или частичное покрытие средств, которые необходимы для осуществления правосудия» (Арбитражный процесс: учебник / отв. ред. В.В. Ярков. М., 2014. С. 210 (автор параграфа — В.В. Ярков)).
115

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Вернемся к приведенному в деле Manifest Shipping Co., Ltd v. Uni-Polaris Insurance Co., Ltd доводу о том, что поведение участников в судебном разбирательстве подчиняется только процессуальным правилам, а нормы о внепроцессуальных обязанностях перестают действовать. Применительно к отечественной доктрине этот довод может быть рассмотрен не только в том смысле, что существуют процессуальные правила, в достаточной мере замещающие деликт, но и с той точки зрения, что материальные правила к процессу просто никогда и ни в каком виде не применяются. В отдельных исследованиях можно встретить идею, что любое смешение, взаимовлияние процессуальной деятельности на материально-правовую сферу недопустимо. К примеру, Д.Б. Абушенко полагает, что «по общему правилу даже малейшие вкрапления в процессуальную материю, так или иначе изменяющие действие материального права, должны быть недопустимы…»28. Предъявление иска понимается как действие, которое существует в области права, поскольку оно обращено к суду. Для материального права процесс невидим, производимые в нем действия являются основанием возникновения, изменения или прекращения материального отношения лишь в исключительных случаях.
Описанный довод при всей его внешней обоснованности порождает вопрос: что же защищается столь строгим разграничением материального и процессуального? Признание права на возмещение вреда, причиненного предъявлением иска, ценно потому, что тем самым достигается справедливость, предоставляется средство правовой защиты собственности. Но в чем заключается ценность сохранения строго отраслевого разделения материального и процессуального права? Ответа на этот вопрос мы не находим. Впрочем, не дают его и сторонники обособления материального от процессуального.
Проблема пределов ответственности за злонамеренное предъявление иска
Как мы успели заметить, доктрина malicious prosecution основана на принципиальном допущении возникновения материально-правового деликтного обязательства из процессуальной деятельности сторон. Размышляя о последствиях этого допущения, некоторые судьи в деле Willers v. Joyce выразили опасение, что ответственность за злонамеренное судебное преследование распространится не только на случаи предъявления необоснованного иска, но и на иные процессуальные действия спорящих.
Данная проблема в большей степени характерна для правовых систем, где существует частный деликт: когда обязательство из причинения вреда устанавливается применительно к отдельным ситуациям (или группам ситуаций), требуется точное представление о пределах действия деликта. Вместе с тем проблему границ ответственности за предъявление иска следует рассмотреть и применительно к российскому праву, в котором она является следствием широкого подхода к определению противоправности действия. Существо вопроса состоит в том, что если любое вре-
28Абушенко Д.Б. Проблемы взаимовлияния судебных актов и юридических фактов материального права в цивилистическом процессе: монография. Тверь, 2013. С. 41.
116

Свободная трибуна
доносное действие является противоправным, то ничто не препятствует применению ответственности и там, где имеют место возражения ответчика или же иные (помимо предъявления иска) процессуальные действия истца. Но возможно ли, что всякое процессуальное действие является потенциальным основанием деликтного обязательства?
Рассмотрим два примера вероятного расширения пределов ответственности за необоснованный иск, приведенные в решении по делу Willers v. Joyce.
Первой описана ситуация, когда истец предъявил внешне обоснованный иск, однако в ходе процесса стало очевидно, что оснований к удовлетворению требований все же нет. Лорд Мэнс определяет проблему следующим образом: «В предлагаемом расширении деликта из злонамеренного судебного преследования нет ничего, что позволило бы счесть его применение ограниченным обстоятельствами, когда требование изначально было необоснованным или злонамеренным. В ходе гражданского судопроизводства ответчик может представить новые доказательства или же свидетель может отказаться от ранее данных показаний, и это дает основание предположить, что с этого момента требование является необоснованным и может поддерживаться лишь по злонамеренным причинам». Другими словами, процесс инициируется без всякого злого умысла, однако в какой-то момент злой умысел усматривается в его продолжении. Способно ли поддержание требования привести к возникновению деликтного обязательства? И существует ли ответственность за неотказ от иска?
Критерием злонамеренного предъявления иска является отсутствие разумной и вероятной причины возбуждения разбирательства. Соответственно, и о злонамеренном поддержании требования можно говорить тогда, когда иск в ходе процесса перестал быть минимально обоснованным, разумная причина его предъявления оказалась несостоятельной. В каких же случаях иск может потерять свою минимальную обоснованность? Это возможно в первую очередь при представлении ответчиком доказательств, опровергающих факты, составлявшие разумную и вероятную причину иска. Истец видит, что ответчик доказал неправомерность предъявленных к нему требований, но все равно продолжает процесс. Отметим, что доказательства ответчика не могут дискредитировать повод к предъявлению иска (и продолжения процесса), поскольку они еще должны быть оценены судом. Когда речь идет об оценке поведения сторон для целей деликтного возмещения, невозможно обязать истца предречь оценку доказательств судом. Истец не может быть обязан сделать однозначный вывод: «Да, доказательства ответчика такие хорошие, что точно будут оценены судом как достоверные, и продолжение процесса не имеет смысла». Вторая вероятная ситуация — это «уничтожение» доказательств, положенных истцом в основание своих требований. К примеру, истец основывал свое притязание на одном лишь документе, который по заявлению ответчика признан сфальсифицированным и исключен из числа доказательств. Требование истца лишилось всяческого обоснования и разумной и вероятной причины. В подобном случае истец действительно должен быть привлечен к ответственности, но за злонамеренное предъявление иска, поскольку об отсутствии предпосылок к его предъявлению истец, как правило, знает заранее.
Опасение судей вызвало также вероятное распространение ответственности на процессуальную деятельность ответчика. Лорд Мэнс, в частности, указал, что
117

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
«такой деликт открывает возможность для заявителя предъявить требование к ответчику за его злонамеренную защиту против иска <…> по логике, такой деликт должен распространяться на каждое отдельное заявление и каждый шаг в ходе рассмотрения гражданского иска, если его можно назвать совершённым без правового мотива, например для того, чтобы выиграть время или избежать исполнения, а не для реальных судебных целей».
Лорд Мэнс полагает, что уж поведение ответчика во всяком случае не может составлять основание для возмещения вреда, а одна лишь вероятность распространения доктрины malicious prosecution на действия ответчика — аргумент против ее применения. При этом предпосылку своих рассуждений он не раскрывает, оставляя за скобками причины однозначного недопущения ответственности за злонамеренную защиту против иска. Такое отношение к деятельности ответчика может быть вызвано тем, что лорд Мэнс видит в праве защищаться против иска своего рода абсолютную возможность. Да, ответчик может и должен причинять вред своими возражениями, ибо добиться отклонения иска любыми средствами — вполне правомерная цель его процессуальной деятельности.
В то же время в распоряжении ответчика находится множество возможностей для причинения вреда. К примеру, затягивание процесса или демонстрация ложной линии защиты могут привести к утрате доказательств истцом и последующей невозможности принудительной реализации его права требования. Как представляется, подобный подход к поведению ответчика не имеет оправданий. Заметим, что даже право на защиту от уголовного преследования не рассматривается как неограниченное. В частности, по делу Brandstetter v. Austria Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что «пункт 3с статьи 6 Конвенции29 не предусматривает неограниченного права использовать любые аргументы защиты»30.
Риск распространения ответственности за злонамеренное предъявление иска на процессуальное поведение ответчика не является состоятельным аргументом против применения доктрины malicious prosecution потому, что привлечение ответчика к ответственности за вред, нанесенный в процессе, вполне допустимо. Следует, однако, согласиться с лордом Мэнсом в том, что сам по себе деликт из предъявления иска на поведение ответчика распространить нельзя, ибо противоправность вытекает из совершенно различных предпосылок. Противоправность предъявления иска состоит в вовлечении ответчика в процесс, в необоснованном его обвинении, тогда как ответчик не может своими возражениями в полном смысле обвинить истца в чем-либо и тем самым причинить ему вред.
29Согласно п. 3с ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в Риме 04.11.1950) каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника.
30§ 52 постановления ЕСПЧ от 28.08.1991 по делу «Брандштеттер против Австрии» (Brandstetter v. Austria). В данном деле рассматривался вопрос о праве обвиняемого защищаться посредством ложного обвинения другого лица в совершении преступления. ЕСПЧ отметил: «Было бы преувеличением полагать, что исходной посылкой права лиц, обвиняемых в совершении уголовного преступления, защищать себя является идея о том, что они не должны подвергаться преследованию, когда, осуществляя это право, они умышленно вызывают ложные подозрения в подлежащем наказанию поведении в отношении свидетеля или любого другого лица, вовлеченного в уголовное судебное производство...»
118

Свободная трибуна
Примечательно, что лорд Тулсон не подвергает довод о расширении применения доктрины malicious prosecution какому-либо правовому анализу. Судья указывает на предшествующую 400-летнюю практику использования данной доктрины в уго- ловно-процессуальной практике, где вполне успешно использовались критерии злонамеренности и где проблема расширения никак не давала себя знать. Лорд Мэнс, по его мнению, только констатирует свою озабоченность, но не приводит какое-либо опровергающее учение.
Проблема увеличения числа сопутствующих споров
Проблема возникновения новых споров на основе уже разрешенного дела должна быть рассмотрена в двух аспектах. Первый состоит в том, что при рассмотрении дела о возмещении вреда есть риск ревизии решения суда по первоначальному спору, поскольку заново будут исследованы основания иска. Второй аспект проблемы — возможное нарушение правила «Всякий спор должен быть конечен». Если допустить, что любой выигравший дело ответчик вправе обратиться с требованием из злонамеренного судебного преследования, то споры сторон окажутся нескончаемыми.
Оба аспекта проблемы проистекают из недопустимости нарушения принципа res judicata, который, с одной стороны, препятствует возникновению повторного судебного разбирательства по одному и тому же требованию или вопросу между теми же сторонами, а с другой — предполагает, что всякий спор должен быть завершен, а ответчик должен быть защищен от нескончаемых исков31.
На вероятность перерешения первоначального дела указывает лорд Мэнс, полагая ее веским аргументом против использования доктрины malicious prosecution. «Признание существования деликта в отношении гражданского судопроизводства унесет закон в неведанные воды, открывая возможность инициировать новые судебные разбирательства в отношении предшествующего разбирательства, проверять его обоснованность, его мотивы и его последствия», — отметил судья. В самом деле, коль скоро основанием удовлетворения требования о возмещении вреда является отсутствие разумной и вероятной причины предъявления иска, то в процессе о возмещении вреда потребуется исследовать, насколько первоначальный иск был обоснован в момент его предъявления. Не приведет ли это к ревизии законной силы первоначального решения вне установленной для этого процессуальной формы?
Представим, что при разрешении первоначального дела суд установил, что факты, положенные в основание иска, были ложными. По требованию о возмещении вреда суд заключил, что данные факты были и вовсе недостаточны даже для того, чтобы предъявлять иск. Очевидно, что в подобной ситуации никакого перерешения дела не произойдет.
31См.: Bower S.G. The Doctrine of Res Judicata. London, 1924. P. 3–4; Эндрюс Н. Система гражданского процесса Англии: судебное разбирательство, медиация и арбитраж / пер. с англ.; под ред. Р.М. Ходыкина. М., 2012. С. 224.
119

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Вопрос возникает, когда в деле о возмещении вреда суд приходит к выводу, что основания для предъявления иска были, но суд все же отказал в его удовлетворении. Отметим, что перерешение спора не происходит и в этом случае ввиду следующего. Необходимо различать факты, составляющие условие удовлетворения иска, и факты, являющие собой разумную причину предъявления иска. Последние могут составлять малую долю первых и даже вообще не пересекаться. К примеру, истец предъявил требование об исполнении договорного обязательства, но в процессе рассмотрения дела было установлено, что договор не заключен. Оснований к удовлетворению договорного иска нет, и требования истца если и будут удовлетворены, то только на основании норм о кондикции. Однако разумная и вероятная причина его требований — уверенность в наличии договора — была. На данное различие указывали судьи в решении по делу Glinski v. McIver, которое касалось возмещения вреда, причиненного уголовным преследованием. «Чтобы иметь разумную и вероятную причину, истец не должен быть уверен, что итог разбирательства окажется в его пользу. Достаточно того, чтобы из материалов, на основе которых действовал истец, следовало, что дело было надлежащим для того, чтобы предстать перед судом», — отметил лорд Деннинг. Значит, разрешая требование о возмещении вреда, суд должен установить, были ли у истца причины предъявить иск, но не то, верно ли суд оценил доводы истца при принятии решения.
В этом вопросе следует согласиться с лордом Тулсоном, полагающим, что «иск за злонамеренное судебное преследование, в отличие от некоторых других форм судебного разбирательства, не означает покушение на исход первоначального судебного разбирательства».
Лорд Мэнс обращает внимание на второй аспект проблемы — возникновение бесконечного числа новых споров. Он отмечает: «Это приведет к формированию целой индустрии побочных споров». Предположим, что выигравший первоначальный спор ответчик предъявит иск о возмещении вреда от необоснованного иска. При этом его иск будет предъявлен без всякой разумной и вероятной причины, с одной лишь целью — причинить вред истцу по первоначальному спору. Выходит, что по итогам этого вторичного процесса возможен следующий спор о вреде и далее до бесконечности, причем каждый следующий спор возникает в связи с процессуальной деятельностью в предыдущем и носит производный характер. Такое положение дел не отвечает принципу res judicata в смысле конечности всякого судебного разбирательства.
В ответ лорд Тулсон приводит следующие соображения: «Несомненно, общественный интерес заключается в том, чтобы избежать ненужных судебных разбирательств в судах, будь то по уголовным или гражданским делам, но это не считается достаточной причиной для исключения иска о злонамеренном преследовании по уголовному делу». Этот аргумент нельзя назвать удачным. Когда в рамках доктрины malicious prosecution возмещался только тот вред, что был причинен необоснованным уголовным преследованием, речь шла о защите частного лица от произвола публичных властей. Если же иск частного лица оказывался злонамеренным и необоснованным, у публичной власти не было возможности взыскивать вред, причиненный им, ибо она в защите от частного лица не нуждалась. Проблема бесконечности споров появилась вместе с новым подходом к доктрине malicious prosecution, допускающим ее применение в отношениях между частными лицами.
120

Свободная трибуна
Нужно заметить, что приведенный нами пример распространения процессов является неким крайним вариантом, недопущение которого — недостаточный мотив для отказа от доктрины в целом. Как правило, стороны не предъявляют друг другу заведомо необоснованные иски без особых к тому соображений, рискуя к тому же сами понести ответственность. Не следует забывать и о том, что на другой чаше весов мы имеем нарушенное право собственности ответчика, имущественный вред, который предлагается не возмещать в угоду идее ограничения числа разбирательств. Представляется безусловно правильным тезис лорда Тулсона: «Неверен аргумент о том, что обоснованное требование не может быть разрешено, поскольку это может привести к тому, что кто-то другой предъявит необоснованное требование». Нельзя лишить всех ответчиков права на возмещение вреда только потому, что кто-то из них может предъявить необоснованное требование и породить цепочку бесконечных споров.
Проблема сдерживающего эффекта
Одной из опасностей принятия доктрины malicious prosecution является возникновение сдерживающего эффекта, когда добросовестные участники оборота не станут обращаться в суд, предполагая, что в случае отказа в удовлетворении их притязания они столкнутся с необходимостью отвечать по иску о причинении вреда.
Довод о сдерживающем эффекте приводился еще в деле Crawford v. Sagicor, где лорд Нойбергер подчеркнул, что «возможность предъявления исков на основе судебного преследования в случае, если истец потерпел в деле неудачу, противоречит достоинству и добрым намерениям тяжущихся. Отвратительные угрозы от потенциальных ответчиков с «широким карманом» оттолкнут потенциальных истцов от мест правосудия». В Willers v. Joyce проблема сдерживания рассмотрена еще более широко. Лорд Нойбергер раскрывает ее следующим образом: «Существование деликта может пугающее воздействовать на инициирование гражданского судопроизводства и его продолжение. Предполагается, что идея о том, что лицо не должно подвергаться злостному судебному преследованию, возбужденному недобросовестной стороной, оправдывает существование ответственности. Но наличие этого деликта порождает риск создания того, что будет столь же нежелательным новым оружием в руках недобросовестной стороны; произойдет запугивание со стороны ответчика через необоснованную, но вызывающую опасения угрозу последующего преследования, чтобы прекратить текущий процесс. Другими словами, создание средства правовой защиты от одного зла может привести к другому злу». По мнению судьи, боязнь истца понести ответственность — это проблема не только этапа предъявления иска, но и последующей процессуальной деятельности. Введение деликта из судебного преследования поставит истца перед необходимостью соизмерять каждый свой шаг с риском причинения вреда ответчику, всякий раз задумываясь, не стоит ли отказаться от иска.
Приступая к анализу данного довода, обратимся к природе деликтного обязательства и отметим, что одной из функций установления деликта является превенция, предотвращение нежелательных для правопорядка действий. В этом смысле сдерживание некоторой части исков есть позитивный эффект доктрины, это то,
121

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
ради чего она необходима. Однако так же естественно, что функция превенции не должна превратить деликт в инструмент запугивания, диктующий всем необходимость подумать дважды, прежде чем пойти в суд.
Зададимся вопросом: сдерживание каких потенциальных истцов имеет такое значение, что является аргументом против возможности последующего привлечения стороны к ответу за заведомо необоснованный иск? Таковыми являются истцы, которые действительно обладают защищаемым правом требования и имеют возможность это доказать. Другими словами, это те истцы, которые могут выиграть дело. В каких случаях такой потенциальный истец не будет инициировать процесс из страха последующей ответственности за судебное преследование? Во-первых, если он не уверен в наличии у него самого субъективного права либо в своих возможностях это доказать. Во-вторых, если он опасается, что предъявление им иска в дальнейшем объявят умышленным действием, направленным на причинение вреда, что возможно лишь вследствие неверного фактоустановления (иначе выходит, что предпосылок к процессу у него совсем не было).
Вернемся здесь к нашим рассуждениям о виновной и рисковой ответственности истца и заметим, что проблема сдерживающего эффекта имеет различное содержание в зависимости от того, на каких началах будет построен деликт.
Вконтексте виновной ответственности аргумент о сдерживании не является скольнибудь значимым, так как добросовестный истец должен сделать немало предположений (причем предположить ошибку), чтобы отказаться от процесса, обладая субъективным правом. Обычный участник оборота не ожидает наступления стольких процессуальных неудач и не учитывает их. Потому напрасно опасение, что потенциальные истцы не станут прибегать к судебной защите. В самом деле, любой может ненамеренно причинить вред и рискует быть признан виновным в причинении, если не сможет доказать, что это произошло случайно. Однако мы же не говорим, что лица опасаются вступать в какой-либо контакт с другими лицами из опасения случайно причинить вред лицу или его имуществу.
Всвою очередь, если возмещение вреда строится на началах риска, от предъявления иска откажутся уже те истцы, которые просто сомневаются в обоснованности своего притязания. Отвращающий эффект коснется большого числа потенциальных истцов, при этом максимально эффективно будет решаться задача превенции.
Взавершение подчеркнем: степень сдерживания варьируется в зависимости от признания рискового и виновного характера, и этот уровень составляет вопрос общественной необходимости, политики права.
122

Свободная трибуна
References
Abushenko D.B. The Problems of Mutual Influence of Court Decisions and Substantive Facts in Civil Proceedings [Problemy vzaimovliianiia sudebnykh aktov i iuridicheskikh faktov materialnogo prava v tsivilisticheskom protsesse]. Tver’, Izdatel’ Kondrat’ev A.N., 2013. 319 p.
Agarkov M.M. Obligation under Soviet Civil Law [Obyazatelstvo po sovetskomu grazhdanskomu pravu]. Moscow, Izdatelstvo NKYu SSSR,1940. 192 p.
Andrews N. Dispute Resolution in England: Court Proceedings, Arbitration, and Mediation [Sistema grazhdanskogo protsessa Anglii: sudebnoe razbiratel’stvo, mediatsiya i arbitrazh]. Moscow, Infotropic Media, 2012. 502 p.
Bogdanov D.E. Triune Nature of Equity in the Field of Tort Liability [Triyedinaya suschnost spravedlivosti v sfere deliktnoy otvetstvennosti]. Journal of Russian Law [Zhurnal rossiiskogo prava]. 2013. No. 7. P. 49–62.
Bolovnev M.A., Rekhtina I.V. Some Aspects of Responsibility for Abuse of Procedural Rights [Otdelnyye aspekty otvetstvennosti za zloupotrebleniya protsessualnymi pravami]. Arbitrazh and Civil Procedure [Arbitrazhnyy i grazhdanskiy protsess]. 2014. No. 9. P. 53–57.
Bower G.S. The Doctrine of Res Judicata. London, Butterworths, 1924. 292 p.
Dangel Е.М. Criminal Law. Boston, Spring, 1951. 536 p.
Fleyshits E.A. Obligations Arising from Causing of Harm and Unjust Enrichment [Obyazatel’stva iz prichineniya vreda i iz neosnovatel’nogo obogascheniya ]. Moscow, Gosyurizdat, 1951. 239 p.
Isakov V.B. Legal Facts in the Soviet Law: A Monograph [Juridicheskie fakty v sovetskom prave: Monografiya]. Moscow, Yuridicheskaya literature, 1984. 144 p.
Kotler M.A. Utility, Autonomy and Motive: A Descriptive Model of the Development of Tort Doctrine. University Cincinnati Law Review. 1990. Vol. 58. P. 1231–1281.
Krasavchikov O.A., ed. Soviet Civil Law. 2 vols. Vol. 2 [Sovetskoe grazhdanskoe pravo: v 2 t. T. 2]. Moscow, Nauka, 1985. 527 p.
Krivtsov A.S. The General Theory of Damages [Obscheye ucheniye ob ubytkakh]. Herald of Civil Procedure [Vestnik grazhdanskogo protsessa]. 2015. No. 6. P. 139–184.
Lukianov V.V., Prokhorov V.S., Shchepelkov V.F., eds. Criminal Law of Russia. General Part: A Coursebook [Ugolovnoye pravo Rossii. Obschaya chast: Uchebnik]. Saint Petersburg, Izdatelstvo SPbGU, 2013. 600 p.
Pepelyayev S.G. On Legal Nature of Legal Costs [O pravovoy prirode instituta sudebnykh raskhodov]. Statute [Zakon]. 2013. No. 11. P. 106–112.
Sergeev A.P., Tolstoy Yu.K., eds. Civil Law [Grazhdanskoe pravo]. Vol. 1. Moscow, TEIS, 1996. 352 p.
Sergeev A.P., Tolstoy Yu.K., eds. Civil Law: A Coursebook [Grazhdanskoe pravo: uchebnik]. Part 2. Moscow, Prospekt, 2003. 784 p.
Yarkov V.V. Legal Facts in Civil Litigation [Juridicheskie fakty v tsivilisticheskom protsesse]. Moscow, Infotropic Media, 2012. 608 p.
Yarkov V.V., ed. Civil Procedure: A Coursebook [Arbitrazhnyy protsess: uchebnik]. Moscow, Infotropic Media, 2014. 848 p.
Information about the author
Natalia Platonova — PhD Student at Saint Petersburg State University (e-mail: natalia.platonowa@gmail.com).
123

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Дмитрий Николаевич Салмин
младший научный сотрудник кафедры гражданского права юридического факультета СПбГУ, магистр юриспруденции
К вопросу об условиях ограничения кондикционного обязательства размером наличного обогащения
Всовременной литературе все чаще высказывается мысль о необходимости имплементировать в отечественное право институт возражения об утрате обогащения по примеру зарубежных правопорядков, однако специальных исследований, посвященных этому институту, до настоящего времени не проводилось. Настоящая работа призвана в некоторой степени восполнить этот пробел.
Встатье делается вывод о том, что расширение предметной области обязательств из неосновательного обогащения в рассматриваемых правопорядках сопровождалось появлением возражения об утрате обогащения. Последовательно исследуются элементы возражения об утрате обогащения, как они определены в зарубежном праве. По мнению автора, либеральный подход к условиям удовлетворения кондикционного иска, принятый в российском праве, делает актуальным вопрос о защите интересов добросовестного кондикционного должника. Между тем существующие механизмы такой защиты далеки от совершенства.
Ключевые слова: неосновательное обогащение, возражение об утрате обогащения
124

Свободная трибуна
Dmitry Salmin
Junior Research Assistant of the Civil Law Department of the Saint Petersburg State University, Master of Law
Revisiting the Conditions for Limiting the Unjust Enrichment Obligation to the Amount of Monetary Enrichment
The contemporary literature increasingly argues in favor of implementing the doctrine of loss of enrichment in Russian law, following the example of foreign jurisdictions; however, no targeted studies dedicated to this doctrine have been performed until now. This work aims at filling in this gap to a certain extent.
The article arrives at the conclusion that the extension of the scope of obligations arising out of unjust enrichment within the examined jurisdictions was accompanied by the implementation of the loss of enrichment defense. The article also contains a systematic review of the elements of the loss of enrichment defence, as defined in foreign law. In the author’s opinion, the liberal approach to the conditions of satisfaction of an unjust enrichment lawsuit adopted in Russian law makes the issue of protecting the interests of a good-faith enrichment debtor under unjust enrichment relevant. However, the existing mechanisms for such protection are far from perfect.
Keywords: unjust enrichment, defence of disenrichment
Введение
Доверие кондикционного должника к видимости наличия основания его обогащения может повлиять на принятие таким должником экономического решения: распорядиться самим предметом обогащения, понести расходы из иного принадлежащего ему имущества или отказаться от получения дохода с учетом данного обогащения. В качестве примеров можно привести случаи, когда должник, полагаясь на окончательный и бесповоротный характер произошедшего увеличения своего имущества, несет расходы на предмет обогащения или отчуждает его себе в убыток; предоставляет кому-либо право безвозмездно пользоваться своей вещью вместо того, чтобы сдать ее внаем; оплачивает услугу, от которой он бы отказался, зная о неосновательности обогащения. При наличии осведомленности об обязанности выдать неосновательное обогащение картина распределения ресурсов была бы иной. Наконец, первоначально полученная ценность может быть утрачена вследствие внешних обстоятельств, не зависящих от воли неосновательно обогатившегося лица.
Очевидно, что во всех этих случаях возврат обогащения будет сопряжен с негативными последствиями для имущественной сферы должника, принимая во внимание изменения, произошедшие в ней в связи с фактом обогащения. Выдача полученных выгод не всегда восстанавливает имущественное положение должника, которое существовало до того, как обогащение было им получено. Между тем институт неосновательного обогащения направлен на восстановление прежнего имущественного состояния как кондикционного кредитора, так и должника. В результате перед правом стоит непростая задача определить, когда упомянутые неблагоприятные последствия ложатся на кондикционного кредитора, а когда их несет кондикционный должник.
Многие зарубежные правопорядки встают на защиту интересов добросовестного кондикционного должника, предоставляя ему возможность возражать против
125

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
предъявленного кондикционного иска, ссылаясь на утрату полученного обогащения. Таков, в частности, подход права Германии, Нидерландов, стран общего права (Англии, Австралии, Канады, Новой Зеландии, США), а также некоторых смешанных правовых систем (Шотландии и ЮАР). Однако предметная область, условия применения, догматическая конструкция возражения, а подчас и сама потребность в нем в зарубежной доктрине остаются предметом оживленных дискуссий. В связи с этим примечательно, что механизм защиты интересов добросовестного кондикционного должника с помощью возражения об утрате обогащения нашел закрепление в Модельных правилах европейского частного права (Draft Common Frame of Reference, далее — DCFR)1.
ГК РФ не содержит норм, ограничивающих размер обязательства добросовестного кондикционного должника размером наличного (сохранившегося) обогащения2. Однако вопрос о защите добросовестных кондикционных должников не был обойден вниманием отечественных исследователей. В советский период на необходимость такой защиты указывали О.С. Иоффе3 и В.И. Чернышев4. До революции этот вопрос подробно исследовался Д.Д. Гриммом5. В современной литературе все чаще высказывается мысль о том, что нужно имплементировать в отечественное право институт возражения об утрате обогащения по примеру зарубежных правопорядков6, однако специальных исследований, посвященных конструкции и месту этого института в структуре современного российского права, до настоящего времени не проводилось. Настоящая работа, будучи дополненной и переработанной версией статьи, опубликованной нами ранее7, призвана в некоторой степени восполнить этот пробел.
Основное внимание в ней по-прежнему уделено обзору права Германии и Англии. Останется без изменений и общая структура работы: в статье будут последователь-
1См.: Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR) / еd. by C. von Bar, E. Clive. Oxford. 2010 (art. VII.-6:101). См. также русский перевод: Модельные правила европейского частного права / пер. с англ.; науч. ред. Н.Ю. Рассказова. М., 2013. С. 597.
2На что справедливо указывается в литературе, cм.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2006. С. 1043 (автор комментария — Д.Г. Лавров); Новак Д.В. Неосновательное обогащение в гражданском праве. М., 2010. С. 377–382. Впрочем, данный вывод нуждается в уточнениях, которые будут сделаны в соответствующем месте.
3См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 862.
4См.: Чернышев В.И. Обязательства из неосновательного приобретения или сбережения имущества по советскому гражданскому праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Л., 1974. С. 16–17.
5См.: Гримм Д.Д. Очерки по учению об обогащении. Вып. 1 и 2. Дерпт, 1891. Эта замечательная работа, написанная почти полтора столетия назад, на сегодняшний день является единственным отечественным исследованием, посвященным проблеме ограничения кондикционного обязательства размером наличного обогащения.
6См.: Новак Д.В. Указ. соч.; Гербутов В.С. Понятие и формы обогащения в кондикционных обязательствах: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 170; Джанаева А.М. Понятие реституции в российском и англо-американском праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 12–13.
7См.: Салмин Д.Н. Ограничение кондикционного обязательства размером наличного обогащения // Вестник гражданского права. 2014. № 3. С. 27–60.
126

Свободная трибуна
но рассмотрены элементы возражения об утрате обогащения, как они определены в зарубежном праве. Однако сюжеты, связанные с применением возражения к требованиям о возврате исполненного по недействительным синаллагматическим договорам, будут опущены. Здесь мы можем адресовать читателя к нашей первой статье, а также к недавно вышедшей в свет монографии Е.А. Папченковой8, которая дает богатую пищу для размышлений по данному вопросу.
1. Объективные элементы возражения
1.1. Утрата обогащения
1.1.1. Объем понятия «утрата обогащения»
Длительное время в науке считалось, что римское право ограничивало condictiones размером наличного (сохранившегося у ответчика на момент предъявления иска) обогащения9. Однако увидевшая свет в 1953 г. работа немецкого исследователя В. Флуме10 ознаменовала пересмотр этого вопроса. Согласно современным представлениям предметом обязательства ответчика в рамках condictio по общему правилу являлось всё полученное, а не только сохранившееся к моменту принятия иска к рассмотрению (litis contestatio) обогащение. Иными словами, римские кондикции не были исками о возврате обогащения в традиционном понимании11, 12.
8См.: Папченкова Е.А. Возврат исполненного по расторгнутому нарушенному договору. М., 2017.
9Доказательству этого тезиса применительно к римской condictio indebiti посвятил третий из своих очерков по учению об обогащении Д.Д. Гримм (см.: Гримм Д.Д. Указ. соч. Вып. 2). Как будет видно из дальнейшего изложения, тем самым он выступил в защиту подхода, господствовавшего в литературе пандектного права.
10См.: Flume W. Der Wegfall der Bereicherung in der Entwicklung vom romischen zum geltenden Recht // Festschrift fur Hans Niedermeyer zum 70. 1953. S. 103.
11По определению Д.Д. Гримма, таковыми являются иски, в которых обогащение имеет «самостоятельное значение, выступая одновременно основанием и пределом ответственности обогатившегося лица перед потерпевшим» (Гримм Д.Д. Указ. соч. Вып. 1. С. 29, 37 и след.).
12См.: Visser D. Responsibility to Return Lost Enrichment // Acta Juridica. 1992. P. 176. См. также: Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Cape Town, 1992. P. 896–899; Dawson J. Erasable Enrichment in German Law // Boston University Law Review. 1981. Vol. 61. № 2. P. 273–274; Jansen N. Farewell Unjust Enrichment? // The Edinburgh Law Review. 2016. № 20. P. 125–126.
Р. Циммерманн указывает: «В отличие от § 812 и сл. ГГУ римская condictio не была направлена на все имущество должника в целом. Так как получатель должен был вернуть полученный объект, и содержание и судьба этой обязанности определялись общими принципами» (Циммерманн Р. Римское право и европейская культура // Вестник гражданского права. 2007. № 4 (сн. 95 и соответствующий текст)). Это утверждение подробно раскрывает Н. Янсен: «Направленные на реституцию condictiones до конца XIX столетия не рассматривались в качестве исков об обогащении в том смысле, который в них вкладывается сегодня, они не мыслились как основанные на обогащении, не ограничивались наличным обогащением на стороне ответчика. Напротив, римские юристы фокусировали свое внимание на том, что было передано. Они давали направленную на реституцию кондикцию в тех случаях, в которых они чувствовали, что ответчик должен вернуть то, что он получил от истца. Первоначально же римские кондикции не были даже способом защиты, направленным на совершение реституции. Они давались с целью принудительного осуществления
127

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Condictio в формулярном процессе классического периода — абстрактный иск строгого права (actio stricti juris), направленный на выдачу индивидуально-опреде- ленной вещи или определенного количества заменимых вещей. В литературе подробно описано, как благодаря абстрактности формулы кондикционного иска из процессуальной condictio возник институт исков из неосновательного обогащения, известный нам по юстиниановской компиляции13. Происхождение института наложило отпечаток на его правовой режим14, вследствие чего в праве Юстиниана кондикции сохранили свою направленность на возврат того, что было получено ответчиком. Кратко опишем относящиеся к ним правила.
Когда неосновательное обогащение составляли заменимые вещи (fungibiles — «вещи, определяемые весом, числом, мерой»), такие как деньги или зерно, получатель находился как бы в положении заемщика по договору займа (mutuum), будучи обязан к возврату такого же количества вещей того же рода и качества. Как известно, genus non perit («род не гибнет»). По этой причине гибель, потеря или растрата неосновательно полученных заменимых вещей не могли повлиять на размер обязательства15.
Если предметом кондикции выступала индивидуально-определенная вещь, то при ее гибели в отсутствие вины (culpa) или просрочки (mora) со стороны должника
передачи обещанной по стипуляции вещи или количества (stipulatione scerti). Очевидно, данный иск должен был быть строгим в том смысле, что ответчик не мог утверждать, что он не имеет вещи, в отношении которой совершил стипуляцию, возражения о том, что ответчик не является более обогатившимся, не существовало» (Jansen N. Op. cit. P. 126). Здесь требуется небольшое пояснение. Как будет показано, ответчик мог освободиться от обязательства в случае невозможности исполнения. Однако этот очевидный нюанс нисколько не противоречит приведенной цитате. Дело в том, что освобождение ответчика от обязательства в случае гибели вещи следует не из идеи обогащения как основания и предела ответственности, а из максимы impossibilium nulla est obligatio. Хотя в ряде случаев эта максима и приводит к аналогичному результату, в чем можно убедиться из нашего дальнейшего изложения, это далеко не одно и то же.
13См.: Liebs D. The History of the Roman Condictio up to Justinian // The Legal Mind, Essays for Tony Honore. 1986. P. 164–169; Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Cape Town, 1992. P. 835–839; Meyer-Spasche R.A. The Recovery of Benefits Conferred under Illegal or Immoral Transactions. A Historical and Comparative Study with particular emphasis on the Law of Unjustified Enrichment. Ph.D. Thesis. Aberdeen, 2002. P. 5–9; Новак Д.В. Указ. соч. С. 15–24 (см. там же ссылки на отечественную литературу). Здесь уместно напомнить, что римскому праву не был известен принцип генеральной кондикции — плод более поздней эпохи, так что система римских кондикций, о которой идет речь, не охватывала многие ситуации, которые сегодня рассматриваются как традиционные для института обязательств из неосновательного обогащения.
14Об исках stricti iuris и относящихся к ним правилах см.: Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. P. 783 .
15См.: Visser D. Responsibility to Return Lost Enrichment. P. 177; Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. P. 897, 787–788. Однако это правило знало исключения. Известны два случая ограничения наличным обогащением кондикционного обязательства: возврат подопечным полученного по договору, заключенному без согласия его попечителя, и возврат предоставления, совершенного по договору дарения одним супругом в пользу другого (см.: Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. P. 896–897). В обоих случаях ответчик был обязан в размере своего обогащения (in quantum locupletior factus est), измеряемого на момент litis contestatio. Здесь же уместно отметить, что римскому праву была известна конструкция неосновательного сбережения: «Если предоставлено право проживания, то я предъявляю кондикцию о деньгах не в той сумме, за которую я мог бы сдать жилье, но в той сумме, за которую ты бы снял его» (D. 12.6.65.7). По сообщению Д. Виссера, в этом пункте В. Флуме все же пришлось уступить (см.: Visser D. Responsibility to Return Lost Enrichment. P. 180).
128

Свободная трибуна
обязательство прекращалось по причине объективной невозможности исполнения. Если же невозможность исполнения была вызвана виновным поведением должника, то кредитор сохранял право взыскать стоимость вещи на момент принятия иска к рассмотрению (litis contestatio). Невозможность, наступившая в период просрочки должника, влекла для него обязанность возместить стоимость не только при наличии вины, но и при ее отсутствии (casus).
Последнее правило можно объяснить тем, что в случае возврата вещи без просрочки она бы покинула сферу риска приобретателя, в результате чего ее гибель или повреждение были бы предотвращены. Отсюда, казалось бы, следует, что просрочивший должник мог освободиться от обязательства, доказав, что случайная гибель вещи имела бы место и в случае ее своевременного возврата16. К такому выводу в своем учебнике приходит итальянский романист Ч. Санфилиппо. По мнению исследователя, освобождение от обязательства в описанном случае явилось одним из нововведений эпохи Юстиниана17. Однако в литературе широко представлена противоположная точка зрения, согласно которой римское право в силу присущего ему ригоризма проявило в этом вопросе непоследовательность, так что должник не освобождался18. Важно отметить, что принятие исполнения лицом, осведомленным об отсутствии обязательства, в римском праве считалось кражей (furtum), а само такое лицо — вором19. Вор же, согласно известной римской максиме, всегда находился в просрочке (fur semper in mora).
Когда вещь была продана добросовестным ответчиком-собственником третьему лицу, требование истца распространялось не на стоимость вещи, а на полученную ответчиком от третьего лица покупную цену20. В основе этого правила лежит идея замещения вещи уплаченной за нее покупной ценой: по замыслу римских юристов, цена замещала собой первоначальный предмет кондикционного иска в собственности ответчика.
Случай, когда проданная вещь не принадлежала ответчику, вызывает сложности. Источники говорят о возможности истребования цены, полученной от продажи чужого, когда право собственности на вещь и, как следствие, возможность виндицировать прекратились ввиду гибели вещи или по причине давности. Впрочем, нет полной ясности по вопросу о том, мог ли потерпевший до момента утраты им права собственности осуществить выбор между истребованием вещи
16Ср. с современным регулированием: § 819, 287 ГГУ, ст. VII.-6:101 (2) (b) (i) DCFR.
17См.: Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2002. С. 232.
18См.: Wacke A. Casum sentit dominus: Liability for Accidental Damages in Roman and Modern German Law of Property and Obligation // The Journal of South African Law. 1987. № 3. P. 324; Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. P. 790. По мнению автора, попытка обнаружить логику в том, что в случае своевременного исполнения обязательства должником кредитор имел бы возможность обратить предмет в ценность путем продажи, вызывает сомнения (см.: Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Note 48). См. также: Виндшейд Б. Об обязательствах по римскому праву. СПб., 1875. С. 69 (сн. 15).
19См.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 260. См. также: Виндшейд Б. Указ. соч. С. 432.
20См.: Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. P. 898–899; Visser D. Responsibility to Return Lost Enrichment. Р. 179.
129

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
от фактического владельца и иском к продавцу о возврате полученной покупной цены21.
Утрата полученных от продажи сумм не освобождала ответчика от лежащего на нем обязательства.
Подводя итог описанию установлений римского права по интересующему нас вопросу, следует сказать, что сфера влияния утраты обогащения на размер кондикционного обязательства была довольно узкой. Если оставить в стороне исключения, о которых упоминалось выше, это влияние ограничивалось безвиновной утратой подлежавшей возврату индивидуально-определенной вещи. Однако важно еще раз подчеркнуть, что освобождение ответчика от обязательства в этом случае следовало вовсе не из идеи обогащения (в роли основания и предела ответственности), а, как мы попытались продемонстрировать, из максимы impossibilium nulla est obligatio.
Такое положение дел, согласно В. Флуме, сохранялось вплоть до XIX в., когда немецкие пандектисты, подхватив идеи, изложенные в работах К. Глюка, приняли точку зрения, что добросовестный кондикционный должник должен быть освобожден от обязательства возвратить неосновательное обогащение и в случае утраты полученных им заменимых вещей. «Французский гуманист Донелл, — отмечал К. Глюк, — полагал, что получатель платежа недолжного (indebitum) обязан, подобно заемщику, нести риск утраты полученного, если полученное составляли заменимые вещи. Однако существует важное различие между заемным обязательством и обязательством, основанным на получении indebitum: первое возникает из договора и существует, даже если заемщик перестает извлекать выгоду, в то время как второе существует до тех пор, пока ответчик имеет обогащение (здесь и далее в цитатах курсив наш. — Д.С.)»22.
21См.: Hallebeek J. Developments in Mediaeval Roman Law // Unjust Enrichment. The Comparative Legal History of the Law of Restitution / ed. by E.J.H. Shrage. Berlin, 1995. P. 93.
22См.: Visser D. Responsibility to Return Lost Enrichment. P. 185. Интересно, что аналогичных воззрений на вопрос о влиянии утраты обогащения придерживался уже Р. Потье: «Когда недолжно уплачены деньги, лицо, которое принимает их добросовестно, не является стороной договора и не совершает деликт, из которого вытекает обязанность их вернуть. Эта обязанность возникает из одного лишь требования
справедливости, предписывающего, чтобы никто не обогащался во вред другому. В результате обязательство не простирается за пределы обогащения лица, получившего платеж» (Pothier R. Pandectae Justinianae. London, 1782. Vol. 1. P. 377). Однако строгий подход современного французского права к иску об уплате недолжного (répétition de l’indu) контрастирует с этим учением (см.: Bell J., Byron S., Whittaker S. Principles of French Law. Oxford, 2008. P. 431–433). Строгость такого подхода смягчается практикой французских судов, которые временами находят возможным привлекать истца к деликтной ответственности там, где возврат уплаченного причиняет ответчику вред (Ibid. P. 433; Englard I. Chapter 5: Restitution of Benefits Conferred without Obligation // International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. X: Restitution — Unjust Enrichment and Negotiorum Gestio / ed. by P. Schlechtriem. Tübingen, 2007. P. 146, 165). Как отмечают К. Цвайгерт и Х. Кётц, это возможно благодаря тому, что во Франции внедоговорная ответственность может возникнуть в связи с чисто экономическими убытками, в то время как в Германии они не подлежат компенсации, если не подпадают под действие § 823 (I) ГГУ, в котором данная проблема регулируется на основе принципа исчерпывающего перечисления нарушений (см.: Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. М., 2010. С. 593). В то же время применение правил о деликтной ответственности по общему правилу предполагает наличие всех ее условий, включая условие о вине, на стороне деликвента (в нашем случае — истребующего платеж недолжного кондикционного кредитора), что ставит защиту кондикционного должника в довольно жесткие рамки. Французский общий иск из неосновательного обогащения (action de in rem verso), напротив, представляет собой классический иск об обогащении.
130

Свободная трибуна
В этом случае примечательно как отступление от изложенных выше классических правил, так и предложенное для этого обоснование. Из приведенной цитаты видно, что у К. Глюка произошло изменение традиционного понимания кондикции как обязательства, направленного на выдачу того, что было получено, с постепенным усилением внимания к тому, что сохранилось в имуществе добросовестного неосновательно обогатившегося лица на момент начала судебной тяжбы23. Закономерным итогом развития этой идеи явилась возобладавшая в пандектистике
концепция обогащения как основания и предела ответственности. Согласно этой концепции для того, чтобы определить размер кондикционного обязательства, необходимо выяснить, какое влияние получение благ оказало на имущественное положение неосновательно обогатившегося лица в целом24.
Этот тезис легко проиллюстрировать, обратившись к работам немецких пандектистов. Так, у Ю. Барона читаем: «Само обогащение определяет размер обязанности обогащенного; вообще он должен возвратить то, что во время начала процесса находится в его руках от действия, полученного без основания; сюда еще присоединяются: за время до процесса вся прибыль от действия, полученного без основания (omnis causa), поскольку она еще находится у ответчика; далее то, чем обогащение уменьшилось вследствие dolus или culpa ответчика. Несправедливо утверждают некоторые юристы, что относительно res fungibiles обязанный отвечает даже за уменьшение вследствие случая…»25
В том же ключе высказывался один из наиболее авторитетных представителей науки пандектного права Б. Виндшейд: «Возникающее из неосновательного обогащения обязательство простирается только на выдачу обогащения… Последующее уничтожение обогащения устраняет обязанность к выдаче, если уничтожение последовало без вины обогатившегося… Наши источники сводят обязанность выдачи неосновательного обогащения к требованию справедливости; если же неосновательное обогащение порождает по справедливости обязанность к выдаче, то справедливо будет, чтобы обязанность эта длилась до тех пор, пока само обогащение существует»26. Другими словами, требование справедливости сводится к тому, чтобы ответчик не обогащался. Справедливость не требует, чтобы добросовестный ответчик платил истцу из своего кармана. Следовательно, из самой природы иска о возврате неосновательного обогащения вытекает, что положение добросовестного
23Некоторые исследователи небеспочвенно полагают, что идея обогащения как основания и предела ответственности, которую пандектисты соединили с римскими кондикциями, зародилась уже в Средние века, и через Аквината и каноническую доктрину restitutio восходит к аристотелевской концепции выравнивающей справедливости (см.: Gordley J. Restitution without enrichment? Change of position and Wegfall der Bereicherung // Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Perspective / D. Johnson, R. Zimmermann (eds.). Cambridge, 2002. P. 227–229; Jansen N. Op. cit. P. 127–129).
24Этот подход мы находим у отечественных дореволюционных авторов (см.: Гримм Д.Д. Указ. соч. Вып. 1 С. 37 и след.; Полетаев Н. Иски из незаконного обогащения // Журнал гражданского и уголовного права. 1892. Кн. 3. С. 36–37), а также в ст. 1059 первой редакции проекта Гражданского уложения Российской империи. Об эволюции понятия обогащения в российском и немецком праве подробнее см.: Гербутов В.С. Понятие и формы обогащения в кондикционных обязательствах. С. 21–64, 110–132.
25Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб., 2005. С. 706.
26Виндшейд Б. Указ. соч. С. 425–426 (сн. 3).
131

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
кондикционного должника не может стать хуже: в случае утраты обогащения он освобождается от обязательства по его возврату27.
В ходе работ над проектом Германского гражданского уложения (ГГУ) пандектное учение об утрате обогащения оказалось востребованным. Представление об обогащении как о переменной величине в совокупном имуществе ответчика было поддержано как Первой, так и Второй комиссией по подготовке ГГУ. В Мотивах Первой комиссии разъясняется, что в той мере, в какой обогащение уменьшилось или отпало, при условии, что обогатившийся не был осведомлен о необходимости его вернуть, обязательство прекратится безотносительно к тому, произошло ли это вследствие случая, умышленного или неосторожного поведения обогатившегося. По мнению комиссии, из самого понятия обогащения следует, что при определении того, существует ли обогащение и если существует, то каков его размер, подлежит исследованию совокупное имущество обогатившегося лица28. В итоге в ГГУ появился § 818 (III), согласно которому «обязанность по возврату или возмещению стоимости отпадает, если получатель более не обогащается», а сам институт получил название Wegfall der Bereicherung («отпадение обогащения»).
Что способствовало закреплению этих идей в Уложении? На наш взгляд, можно говорить о наличии двух причин.
Во-первых, авторитет немецкой пандектистики. Достаточно отметить, что в протоколе Второй комиссии почти дословно отражена вышеприведенная точка зрения Б. Виндшейда: «Справедливость требует и дозволяет, чтобы защита предоставлялась лишь постольку, поскольку добросовестному лицу, получившему обогащение, тем самым не будет причинен вред; однако этому лицу был бы причинен вред, если бы оно было обязано возвратить больше, чем его обогащение…»29 Таким образом, § 818 (III) ГГУ лишь воплотил господствовавшее на тот момент доктринальное воззрение на предмет кондикционного обязательства.
Во-вторых, ослабление значения ошибки30, а также появление в Уложении общего принципа недопустимости неосновательного обогащения, предложенного К.Ф. Савиньи31. В этих условиях возражению32 была отведена роль универсального механизма, направленного на защиту интересов добросовестного должника. Впоследствии
27См.: Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. P. 900–901.
28Мотивы Первой комиссии по подготовке ГГУ, см.: Mugdan В. Die gesammten Materialien zum Borgerlichen Gesetzbuch. II. Berlin, 1899. S. 467 (приводится по: Dawson J. Op. cit. P. 274–275).
29Протокол Второй комиссии по подготовке ГГУ, см.: Mugdan В. Op. cit. S. 1182–1184 (цит. по: Dawson J. Op. cit. P. 275).
30Уравнивание фактических и юридических ошибок для целей применения condictio indebiti; упразднение критерия извинительности; ошибка перестает быть элементом основания иска, превращаясь в возражение о безошибочности исполнения.
31См.: Krebs T. Restitution at the crossroads: a comparative study. London, 2001. P. 279.
32Здесь возражение эквивалентно отрицанию обогащения как элемента основания иска. Вопрос о влиянии понятия обогащения на конструкцию возражения будет рассмотрен в п. 1.1.2 настоящей статьи.
132

Свободная трибуна
изменение подхода к категории обогащения приведет к эмансипации § 818 (III) ГГУ от основания кондикционного иска33, что наряду с развитием систематики кондикционных обязательств позволит ставить вопросы о политико-правовом основании, пределах и условиях этой защиты более четко и недвусмысленно.
Нечто подобное спустя почти столетие наблюдалось в английском праве. В знаменитом прецеденте Lipkin Gorman v. Karpnale Ltd34 Палата лордов пришла к выводу о том, что право реституции основано на принципе недопустимости неосновательного обогащения35. Именно в этом деле получило признание возражение об изменении положения (change of position defence). Это возражение общего характера, prima facie применимое ко всем реституционным искам, выступает английским аналогом немецкого Wegfall der Bereicherung36.
Лорд Гофф усмотрел в возражении эффективный инструмент защиты интересов добросовестного должника: «Следует спросить себя, почему мы чувствуем, что допускать реституцию в делах, подобных этим, было бы несправедливо? Ответ должен быть таким: если положение добросовестного ответчика изменилось настолько, что по отношению к нему было бы несправедливо требовать обратный платеж полностью или в части, несправедливость такого требования перевешивает несправедливость отказа истцу в реституции. Если истец платит ответчику денежную сумму под влиянием ошибки в факте и ответчик затем, действуя добросовестно, тратит всю полученную сумму или ее часть на благотворительность, несправедливо требовать от ответчика реституции в той части, в какой его положение изменилось…»37
33См. п. 1.1.2 настоящей статьи.
34См.: Lipkin Gorman (a firm) v. Karpnale Ltd [1991] 2 AC 548, HL.
35Принцип включает в себя три условия: 1) ответчик должен обогатиться путем получения выгоды (benefit); 2) выгода должна быть получена за счет истца; 3) было бы несправедливо (unjust) оставлять эту выгоду ответчику (см.: Goff R., Jones G. The Law of Restitution. 6th ed. London, 2002. P. 17). C последним условием связано одно из ключевых различий между английским и немецким правом. В то время как немецкое право оперирует привычной для нас категорией отсутствия правового основания, английское право обращается к концепции факторов неосновательного обогащения (unjust factors). С точки зрения английского юриста, отсутствие основания обогащения в том смысле, который вкладывается в это понятие континентальными правопорядками, является по общему правилу необходимым (см.: Burrows A. Restatement of the English Law of Unjust Enrichment. Oxford, 2012. P. 32–34), но отнюдь не достаточным условием для иска о реституции. Чтобы обосновать такой иск, требуется дополнительно наличие хотя бы одного из так называемых факторов неосновательного обогащения (mistake, duress, undue influence, failure of consideration, ignorance or powerlessness etc.) — причин, по которым реституция должна быть доступна. Как следствие, по сравнению с немецким правом, где благодаря наличию абстрактного правила § 812 ГГУ ответ на вопрос, почему в том или ином конкретном случае правовое основание обогащения отсутствует, систематически выносится за рамки главы 24 ГГУ «Неосновательное обогащение», английское право реституции оказывается нормативно перегруженным. Однако такой подход позволяет ему развиваться традиционным case by case методом: суды осторожно нащупывают границы реституции, поступательно расширяя по мере необходимости область ее применения. Как отмечает в этой связи А. Барроуз, факторы неосновательного обогащения подвержены развитию. Они не представляют собой раз и навсегда установленной величины (Ibid. P. 30–32).
36Далее для обозначения обеих конструкций мы будем использовать термин «возражение об утрате обогащения».
37Lipkin Gorman (a firm) v. Karpnale Ltd [1991] 2 AC 548 HL, 579.
133

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Закрепление принципа недопустимости неосновательного обогащения и возражения об изменении положения в одном прецеденте явилось отнюдь не простым совпадением38. С одной стороны, возражение стало условием рецепции принципа, с другой — важнейшей предпосылкой для расширения области применения реституции в будущем.
В связи с этим имеет смысл обратиться к изменениям, которые произошли с таким фактором неосновательного обогащения, как ошибка (mistake). Традиционно
ванглийском праве ошибка в праве (mistake of law), в противоположность ошибке
вфакте (mistake of fact), исключалась из числа факторов неосновательного обогащения. В результате потерпевший лишался возможности истребовать то, что было исполнено по несуществующему обязательству вследствие правовой ошибки, разумеется, при условии, что он не мог обосновать наличие какого-либо иного фактора неосновательного обогащения39. Однако спустя восемь лет после Lipkin Gorman v. Karpnale Ltd Палата лордов поставила знак равенства между ошибкой в факте и ошибкой в праве40. Произошедшее вследствие этого расширение предметной области реституции не могло не затронуть интересы ответчиков, добросовестно полагавшихся на бесповоротность состоявшегося обогащения.
Считается, что уравнивание ошибок стало возможным главным образом благодаря появлению в английском праве возражения об изменении положения41. Удачно эту взаимосвязь охарактеризовал один из наиболее выдающихся исследователей английского права реституции проф. П. Бёркс. По мнению ученого, допустимость возражения об изменении положения — лишь неизбежная плата за более точный компромисс между потребностью в реституции и интересом в стабильности при-
38См.: Krebs T. Restitution at the crossroads: a comparative study. P. 271; Sagaert V. Unjust Enrichment and Change of Position // Maastricht Journal of European and Comparative Law. 2004. Vol. 11. № 2. P. 166. Эту же мысль недвусмысленно выразил сам лорд Гофф (см.: Lipkin Gorman (a firm) v. Karpnale Ltd [1991] 2 AC 548 HL, 581).
39Например, failure of consideration.
40Поводом послужило дело об истребовании исполненного по недействительному процентному свопу (см.: Kleinwort Benson Ltd v. Lincoln City Council [1999] 2 AC, 349 HL). Муниципалитеты практиковали процентные свопы с начала 1980-х гг., однако в 1992 г. Палата лордов в деле Hazell v. Hammersmith and Fulham London Borough Council [1992] 2 AC 1 пришла к выводу о недействительности этих сделок как совершенных с нарушением специальной правосубъектности муниципалитетов, тем самым изменив ранее сложившийся подход к толкованию права (подробнее см.: Krebs T. In Defence of Unjust Factors // Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Perspective / D. Johnson, R. Zimmermann (eds.). Cambridge, 2002. P. 80–85). Такое изменение с точки зрения деклараторной теории судебного решения ретроспективно, поэтому исполнения по спорному и аналогичным обязательствам могут быть квалифицированы как совершенные вследствие ошибки в праве.
41См.: Kleinwort Benson v. Lincoln City Council [1999] 2 AC, 349 HL 372-73 (Lord Go ), 412 (Lord Hope). Следует отметить, что процесс расширения области применения реституции вследствие уравнивания правовых и фактических ошибок имел место не только в английском праве, охватив в 1990-е гг. значительную часть правопорядков системы common law (см. об этом: Visser D.P. Unjustified Enrichment. Cape Town, 2008. P. 295. Note 109). Примечательно, что в некоторых из них такое уравнивание сопровождалось признанием возражения об изменении положения, как это имело место в ключевом австралийском прецеденте Securities Pty Ltd v. Commonwealth Bank of Australia [1992] 175 CLR 353: «Если должен был быть принят принцип, согласно которому платеж, совершенный вследствие ошибки в праве, prima facie подлежит возврату так же, как платеж, совершенный вследствие ошибки в факте, существует потребность в возражении об изменении положения...»
134

Свободная трибуна
обретений (security of receipts)42. Одна из возможных стратегий защиты этого интереса состоит в ужесточении оснований реституции, например за счет предъявления особых требований к ошибке на стороне истца. Альтернативная стратегия состоит в либерализации оснований реституции при одновременном использовании возражения об изменении положения. Возражение гарантирует всем добросовестным лицам возможность полагаться на свободу распоряжения в отношении тех благ, которыми, как им кажется, они могут распоряжаться. Вторая стратегия, по мнению автора, предпочтительнее, поскольку, в отличие от первой, позволяет четко отделить случаи, в которых ответчик нуждается в защите, от тех, где заслуживающие защиты интересы ответчика не затрагиваются43.
Чем либеральней подход правовой системы к кондикционным обязательствам, чем шире спектр ситуаций, подпадающих под действие принципа недопустимости неосновательного обогащения, тем больше затрагиваются интересы добросовестных ответчиков, притом что, как известно, для возникновения кондикционного обязательства совсем не требуется их вины, ведь цель института неосновательного обогащения состоит не в том, чтобы возложить на ответчика убытки или наказать его за правонарушение, а в том, чтобы восстановить имевший место до «немотивированного с точки зрения частнохозяйственной разумности»44 перемещения благ status quo ante. В английской доктрине в связи с этим принято характеризовать реституционную ответственность как строгую, не требующую вины на стороне ответчика. Эта особенность служит важным аргументом в пользу вывода об отнесении потерь, вызванных необходимостью вернуть неосновательное обогащение, на кондикционного кредитора, блокируя реституцию в той части, в какой такие потери имели бы место на стороне кондикционного должника в результате реституции.
Опыт исследуемых правопорядков свидетельствует, что общий принцип недопустимости неосновательного обогащения нуждается в столь же общем (универсальном) ограничительном механизме, который prima facie был бы одинаково применим ко всем ситуациям, которые подпадают под действие этого принципа. В немецком и английском правопорядках в роли такого механизма выступает возражение об утрате обогащения. При этом значение ошибки и эстоппеля, способных в ограниченных пределах выполнять аналогичные функции, значительно ослабевает45. Важный компаративный вывод заключается в том, что расширением предметной области кондикционных обязательств исследуемые правопорядки обязаны в первую очередь рассматриваемому возражению.
Одновременно не вызывает сомнений то, что ситуации, охватываемые общим принципом недопустимости неосновательного обогащения, крайне разнообразны. Механизм должен быть достаточно гибким, чтобы обеспечить распределение потерь с учетом всех релевантных обстоятельств. Поэтому точное определение ус-
42См. подробнее сн. 84 ниже.
43См.: Birks P. Change of Position and Surviving Enrichment // The Limits of Restitutionary Claims: A Comparative Analysis / W. Swadling (ed.). London, 1997. P. 39–40.
44Петражицкий Л.И. Иски о незаконном обогащении в 1 ч. X т. // Вестник права. 1900. № 2. С. 20.
45См.: Burrows A. The English Law of Restitution: A Ten-Year Review // Understanding Unjust Enrichment / еd. by J.W. Neyers, M. McInnes, S.G.A. Pitel. Oxford, 2004. P. 19, 21–22.
135

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
ловий и области применения возражения об утрате обогащения как в Германии, так и в Англии отдано на откуп судебной практике, а связанные с этим вопросы правовой политики остаются предметом оживленной научной дискуссии.
От наблюдений общего характера перейдем к вопросу об объеме понятия «утрата обогащения» в немецком и английском праве. В обоих правопорядках эта категория понимается довольно широко. На кондикционное обязательство добросовестного должника может повлиять утрата того, что было получено неосновательно, будь то species или fungibiles, а также другие негативные изменения в совокупном имуществе ответчика, находящиеся в причинной связи с фактом неосновательного получения благ. Все случаи утраты обогащения в самом общем виде могут быть представлены следующим перечнем:
1)утрата первоначально полученного блага. Например, в результате гибели полученной вещи, ее безвозмездного отчуждения или отчуждения по цене ниже рыночной (здесь утрата обогащения выражается в разнице между стоимостью вещи и ценой ее отчуждения);
2)утрата иного блага. В качестве примеров можно привести ряд ситуаций: когда ответчик, полагаясь на окончательный характер увеличения имущества, несет расходы, связанные с самим предметом обогащения (производит улучшения вещи, уплачивает связанные с ней налоги и страховые премии, несет расходы на ее транспортировку и др.), делает инвестиции, которые не окупаются (приобретает акции, которые впоследствии теряют в цене), или производит траты на благотворительность; когда ответчик, приняв ошибочный платеж за погашение долга, утрачивает обеспечение или пропускает срок исковой давности46;
3)принятие обязательств. Например, неосновательное обогащение может побудить ответчика взять кредит. Однако в этом случае возражение может использоваться только в отношении процентов, но не в отношении суммы основного долга: поскольку принятие обязательства возвратить основной долг сопровождается получением заемных средств, говорить об утрате обогащения в этой части не приходится;
4)упущенная выгода47. Можно привести следующие примеры: неосновательное обогащение склоняет ответчика передать свою квартиру в безвозмездное пользование
46Распространенной ситуацией, в которой ответчик добросовестно воспринимает ошибочный платеж в качестве погашения долга, является отсутствие (недействительность) платежного поручения. Если платежное поручение должника (А) недействительно, то платеж, произведенный его банком (Б) в адрес кредитора (В), не погашает обязательство между А и В (отношение долга), равно как обязательство из договора банковского счета между А и Б (отношение покрытия). Напротив, возникает неосновательное обогащение В за счет Б. В таких случаях защита доверия В к бесповоротности платежа обеспечивается с помощью возражения об утрате обогащения (§ 818 (III) ГГУ), которое может оказаться доступным В против иска о возврате платежа, предъявленного Б, например, в случае пропуска В исковой давности по требованию к А. Аналогичным образом защищаются интересы кредитора в ситуации с возложением исполнения, когда сделка должника по возложению исполнения на третье лицо оказалась недействительна вследствие недееспособности должника или каких-либо иных причин (см.: Meier S. Mistaken Payments in Three-party Situations: a German View of English Law // Cambridge Law Journal. 1999. № 58 (3). P. 572; Martinek M. Unjust Enrichment Issues in Triangular Situations of Defective Cashless Payments — the German Approach in Comparative Perspective // Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg. 2003. № 1. P. 101–104.
47В английском праве на такую возможность указывается obiter dicta в решении по делу Commerzbank AG v. Gareth Price-Jones [2003] EWCA Civ. 1663.
136

Свободная трибуна
вместо того, чтобы сдать ее внаем; ошибочный платеж работодателя, совершенный в адрес работника, из условий, сопровождавших его совершение, воспринимается последним как выплата, направленная на то, чтобы побудить работника отказаться от ухода к другому работодателю (lock-in payment), вследствие чего работник отказывается от более выгодного предложения о трудоустройстве.
Поскольку возражение действует pro tanto, т.е. позволяет уменьшить размер обращенного к ответчику кондикционного требования, то утрата обогащения во всех случаях должна быть измерима в денежном эквиваленте48.
В той мере, в какой перечисленные факты приводят к экономии (сбережению) расходов ответчика, возражение недоступно. Типичные примеры такой экономии: использование обогащения для погашения долгов ответчика, возникших вне связи с получением неосновательного обогащения; потребление неосновательно полученной вещи, если оно привело к сбережению ответчиком денежной суммы, необходимой для приобретения такой же или аналогичной вещи, трата обогащения на удовлетворение текущих нужд ответчика, покрытие запланированных трат и т.п. «Представление о сбережении расходов, — пишет Э. фон Каммерер, — служит должному ограничению случаев отпадения обогащения § 818 III ГГУ. Тот, кто добросовестно подарил чужое имущество (предложение 2 абз. 1 § 816 ГГУ), может быть привлечен к кондикционной ответственности вследствие сбережения расходов наряду с одаренным49, возможно, находящимся вне досягаемости, если даритель и иначе подарил бы другой подарок. Тот, кто использовал для строительства дома чужие материалы, остается обязанным к выплате возмещения их стоимости на основании § 951 ГГУ, даже если дом тем временем сгорел, так как он сэкономил на покупке других материалов, т.е. имела место экономия, не отпавшая при пожаре дома»50.
Сбережение может оказаться меньше стоимости первоначально полученного блага, например, если обогащение заставило ответчика поменять свои планы и отказаться от покупки дешевого товара в пользу более дорогого, а может и вовсе отсутствовать. Довольно часто факты из нашего перечня сопровождаются приобретением благ, в которых ответчик, принимая во внимание необходимость возвратить полученное без правового основания, оказывается вовсе не заинтересован. В таких ситуациях возврат обогащения затрагивает свободу экономического выбора ответчика. Общеизвестно, что с данной проблемой в случае прямого (не опосредованного поведением обогатившегося лица) получения благ имеет дело доктрина
48См.: Virgo G. The Principles of the Law of Restitution. 3rd ed. Oxford, 2015. P. 688–689; Birks P. Unjust Enrichment. 2nd ed. Oxford, 2005. P. 208–212.
49Здесь необходимо пояснить, что немецкое право допускает прямой (минуя дарителя) иск из неосновательного обогащения непосредственно к одаряемому как в ситуации, когда он приобретает право собственности от дарителя-несобственника (предложение 2 абз. 1 § 816 ГГУ; в отличие от российского права, добросовестный одаряемый в Германии становится собственником), так и в случае, когда в роли дарителя выступает лицо, приобретшее право собственности sine causa благодаря абстрактности вещного договора (§ 822 ГГУ). Это одни из немногих примеров, когда немецким правом дозволяется так называемый версионный иск (т.е. иск, направленный против получающего выгоду третьего лица).
50Каммерер Э., фон. Обогащение и недозволенное действие. Ч. II // Вестник гражданского права. 2010. Т. 10. № 3. С. 279.
137

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
навязанного обогащения. Именно эта доктрина, по нашему убеждению, призвана ответить на вопрос о доступности возражения в отсутствие сбережений. Связь возражения с доктриной навязанного обогащения заслуживает самого пристального внимания и будет рассмотрена ниже.
Некоторую сложность представляет случай, когда утрата блага сопровождается приобретением прав, обращенных к третьим лицам. В литературе справедливо отмечается, что не всякое приобретенное право служит препятствием возражению. Если взыскание затруднительно, то возражение должно быть доступно51. Так, право требовать выдачи вещи, обращенное к ее вору, или право требовать выплаты сумм, обращенное к несостоятельному должнику, очевидно, не может рассматриваться в качестве эквивалента утраченного. Однако потерпевшему должна быть открыта возможность требовать передачи от должника соответствующих прав, обращенных к третьим лицам52.
1.1.2. Влияние понятия «обогащение» на конструкцию возражения
Определяя объем понятия «утрата обогащения» на примере Германии и Англии, мы оставили открытым вопрос о том, какова природа нашего возражения: является ли оно простым отрицанием обогащения как элемента основания кондикционного иска или возражением в собственном смысле слова (stricto sensu). Ответ зависит от того, как понимается обогащение в конкретном правопорядке. Исследование основополагающей для института кондикционных обязательств категории обогащения выходит за рамки настоящей работы. Не претендуя поставить точку в споре о том, какой из описанных ниже подходов является более предпочтительным, мы коснемся категории обогащения только в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы понять, как может быть устроен интересующий нас механизм защиты добросовестных неосновательно обогатившихся лиц.
Обогащение в рамках института кондикционных обязательств может пониматься по-разному. Согласно подходу, который получил название совокупно-имуще- ственного, обогащение понимается в соответствии с тем значением, которое мы обычно вкладываем в это слово в повседневной жизни, а именно как результат присоединения к имуществу лица благ денежной ценности без выделения соответствующего эквивалента, вследствие чего лицо становится богаче53. Обогащение рассматривается с точки зрения совокупного состояния имущества ответчика до
51См.: Virgo G. The Principles of the Law of Restitution. P. 686; Krebs T. Restitution at the crossroads: a comparative study. P. 281, 293–294; см. также: Nolan R. Change of Position // Laundering and Tracing / еd. by P. Birks. Oxford, 1995. P. 171–172.
52В качестве иллюстрации см. сн. 157 и соответствующий текст.
53См.: Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 9; Swann S. The Structure of Liability for Unjustified Enrichment: First Proposals of the Study Group on a European Civil Code // Grundstrukturen eines Europäischen Bereicherungsrecht / еd. by R. Zimmermann. Tübingen, 2005. P. 279. Проводить различие между совокупно-имущественным и предметно-ориентированным подходом к категории обогащения в отечественной науке впервые предложил В.С. Гербутов, см.: Гербутов В.С. Эволюция обогащения. К учению об обогащении по российскому праву // Вестник гражданского права. 2012. № 2 С. 36–60; Он же. Понятие и формы обогащения в кондикционных обязательствах. С более подробным описанием подходов читатели могут ознакомиться в указанных работах.
138

Свободная трибуна
и после получения блага и как элемент основания иска представляет собой переменную величину: единожды возникнув, с течением времени оно может изменяться подобно тому, как под воздействием различных факторов изменяется совокупное имущество лица, в том числе в связи с несением обогатившимся расходов, вызванных фактом получения благ имущественной ценности54. Таким образом, в рамках совокупно-имущественного подхода возражение тождественно отрицанию обогащения как элемента основания кондикционного иска. Именно этот подход, как следует из нашего краткого исторического экскурса, сформировавшись в науке пандектного права, нашел закрепление в ГГУ. Он же получил развитие и господствовал в Германии первые годы после кодификации55.
В литературе справедливо отмечается, что совокупно-имущественный подход, если проводить его последовательно, оказывается несовместим с требованием о возврате неосновательного обогащения в натуре. Например, если имеет место обмен, то одна из сторон обогащается только тогда, когда полученная ею ценность превышает размер совершенного встречного предоставления. При эквивалентном выбытии имущественной ценности неосновательное обогащение отсутствует; при неэквивалентности предметом кондикционного обязательства выступает не полученная неосновательно вещь, а денежный излишек, образующий разницу стоимостей совершенных предоставлений (денежное сальдо)56. Следствием такого понимания становится отказ признавать существование обогащения во всех случаях, когда приобретение сопровождалось равноценным предоставлением, совершенным в адрес третьего лица: неосновательное пользование чужой вещью, предоставленной не управомоченным на распоряжение лицом за плату, возмездное приобретение имущества от неуправомоченного лица и т.п.
Как правило, если правовая система стоит на позициях совокупно-имуществен- ного подхода, в ней можно обнаружить ряд правил, используемых для того, чтобы сделать возможным возврат неосновательного обогащения в натуре, учесть добросовестность ответчика, а также достичь необходимой гибкости в правовом регулировании. Иллюстрацией могут служить предпринятые в рамках совокупноимущественного подхода усилия по тонкой настройке институтов навязанного обогащения57 и возврата исполненного по недействительному синаллагматическому договору58.
Альтернативной парадигмой выступает предметно-ориентированный подход. Он состоит в том, чтобы считать обогащением полученное лицом благо. Основная идея кондикционного иска в рамках предметно-ориентированного подхода покоится не на том, что ответчик имеет больше, чем имел прежде, а — подобно виндикации
54См.: Гербутов В.С. Понятие и формы обогащения в кондикционных обязательствах. С. 26–27.
55См.: Там же. С. 110–112.
56См.: Study Group on a European Civil Code, Principles of European Law — Unjustified Enrichment / еd. by C. von Bar, S. Swann. Munich, 2010. P. 356–357.
57См.: Гербутов В.С. Навязанное обогащение. К учению об обогащении по российскому праву // Вестник гражданского права. 2011. № 2. С. 148–150.
58См.: Салмин Д.Н. Указ. соч. С. 47 и след.
139

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
и римским кондикциям59 — на возврате того, что было получено ответчиком, но причитается истцу. Следовательно, «наличие или отсутствие положительного изменения в совокупном имуществе получателя блага в связи с его получением не влияет на выполнение такого условия возникновения кондикционного обязательства, как получение обогащения»60.
Содержание кондикционного обязательства prima facie образует возврат полученного блага в натуре61, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре в силу природы блага (когда полученное выражается в выполненной работе, оказанной услуге, пользовании вещью) или по причине его утраты — выплата стоимости. Однако при определенных условиях, к разбору которых мы приступим чуть ниже, вызванное получением блага негативное изменение в совокупном имуществе ответчика дает ему право освободиться от исполнения обязательства полностью или в соответствующей части, выдвинув против кондикционного иска возражение stricto sensu62. Эти условия помимо добросовестности ответчика могут учитывать степень вины сторон обязательства в возникновении неосновательного обогащения, а также другие обстоятельства, значимые для распределения между ними потерь, вызванных утратой обогащения.
Нельзя не отметить, что сам термин «утрата обогащения», ассоциируясь с основанием иска, становится не вполне удачным. Теперь он обозначает не уменьшение обогащения как элемента основания иска, а подлежащие учету для целей возражения изменения в совокупном имуществе ответчика. Для этого изменения должны отвечать двум условиям: 1) они должны находиться в причинно-следственной связи с фактом неосновательного обогащения (получения благ); 2) в результате изменений выдача полученных благ или их стоимости не восстанавливает положение, в котором находился бы ответчик, если бы эти блага не были получены, вследствие чего перед правом стоит задача определить, какая из сторон кондикционного обязательства понесет неблагоприятные последствия этих изменений (распределить потери).
В итоге в рамках предметно-ориентированного подхода алгоритм применения кондикции включает два этапа. На первом этапе подлежит выяснению, чтó получено ответчиком за счет истца без правового основания (обогатился ли ответчик), и только на втором — в каком размере он отвечает перед истцом63. Вопрос о том, кто
59См.: п. 1.1.1 настоящей статьи.
60Гербутов В.С. Понятие и формы обогащения в кондикционных обязательствах. С. 166.
61Вопрос о возможности истребовать полученное ответчиком в натуре зависит от подхода правовой системы к такого рода требованиям и в рамках предметно-ориентированного подхода может решаться по-разному.
62Поскольку предметно-ориентированный подход не противится истребованию полученного блага в натуре, ожидаемо возникает вопрос: как быть, если возврат в натуре возможен, однако ответчик понес потери? Решение видится в том, чтобы обязать ответчика осуществить исполнение в натуре при условии компенсации истцом понесенных потерь (см.: Dorner H. «Change of Position» and «Wegfall der Bereicherung» // The Limits of Restitutionary Claims: A Comparative Analysis / W. Swadling (ed.). London, 1997. P. 73–74; Hacker B. Consequences of Impared Consent Transfers. Tübingen, 2009. P. 68 (note 47); Birks P. Change of Position and Surviving Enrichment. P. 44).
63См.: Zimmermann R., Plessis J. du. Basic Features of the German Law of Unjustified Enrichment // Restitution Law Review. 1994. Vol. 14. P. 39.
140

Свободная трибуна
несет потери, локализуется на втором этапе, будучи обособлен от категории обогащения как условия возникновения кондикционного обязательства64.
В настоящее время предметно-ориентированный подход является господствующим в Германии. Можно утверждать, что на нем основано регулирование кондикционных обязательств и в английском праве65.
Одно из главных достоинств предметно-ориентированного подхода, по нашему мнению, состоит в проведении четкой границы между регулированием, направленным на возврат обогащения, и регулированием распределения потерь66.
64См.: Swann S. Op. cit. P. 280: «Сосредоточение на благах как на совокупности ценностей, что перешли из имущественной сферы одного лица в имущественную сферу другого (безотносительно к тому, имело ли место встречное перемещение), и оставление в стороне совокупно-имущественного подхода позволяет нам более четко сфокусироваться на ключевых вопросах: i) какое благо получено; ii) понес ли истец сопряженную с этим невыгоду; iii) имеет ли (состоявшийся по воле или против воли) переход [блага] основание; iv) каков размер обязательства [ответчика] с учетом противостоящих друг другу факторов? Только в контексте последнего вопроса обогащение в традиционном его понимании [с позиций совокупно-имущественного подхода] имеет значение, поскольку лишь здесь существует необходимость выяснить, не приведет ли обязание ответчика выдать обогащение (т.е. полученное благо) или возместить его стоимость к тому, что ответчик несправедливо окажется в положении худшем, чем то, в котором он пребывал прежде, чем обогащение было получено». Очевидно, необходимость тонкой настройки института кондикционных обязательств сохраняется и в рамках предметно-ориентированного подхода, однако в отличие от совокупно-имущественного центр тяжести правового регулирования смещается в сторону доступных ответчику возражений.
65См.: Гербутов В.С. Понятие и формы обогащения в кондикционных обязательствах. С. 113, 154. Он же положен в основу регулирования обязательств из неосновательного обогащения в DCFR.
66Среди достоинств предметно-ориентированного подхода В.С. Гербутов называет правильное решение вопросов предмета (объема) требования и распределения бремени доказывания. С точки зрения бремени доказывания истцу надлежит доказывать имеющий объективный характер факт обогащения (переход конкретной ценности к ответчику), а не неизвестный ему объем положительных изменений
вимуществе получателя ценности (Гербутов В.С. Понятие и формы обогащения в кондикционных обязательствах. С. 166). Признавая правоту автора, отметим, что перераспределение бремени доказывания в рамках совокупно-имущественного подхода не составляет сколько-нибудь значительной проблемы. Достаточно ввести несколько презумпций, и все становится на свои места: например, если доказано, что ответчик получил благо, он предполагается обогатившимся до тех пор, пока не доказано обратное (см.: Evans-Jones R. Unjustified Enrichment. Vol. 1. Edinburgh, 2003. P. 325; Dyson A., Goudkamp J., Wilmot-Smith F. Defences in Unjust Enrichment: Questions and Themes // Defences in Unjust Enrichment / еd. by A. Dyson, J. Goudkamp, F. Wilmot-Smith. Oxford, 2016. P. 14–15); ответчик должен возместить истцу все то, что он мог извлечь из вещи при наиболее благоприятных условиях, раз он не докажет, что в данном случае его выгода меньше (см.: Гримм Д.Д. Указ. соч. Вып. 2. С. 96). Однако предметноориентированный подход вводит адекватное общее правило, согласно которому бремя доказывания всех обстоятельств, которые позволяют ответчику освободиться от обязательства, лежит на нем.
На наш взгляд, предложенная Д.Д. Гриммом презумпция могла бы оказаться полезной и в рамках предметно-ориентированного подхода, поскольку облегчила бы истцу трудновыполнимую задачу доказывания размера так называемого косвенного обогащения. К слову, с такой задачей столкнулся истец в известном деле № А40-171891/2014. В этом деле Верховный Суд РФ, хотя и согласился с истцом
втом, что к неосновательному денежному обогащению применим п. 1 ст. 1107 ГК РФ, вследствие чего истец не лишен возможности обосновывать, что размер косвенного обогащения ответчика превысил или должен был превысить процент, указанный в п. 2 ст. 1107 ГК РФ, тем не менее в иске отказал. Причиной отказа послужило то, что ответчик не смог доказать размер косвенного обогащения. Как отметил суд, «под доходом по смыслу пункта 1 статьи 1107 Кодекса понимается чистая прибыль обогатившегося лица, извлеченная из неосновательно сбереженного имущества, то есть полученная им выручка за вычетом расходов, понесенных в целях извлечения конкретного дохода. Применительно к обстоятельствам настоящего спора общество [истец], сославшись на размер средней ставки по коммерческим кредитам, не привело каких-либо доказательств, свидетельствующих о превышении
141

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Содной стороны, предметно-ориентированный подход позволяет выстроить гибкий (учитывающий многообразие релевантных обстоятельств) механизм защиты интересов кондикционного должника, не нарушая целостности понятия обогащения, не выводя за рамки института кондикционных обязательств ситуации, в которых обогащение с точки зрения совокупно-имущественного подхода отсутствует, однако обязательство должника исходя из соображений правовой политики прекращаться не должно. Гибкость механизма, как отмечалось выше и будет неоднократно подчеркнуто далее, является важнейшей его характеристикой.
Сдругой стороны, что не менее важно, предметно-ориентированный подход дает возможность более четко артикулировать соображения правовой политики, лежащие в основании возражения об утрате обогащения, избавиться от иллюзии, будто ограничение обязательства наличным обогащением вытекает из самой природы вещей. С учетом этого мы постараемся провести анализ нашего возражения в русле предметно-ориентированного подхода.
Для целей исследования, однако, важно отметить, что защита интересов кондикционного должника может быть обеспечена в рамках обоих подходов — как со- вокупно-имущественного, так и предметно-ориентированного. По этой причине отсутствие в законе правил, посвященных утрате обогащения, само по себе еще не свидетельствует о том, что такой защиты нет. Необходимо выяснить, какое понятие обогащения использует правовая система.
1.1.3. Возражение об утрате обогащения и проблема навязанного обогащения
Ранее мы предположили наличие связи между исследуемым возражением и доктриной навязанного обогащения. Эта связь интересна по двум причинам. Во-первых, можно предположить, что практически полное игнорирование отечественной доктриной вопроса о влиянии утраты обогащения на кондикционные обязательства в значительной степени вызвано слабой разработанностью проблематики навязанного обогащения67. Если так, то оживление научной дискуссии в этой области могло бы способствовать обсуждению более широкого спектра вопросов, включая вопрос о предполагаемых месте и роли возражения об утрате обогащения. Во-вторых, обнаружение искомой связи сделало бы актуальным исследование возможности применения к возражению доктринальных разработок в области навязанного обогащения. В настоящем разделе мы попытаемся наметить некоторые общие ориентиры для дальнейших исследований в указанном направлении.
В работах зарубежных исследователей отмечается, что возражение об утрате обогащения и доктрина навязанного обогащения имеют много общего. Так, выступая за
дохода банка [ответчика] (в том числе того, который он должен был извлечь) над тем, который определен по правилам пункта 2 статьи 1107 Кодекса. Сама по себе выдача кредита под определенный процент не гарантирует получение дохода в соответствующем размере; процентная ставка определяется банком с учетом имеющейся у него статистики по исполнению заемщиками своих обязательств, при определении ее размера во внимание принимается в том числе риск невозвратности кредитов, расходы на их выдачу, обслуживание и т.п., а потому ошибочно полагать, что размер ставки по кредитам равен доходу банка от пользования неосновательно сбереженным имуществом за соответствующий период».
67Обзор точек зрения по проблеме навязанного обогащения, высказанных в отечественной литературе, представил В.С. Гербутов (см.: Гербутов В.С. Навязанное обогащение. К учению об обогащении по российскому праву. С. 131–135).
142

Свободная трибуна
признание английским правом возражения об утрате обогащения, П. Бёркс апеллировал к логике концепции субъективного обесценивания как к наиболее убедительному аргументу68. Мысль ученого сводилась к следующему: если ответчик использует полученные деньги для того, чтобы приобрести блага, от приобретения которых он бы в противном случае (т.е. если бы обогащение не было получено) отказался, то обязательство совершить реституцию в пользу истца фактически вынуждает ответчика оплатить блага, в которых он не заинтересован. Свой тезис автор иллюстрирует примером с улучшениями автомобиля: «Если вы по ошибке перекрасили мой автомобиль и провели регулировку, улучшившую его эксплуатационные характеристики, я почти наверняка не буду обязан оплатить стоимость вашей работы, даже если рыночная цена моего автомобиля возросла. В свою защиту я могу сказать, что никогда не просил и не желал выполнения работы, которую вы проделали... Однако теперь представим себе, что я заказал покраску и настройку автомобиля только потому, что полагался на принадлежность мне крупной денежной суммы, которую вы в настоящее время пытаетесь от меня истребовать. Если эти деньги склонили меня к получению блага, от которого бы я в противном случае отказался, то возврат денежной суммы был бы равнозначен принуждению к оплате работ, в которых отсутствует заинтересованность»69. В итоге П. Бёркс пришел к выводу, что система, допускающая возможность субъективного обесценивания в случае прямого получения благ, была бы непоследовательна, если бы не давала возражение об утрате обогащения в описанной ситуации.
Верно и обратное заключение: правопорядок, дозволяющий возражение об утрате обогащения в случае субъективного обесценивания, не может игнорировать факт отсутствия воли лица и в случае прямого получения благ. Так, если покупателю был поставлен более дорогой материал, чем заказанный им, и покупатель, находясь в неведении, использовал его, то он может противопоставить возражение об утрате обогащения требованию об уплате дополнительной стоимости, превышающей цену договора70. Неужели если бы на месте продавца оказался подрядчик, выполнявший работы своим иждивением из более дорогого материала, чем тот, что предусмотрен договором подряда, решение должно было бы быть иным? В связи с этим любопытно, что в английском праве концепция субъективного обесценивания послужила одним из аргументов в пользу рецепции возражения об утрате обогащения, тогда как в немецком возражение стало отправной точкой многих исследований по проблеме навязанного обогащения71.
68Субъективное обесценивание (subjective devaluation) — одна из концепций, разработанных английской доктриной в целях защиты получателя блага от навязанного обогащения. О применении этой концепции в английском праве см. обзорную статью Д.А. Соболева (см.: Соболев Д.А. Субъективная оценка как возражение против кондикционного требования // Актуальные проблемы гражданского права / под ред. О.Ю. Шилохвоста. Вып. 12. М., 2008. С. 258–285). На англ. яз. см., напр.: Virgo G. The Principles of the Law of Restitution. P. 62–90; Burrows A. The Law of Restitution. London, 2002. P. 18–25.
69Birks P. An Introduction to the Law of Restitution. Oxford, 1989. P. 413. В развитие этого тезиса см. также: Nolan R. Op. cit. P. 139 .; Burrows A. The Law of Restitution. P. 521.
70См.: Каммерер Э., фон. Указ. соч. С. 279.
71О попытках немецкой доктрины решить проблему навязанного обогащения с опорой на § 818 (III) ГГУ см.: Гербутов В.С. Навязанное обогащение. К учению об обогащении по российскому праву. С. 143 и след. Не будет лишним отметить, что с позиций совокупно-имущественного подхода само противопоставление навязанного обогащения и утраты обогащения теряет смысл — эти явления становятся однопорядковыми.
143

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Нетрудно заметить, что во всех приведенных примерах с экономической точки зрения картина выглядит одинаково: возложение кондикционной обязанности при одновременном игнорировании предпочтений добросовестного неосновательно обогатившегося лица становится препятствием на пути наиболее оптимального расходования его денежных средств при том уровне дохода, которым это лицо фактически располагает. В результате удовлетворение требований истца не приводит к восстановлению положения, в котором находился бы ответчик, если бы факт обогащения не имел места. В отличие от ситуаций, которые были охарактеризованы нами как экономия расходов, здесь перед правом стоит задача определить, на какую из сторон обязательства лягут неблагоприятные последствия, т.е. распределить потери72.
Дело осложняется тем, что иногда благо может удовлетворять потребности обогатившегося лица не только прямо, т.е. путем использования блага по назначению, но и косвенно — посредством обмена на другое благо, способное служить удовлетворению потребностей, которые такое лицо, оптимизируя свои ограниченные ресурсы, оценивает как более важные. С данным обстоятельством следует считаться при распределении потерь, а следовательно, при решении вопроса о доступности возражения. Так, например, когда выяснится, что обогащение должно быть возвращено, приобретенная ответчиком на сумму ошибочного платежа73 вещь или произведенное улучшение могут утратить для него свою ценность в качестве предметов потребления. Однако как приобретенную вещь, так и вещь, подвергшуюся улучшению, можно продать или передать в возмездное пользование, а вырученные деньги направить на приобретение благ, в которых ответчик с учетом размера своего реального дохода действительно заинтересован74. Осуществление описанного сценария позволяет возвратить обогащение полностью или частично, одновременно восстановив положение, в котором находился бы ответчик, не будь оно получено. Но определиться с тем, когда именно ответчику надлежит реализовать объективную ценность обогащения, непросто. Необходимо принять во внимание интересы обеих сторон, что требует поиска компромиссных решений и, как следствие, тонкой настройки возражения.
Наименьшие затруднения возникают там, где ответчик преобразует обогащение в денежную форму или можно с достоверностью установить, что в его планы входит такое преобразование. Например, добросовестный ответчик тратит платеж не-
72По этой причине мы можем лишь отчасти согласиться с Д.А. Соболевым, который пишет, что «возврат или компенсация объективной стоимости [неосновательно полученного] имущества, как правило, не затрагивает свободу экономического выбора ответчика, но в случае выполнения работ (в результате которых не создается новая вещь, а происходит неотделимое улучшение имущества ответчика) или оказания услуг (которые не имеют материального результата) ситуация меняется на противоположную» (Соболев Д.А. Указ. соч. С. 260). Свобода экономического выбора может быть равным образом затронута
вобоих противопоставленных случаях. Утверждение автора следует признать верным, только если абстрагироваться от последующего поведения ответчика в расчете на полученное обогащение.
73Для примера взят классический случай неосновательного обогащения — платеж недолжного. Разумеется, совсем не обязательно, чтобы ответчик тратил именно те купюры, которые получил от истца.
74Такая альтернатива по понятным причинам отсутствует, если приобретенная вещь потреблена (имеется
ввиду такое потребление, в результате которого не создается новая вещь и не происходит улучшения имущества ответчика) или сумма ошибочного платежа вылилась в пользование ответчиком вещью или услугой (при условии, что такое пользование не привело к увеличению стоимости его имущества).
144

Свободная трибуна
должного на приобретение оборотных товаров; на реконструкцию здания с намерением продать или сдать здание в аренду по более высокой цене. В этих случаях действия по извлечению денежного дохода осуществляются без какого-либо принуждения, так что свобода ответчика по распоряжению собственным имуществом (его автономия воли) не затрагивается.
Когда же реализация обогащения не входит в индивидуальные планы ответчика, требуется установить, при каких условиях ему необходимо эти планы изменить. Поскольку мы видим в возражении механизм распределения имущественных потерь, необходимо признать правоту А. Барроуза, по мнению которого положение кондикционного должника, стремящегося обосновать возражение об утрате обогащения, аналогично положению лица, доказывающего размер компенсаторных убытков. В этом контексте обязанность принять меры по уменьшению таких убытков (to mitigate) исключает для кондикционного должника возможность отрицать выгоду, которая с учетом разумных соображений должна быть реализована75.
Ситуация, в которой платеж недолжного склонил ответчика приобрести ликвидный актив, как правило, не вызывает вопросов — актив следует реализовать. В самом простом примере добросовестное лицо тратит полученное обогащение в размере 20 000 фунтов на покупку автомобиля стоимостью 15 000 фунтов, который в отсутствие обогащения приобретать не намеревалось. Присуждение к возврату суммы, равной стоимости автомобиля при его перепродаже за вычетом расходов по реализации, приведет к частичной компенсации истца при одновременном восстановлении status quo ante ответчика76.
Теоретически разрешить этот казус можно иначе — предоставив добросовестному ответчику право вместо полученных неосновательно денег выдать истцу приобретенный субститут (автомобиль). Поскольку стоимость субститута может превышать неосновательно полученную сумму (так будет, если предположить, что ответчику удалось совершить выгодную покупку), он может предпочесть возвратить деньги, сохранив за собой извлеченную в результате приобретения субститута прибыль (так называемый commodum ex negotiatione). Эту прибыль, на наш взгляд, было бы справедливо оставить добросовестному ответчику. Поэтому в рамках данной модели ему следовало бы предоставить право заменить предмет исполнения, т.е. выбрать тот вариант, который он считает для себя наиболее предпочтительным.
Значительно сложнее случай, где платеж подвигнул ответчика произвести неотделимые улучшения принадлежащей ему вещи. В такой ситуации требуется учесть весь спектр обстоятельств, предложенных в рамках доктрины навязанного обогащения. Возражение об утрате обогащения можно допустить, только тогда, когда, принимая во внимание эти обстоятельства, ответчику не следует менять свои пла-
75См.: Burrows A. The Law of Restitution. P. 521. Подобная параллель проводилась и в немецкой цивилистике (см.: Гербутов В.С. Навязанное обогащение. К учению об обогащении по российскому праву. С. 148). О доктрине mitigation см.: Байбак В.В. Уменьшение убытков при нарушении договора (mitigation) // Вестник ВАС РФ. 2012. № 7. С. 65 и след.
76Ср. с иллюстрацией лорда Темплмана (см.: Lipkin Gorman (a firm) v. Karpnale Ltd [1991] 2 AC 548 HL, 560). Продав автомобиль, который в сложившейся ситуации утратил потребительскую ценность для ответчика, последний получит возможность выйти из затруднительного положения, распорядившись вырученными от продажи деньгами согласно своим первоначальным планам.
145

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
ны в отношении подвергшейся улучшению вещи. Например, не следует продавать улучшенный автомобиль вследствие отсутствия или незначительности увеличения его рыночной стоимости, невозможности с минимальными издержками осуществить замену автомобиля на такой же, но без улучшений, нарушения аффекционных интересов ответчика (автомобиль представляет для него значительную нематериальную ценность) и др.77
Возвращаясь к иллюстрации П. Бёркса, нельзя не отметить, что наряду со сходством в тождестве экономического результата между приведенными ученым примерами существует важное различие. Оно состоит в том, как в каждом из них этот результат возникает. В первом примере благо оказывается навязано ответчику, поскольку работы по улучшению автомобиля выполняются помимо его воли. Во втором — ответчик хотя и выражает свою волю на приобретение блага (заказывает работы по улучшению), но она оказывается порочна, поскольку формируется неправильно под воздействием вызванного платежом недолжного ошибочного представления ответчика о реальном уровне своего благосостояния78. Нарушение свободы экономического выбора приводит к ухудшению положения ответчика, с которым гражданское право не может не считаться. В этом нас убеждает доктрина навязанного обогащения. Поэтому во втором примере под вопрос могла бы быть поставлена лишь допустимость защиты доверия ответчика к бесповоротности состоявшегося обогащения.
Должно ли право защищать доверие лица, которое, получив платеж недолжного, приобретает благо, от приобретения которого в отсутствие обогащения отказалось бы? В своих рассуждениях мы исходили из того, что принципиальных препятствий для такой защиты нет. Действительно, если должник может воспользоваться возражением там, где, полагаясь на обогащение, утратил принадлежащее ему благо без какого-либо эквивалента (например, получив в качестве неосновательного обогащения новый автомобиль, принял решение утилизировать старый), то нет никаких причин отказывать ему в такой возможности и в обсуждаемом примере (когда полученное обогащение побудило ответчика произвести улучшения автомобиля, которые он в отсутствие факта обогащения производить бы не стал). Свобода экономического выбора одинаково затрагивается как в первом (утрата без эквивалента), так и во втором (субъективное обесценивание) случае.
Впрочем, вопрос о защите доверия может быть поставлен шире — применительно ко всем ситуациям, в которых обогащение ответчика негативным образом сказалось на палитре распределения принадлежащих ему ресурсов (возвращаясь к вы-
77Применительно к проблеме навязанного обогащения со ссылкой на представителей немецкой доктрины см.: Гербутов В.С. Навязанное обогащение. К учению об обогащении по российскому праву. С. 148–150. В английской доктрине вариант с реализацией ожидаемо дискутируется в связи с категорией неоспоримой выгоды (элемент доктрины субъективного обесценивания), см.: Nolan R. Op. cit. P. 141–143. Вариант с реализацией ценности путем сдачи вещи в аренду требует отдельного рассмотрения.
78В отличие от первой ситуации решение, как это случается всегда, когда в орбиту юридического исследования вовлекаются вопросы волеобразования, сопряжено со значительными трудностями и опасностями. Защищая интересы ответчика, мы не должны позволять ему перекладывать на плечи истца последствия собственного экономического выбора, если получение обогащения на этот выбор никак не повлияло.
146

Свободная трибуна
шеприведенным примерам — как к случаю утраты без эквивалента, так и к случаю субъективного обесценивания). Должен ли ответчик в принципе освобождаться от несения имущественных потерь, возникших в результате его собственного волевого поведения? На наш взгляд, совершенно очевидно, что в допустимости защиты доверия ответчика как таковой нет ничего необычного. Этот феномен хорошо знаком гражданскому праву и выходит далеко за рамки тех сюжетов, которые разбираются в настоящей работе. Достаточно вспомнить, что контрагент заблуждавшегося лица вправе требовать возмещения собственных имущественных потерь, вызванных тем, что он полагался на действительность договора или на переговоры (так называемый негативный договорный интерес). Например, в ожидании исполнения договора покупатель арендовал склад. В отсутствие договора пользование складом утрачивает для покупателя какую-либо ценность. В этой ситуации неблагоприятные последствия ложатся на ту сторону, которая со ссылкой на свою ошибку стремится аннулировать юридический status quo, явившийся результатом ее волеизъявления79. Требуется лишь установить, при каких условиях подобная защита может оказаться доступна кондикционному должнику.
Если право, преодолевая трудности, готово искать компромисс между интересами истца и ответчика в ситуациях, подобных тем, что описаны выше, то предлагаемые доктриной навязанного обогащения решения могут быть с успехом позаимствованы для целей исследуемого возражения80.
1.2. Причинная связь и вопрос о пределах возражения
Итак, для целей возражения принимаются во внимание изменения в совокупном имуществе ответчика, произошедшие в связи с фактом неосновательного получения благ, в результате которых выдача полученных благ или их стоимости не восстанавливает положение, в котором находился бы ответчик, если бы эти блага не были получены. Раздел 1.1 был посвящен описанию самих изменений (утрате обогащения)81. Теперь настало время уделить немного внимания причинно-след- ственной связи между этими изменениями и фактом неосновательного получения благ. Какая роль должна отводиться этому условию при определении границ исследуемого возражения?
В статье, посвященной проблеме причинно-следственной связи в деликтном праве, американский профессор Р. Райт82 приходит к выводу о необходимости четко
79См. сн. 140 и соответствующий текст.
80Так, думается, что перечисленные В.С. Гербутовым факторы, которые, по мнению ученого, должны быть приняты во внимание при решении проблемы навязанного обогащения (см.: Гербутов В.С. Навязанное обогащение. К учению об обогащении по российскому праву. С. 152), должны играть роль при решении вопроса о доступности исследуемого возражения.
81Напомним, что перечень случаев утраты обогащения был дан в п. 1.1.1 настоящей статьи, дальнейшее развитие сюжет получил в п. 1.1.3. Механизм влияния утраты на кондикционное обязательство в зависимости от догматической конструкции возражения рассмотрен в п. 1.1.2.
82См.: Wright R. Causation in Tort Law // California Law Review. Vol. 73. Iss. 6. 1985. P. 1735–1828.
147

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
отграничивать установление собственно причинно-следственной связи — объективную (фактическую) каузацию — от выявления предопределенных целями правовой политики условий, которые совместно с причинно-следственной связью дают ответ на ключевой вопрос деликтного права: возникло ли обязательство возместить внедоговорный вред? Это наблюдение представляется важным для целей настоящего исследования. Установление причинной связи в строгом смысле фактической каузации между фактом получения благ и изменениями в совокупном имуществе ответчика является необходимым, но отнюдь не достаточным для решения вопроса о доступности возражения. Не будет ошибкой, если мы скажем, что причинная связь очерчивает лишь потенциально возможные, внешние пределы нашего возражения. Этим ее роль ограничивается.
С учетом вышесказанного обратимся к проводимому в литературе различию между узкой и широкой версией возражения об утрате обогащения83. Согласно узкому подходу для целей возражения учитывается только такая утрата, которая вызвана поведением неосновательно обогатившегося лица в расчете на полученное обогащение. В соответствии с широким подходом такое ограничение отсутствует: требуется, чтобы факт обогащения выступал необходимым условием утраты, однако не имеет значения, полагался ли должник на этот факт84.
Самый очевидный случай, в котором проявляется практическое различие между двумя подходами, — это утрата предмета обогащения, когда она не вызвана до-
83О широкой и узкой версиях возражения см.: Burrows A. The Law of Restitution. P. 512–517.
84Узкий подход сближает возражение об утрате обогащения с конструкцией эстоппеля из заверений (estoppel by representation), неотъемлемым элементом которой является detrimental reliance. Эстоппель предполагает, что ответчик действует (или бездействует), полагаясь (in reliance) на заверение (representation) истца; ответчику был бы причинен ущерб (detriment), если бы истцу было позволено отказаться от своих заверений. При этом заверение истца может быть как выраженным, так и в некоторых случаях предполагаемым (например, в ситуации, когда на истце лежит обязанность проявить осторожность или когда истец, будучи осведомленным об ошибке ответчика, должен был поставить его об этом в известность). В то же время согласно традиционным воззрениям простой платеж, взятый сам по себе, не является заверением о том, что он получен основательно и может быть удержан ответчиком (подробнее см.: Bant E. The Change of Position Defence. Oxford, 2009. P. 25–64).
Первоначально сторонник узкой версии возражения П. Бёркс в одной из своих ранних работ охарактеризовал возражение как эстоппель без заверения: «…estoppel with the requirement of a representation struck out» (Birks P. An Introduction to the Law of Restitution. P. 410). Однако впоследствии ученый скорректировал свою точку зрения в пользу широкого подхода: «…в противном случае [если бы возражение было недоступно] всякое обогащение было бы сопряжено со страхом. Всем нам пришлось бы принимать меры предосторожности, путем страхования или иным способом, чтобы обезопасить себя от двойных убытков: вследствие кражи и последующей реституции» (Idem. Change of Position and Surviving Enrichment. P. 50– 51). По мнению П. Бёркса, возражение призвано защитить интерес добросовестного ответчика в стабильности приобретений (security of receipts). Насколько мы можем судить, этот интерес понимается ученым широко. Интерес состоит в обеспечении ответчику свободы распоряжения собственным имуществом, что предполагает освобождение его от необходимости резервировать средства на случай неожиданного предъявления иска о возврате неосновательного обогащения (Idem. Unjust Enrichment. P. 209). Другими словами, добросовестный ответчик может свободно оперировать своими ресурсами, не считаясь с возможностью предъявления кондикционных исков. Отметим, что при ином решении свобода ответчика не просто ограничивается — она приносится в жертву интересам кондикционного кредитора, невольным страховщиком которого становится должник. Принимая во внимание строгий характер реституционной ответственности, интерес ответчика в стабильности приобретений получает приоритет перед интересом истца, направленным на возврат обогащения. Отсюда доступность возражения при одинаково безупречном поведении обеих сторон. Впрочем, защиту стабильности приобретений не следует абсолютизировать. Как будет продемонстрировано далее, применение возражения ставится правом в известные рамки.
148

Свободная трибуна
верием кондикционного должника к факту состоявшегося обогащения. Иллюстрацией широкого подхода могут служить случаи хищения предмета неосновательного обогащения85, его случайной гибели, а также приводимый В. Вильбургом пример, где истец позволяет своим овцам смешаться со стадом ответчика, который впоследствии продает стадо по цене, не учитывающей количество животных в нем. Эти и подобные случаи охватываются широкой версией возражения (обогащение не было бы утрачено, если бы факт получения благ не имел места), но не охватываются узкой, поскольку факты утраты неосновательно полученного не связаны с поведением лица в расчете на полученное обогащение. В качестве иллюстрации узкого подхода можно использовать классический казус, в котором ошибочный платеж, произведенный третьим лицом, будучи принят неосновательно обогатившимся лицом за погашение долга, повлек пропуск им срока исковой давности, а также подробно разобранный нами пример П. Бёркса, где ответчик, полагаясь на полученное обогащение, произвел неотделимые улучшения принадлежащего ему автомобиля, или упомянутый ранее хрестоматийный пример с пожертвованием.
По существу, в основе как узкой, так и широкой версии возражения лежит идея фактической каузации. Установление причинной связи между фактом получения благ и изменениями в совокупном имуществе предполагает сопоставление имущественного положения ответчика после получения благ с гипотетической проекцией его первоначального положения в будущее, исходя из предположения об отсутствии этого факта (but for test)86. Если изменения в имущественной сфере ответчика имели бы место в отсутствие обогащения, то причинной связи между этими изменениями и получением обогащения нет. Объективно причинной связью охватываются как утрата самого предмета обогащения, будь то полученные вещи, включая деньги, или имущественные права, безотносительно тому, что явилось причиной такой утраты, так и иные случаи, в том числе те, где утрата связана с доверием должника к факту обогащения. Однако в рамках узкого подхода юридически релевантной объявляется только такая связь, которая включает поведение ответчика в расчете на полученное обогащение. Таким образом, выбор между широкой и узкой версией возражения лежит в плоскости правовой политики. С одной стороны, проводя обозначенную выше аналогию с эстоппелем, в возражении можно видеть механизм защиты доверия кондикционного должника к факту состоявшегося обогащения, его бесповоротности, и, соответственно, относить на истца только те потери, которые возникли в результате поведения ответчика, вызванного таким доверием. С другой стороны, вслед за П. Бёрксом можно, а с учетом приведенных выше аргументов и нужно отказаться от этого ограничения. Но будет ли это означать, что возражение доступно всегда, если налицо причинная связь и субъективные основания возражения, рассмотренные в разделе 1.2 настоящей статьи?
85Так, А. Барроуз приводит гротескный пример с гражданином, который получил ошибочный платеж (предположим, что, доверившись клерку, он не пересчитал купюры) и был тотчас же ограблен по выходу из банка. Смоделируем менее курьезную ситуацию. Предположим, ответчик получил ошибочный платеж на счет, открытый им в банке. Прежде чем он узнал об этом и смог принять меры по устранению ошибки, банк прекратил платежи и был признан банкротом.
86При наличии нескольких причин (например, в случае, когда каждый из платежей, полученных ответчиком от разных лиц, оказался бы сам по себе достаточен для того, чтобы вызвать утрату обогащения), может быть использован NESS-тест (о нем см.: Wright R. Op. cit. P. 1791; Байбак В.В. Причинная связь как условие договорной ответственности: сравнительно-правовой очерк // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6. С. 4–21).
149

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
На этот вопрос следует ответить отрицательно. Даже самое беглое ознакомление с исследуемыми правопорядками выявляет множество примеров дифференцированного регулирования, когда механизм возражения об утрате обогащения демонстрирует известную гибкость.
Причинно-следственная связь есть, но отсутствует интерес в стабильности приобретений
Замечательной иллюстрацией служит дело Haugesund Kommune v. Depfa ACS Bank, рассмотренное Апелляционным судом Англии и Уэльса87. Заключенный между банком Depfa ACS Bank и норвежским муниципалитетом Haugesund Kommune договор был квалифицирован как заем и признан недействительным вследствие отсутствия у заемщика-муниципалитета правосубъектности, необходимой для его заключения. Полученные по договору денежные средства были неудачно инвестированы, в связи с чем перед Апелляционным судом встал вопрос, вправе ли заемщик ссылаться на утрату обогащения. Если бы спорные суммы не были получены, они не были бы инвестированы, однако суд пришел к правильному выводу: муниципалитет, неудачно инвестировавший полученную по недействительному договору займа денежную сумму, не вправе ссылаться на изменение своего положения, поскольку, заключая договор, он знал о том, что эта сумма как полученная взаймы подлежит возврату. Аналогичным образом вопрос о доступности возражения применительно к данной категории споров разрешается и в немецком праве88.
Несомненно, если бы в описанном случае полученная денежная сумма была утрачена не из-за неудачных инвестиций, а по независящим от кондикционного должника обстоятельствам (в результате хищения, банкротства банка заемщика или иных причин подобного свойства), решение было бы тем же. Взяв некоторую сумму взаймы, заемщик понимает, что ему придется ее вернуть, и несет любые риски, связанные с ее утратой. Недействительность займа по общему правилу не привносит в эту модель распределения рисков каких-либо изменений. Раз ответчик понимает, что сумма займа подлежит возврату, то не может идти речи о нарушении его интереса в стабильности приобретений. Возражение недоступно.
Отсутствует этот интерес и при недействительности синаллагматического договора. По этой причине наука и практика Германии стремятся ограничить применение возражения к требованиям о реституции исполненного по нему. Добросовестная сторона синаллагматического договора несет риск утраты полученного и отвечает за последствия собственного экономического выбора в пределах совершенного в адрес контрагента встречного предоставления89. Тем самым по общему правилу исключается несправедливая ситуация, когда сторона могла бы потребо-
87См.: Haugesund Kommune v. Depfa ACS Bank [2010] EWCA Civ. 579. Подробнее об этом деле см.: Virgo G. Restitution for void loans // The Cambridge Law Journal. 2010. Vol. 69. Iss. 3. P. 448–449. См. также: Goss v. Chilcott [1996] AC 788.
88См.: Jewell M. The Boundaries of Change of Position — A Comparative Study // Restitution Law Review. 2000. Vol. 8. Part 1. P. 46; Schermaier M. «Performance-Based» and «Non-Performance Based» Enrichment Claims: The German Pattern // European Review of Private Law. 2006. № 3. P. 382.
89Подробнее об этом см.: Салмин Д.Н. Указ. соч. С. 47 и след.
150

Свободная трибуна
вать возврата того, что было исполнено по недействительному договору в адрес контрагента, и одновременно отказаться возвращать полученное от него, защищаясь возражением об утрате обогащения.
Еще один интересный пример дает немецкая доктрина. Доступно ли возражение, если составляющая неосновательное обогащение вещь причиняет вред имуществу кондикционного должника? Так, в хрестоматийной иллюстрации, использованной В. Флуме, неосновательным обогащением явилась собака, испортившая принадлежащий ответчику дорогой ковер90. Если бы собака не была приобретена, вред не был бы причинен, однако, по мнению ученого, в этой ситуации не следует предоставлять ответчику возможность ссылаться на утрату обогащения, выдвигая требование о компенсации стоимости утраченного ковра против кондикционного иска о выдаче собаки. Согласно распространенной в немецкой литературе точке зрения, причинение вреда имуществу ответчика полученным благом не образует утраты обогащения и не охватывается действием возражения91. Поскольку потери ответчика не вызваны самой по себе необходимостью возвратить полученное благо (собаку), не зависят от этого факта, то интерес ответчика в стабильности приобретений не затрагивается.
В пользу вывода о недоступности возражения мог бы быть выдвинут также аргумент, что, приняв решение завести собаку, ответчик тем самым принял на себя и все риски, связанные с ее содержанием. Однако такое обоснование едва ли применимо к ситуации, когда вред имуществу ответчика причиняется скрытым недостатком неосновательно полученной вещи, когда говорить об осознанном принятии рисков не приходится. Так, предположим, что истец (фирма 1) по ошибке поставляет ответчику материалы со скрытым недостатком. Ответчик добросовестно полагает, что эти материалы поставлены его договорным контрагентом (фирмой 2). Часть поставленного материала пускается в производство изделий. В результате образуется брак готовой продукции и ответчик несет убытки. Фирма 1 предъявляет кондикционный иск об истребовании той части поставленных материалов, которая не была использована. Вправе ли ответчик возражать против иска со ссылкой на утрату обогащения в такой ситуации? На наш взгляд, так же как и в предыдущем примере с собакой, — нет. Если исходить из того, что целью возражения является защита интереса ответчика в стабильности приобретений, ответ на поставленный вопрос должен быть отрицательным. Ведь потери ответчика не связаны с необходимостью возвратить полученное благо или возместить его стоимость. По всей видимости, решение последнего казуса должно лежать в плоскости возмещения убытков.
Причинно-следственная связь и интерес в стабильности приобретений есть, но последний отступает на второй план
Во всех описанных выше примерах потери ответчика находились в причинноследственной связи с фактом получения благ, но говорить о том, что удовлетворе-
90См.: Dörner H. «Change of Position» and «Wegfall der Bereicherung» // The Limits of Restitutionary Claims: A Comparative Analysis / еd. by W. Swadling. London, 1997. P. 73.
91Ibid. P. 73. Впрочем, по данному вопросу в немецкой доктрине представлено и противоположное мнение (см.: Krebs T. Restitution at the crossroads: a comparative study. P. 283 со ссылкой на Das Bürgerliche Gesetzbuch mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes — Kommentar herausgegeben von Mitgliedern des Bundesgerichtshofes. 13th ed, Berlin, 1989. § 818. № 26).
151

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
ние кондикционного иска нарушает интерес ответчика в стабильности приобретений, не приходилось. Однако мыслимы ситуации, когда и причинно-следственная связь, и интерес добросовестного ответчика в стабильности приобретений налицо, но возражение оказывается недоступно. Тогда ответчик рассматривается законодателем или судами как наиболее подходящая кандидатура для несения потерь исходя из представлений о наиболее эффективной и справедливой модели распределения рисков.
Один пример из немецкой практики можно отнести к числу хрестоматийных. Ответчик покупает и впоследствии продает вещь, не будучи осведомленным о том, что она похищена у собственника. Собственник предъявляет иск о выдаче того, что выручено ответчиком от такой продажи (§ 816 I ГГУ). По мнению немецких судов, ответчик не вправе требовать уменьшения размера присуждения на сумму, уплаченную в качестве покупной цены лицу, от которого эта вещь была приобретена.
Часто это правило объясняют тем, что само по себе наличие у ответчика права требовать возмещения от продавца не позволяет вести речь об утрате обогащения92. Такое объяснение, данное с позиций совокупно-имущественного подхода, нельзя признать удовлетворительным. Во-первых, едва ли оно в полной мере укладывается в сам этот подход: мы уже имели возможность отметить, что право требовать выплаты сумм, обращенное к несостоятельному должнику, не может рассматриваться в качестве эквивалента утраченного93, однако, как представляется, на эту ситуацию обсуждаемое исключение в первую очередь и рассчитано, поскольку возлагает риск несостоятельности продавца на вступившего с ним в договорные отношения кондикционного должника. Во-вторых, оно скрывает подлинный по- литико-правовой мотив, лежащий в основе обсуждаемого исключения. Этот мотив связан с решением двух взаимосвязанных проблем.
Первую можно назвать проблемой конвергенции (сближения) правовых режимов кондикции и виндикации. Ее актуальность обусловлена известной функциональной близостью кондикции из вмешательства (Eingriffskondiktion) и виндикации. С этой точки зрения исключение можно объяснить необходимостью предупредить возникновение ситуации, в которой ответчик по иску из неосновательного обогащения мог бы ограничить свое обязательство (§ 818 III ГГУ), ссылаясь на платеж, произведенный продавцу: очевидно, что такой возможности он был бы лишен, если бы, сохранив владение вещью, ему пришлось отвечать по иску о виндикации (§ 935, 985 ГГУ)94. Отметим, что разбираемый казус представляет собой лишь частный пример проблемы конвергенции, поскольку случаев, когда на смену виндикации приходит кондикция из вмешательства, великое множество.
Вторая проблема связана с поиском оптимального распределения рисков в треугольнике «виндицирующий собственник (кондикционный кредитор) — незаконный владелец (кондикционный должник) — третье лицо (неуправомоченный отчуждатель)». Политико-правовой анализ модели распределения рисков для кон-
92См. об этом: Krebs T. Restitution at the crossroads: a comparative study. P. 293–294.
93См. сн. 51 и соответствующий текст.
94См.: Zimmermann R., Plessis J., du. Op. cit. P. 40.
152

Свободная трибуна
дикции и виндикации следует искать в работах, посвященных эвикции и защите добросовестного приобретателя.
Отметим, что из отечественных исследователей комплексное исследование обеих обозначенных проблем проводил только Д.Д. Гримм. Интересно, что сам ученый видел решение задачи конвергенции режимов кондикции и виндикации в сближении последней с исками об обогащении95. По мнению Д.Д. Гримма, эта цель должна достигаться путем возложения на собственника обязанности возместить убытки покупателя, вызванные виндикацией, под угрозой отказа в иске (Lösungsrecht)96. Надо ли говорить, что при таком решении в рассматриваемом нами примере все потери легли бы не на кондикционного должника, а на кондикционного кредитора.
Возвращаясь к решению, принятому в немецком праве, весьма любопытен механизм защиты собственника, детально описанный в работе Р. Циммерманна и Ж. дю Плесси97. Дальнейшее изложение требует от нас изучить его более внимательно. Поскольку речь идет о вещи, которая была украдена, добросовестный приобретатель не становится собственником (§ 932 I, 935 I ГГУ). Собственником продолжает оставаться потерпевший, так что ему доступна виндикация. Однако, как отмечают авторы, далеко не всегда истребование вещи из чужого незаконного владения отвечает интересам собственника. С практической точки зрения это может оказаться трудновыполнимой задачей. Когда похищенная партия сорочек или мебельной фурнитуры в конце цепочки отчуждений рассеивается среди бесчисленного множества покупателей, легко понять стремление собственника искать по кондикции с одного из промежуточных продавцов. Неудивительно, что в описанной ситуации немецкий законодатель идет навстречу собственнику. Возможность предъявить кондикционный иск к любому участнику цепочки перепродаж следует из § 816 I ГГУ, согласно которому «если неправомочное лицо распорядилось предметом и это распоряжение имеет силу для правомочного лица, первое обязано возвратить правомочному лицу все полученное вследствие этого распоряжения». Налицо типичный пример кондикции из вмешательства98: распоряжение правом, совершенное неправомочным лицом, эффективное по отношению к обладателю этого права, приводит к обогащению первого за счет второго. Внимательный читатель заметит изъян: разве можно вести речь об обогащении за счет собственника, если, как было сказано, распоряжение краденым не имеет в отношении него никакой силы, так что он как был собственником, так и остается? Немецкая доктрина выходит из этого затруднения весьма элегантно. Согласно господствующей точке зрения, собственник может одобрить распоряжение неправомочного лица ex post facto (§ 185 II (1) ГГУ). В итоге собственнику принадлежит выбор из двух
95Напомним, что в традиционном понимании виндикация не является иском об обогащении, поскольку, как отмечалось выше, основывается на идее возврата того, что принадлежит собственнику, т.е. того, что получено ответчиком, но причитается истцу.
96См.: Гримм Д.Д. Указ. соч. Вып. 1. С. 87 и след. (особ. 102). По вопросу о выборе модели распределения рисков см.: Жужжалов М.Б. Природа ответственности за эвикцию // Вестник гражданского права. 2014. № 6. С. 118–139. О конструкции Lösungsrecht см.: Он же. Приветствуем Lösungsrecht в ГК // Закон. ру. 2015. 30 мая. URL: https://zakon.ru/blog/2015/5/30/privetstvuem_l%C3%B6sungsrecht_v_gk.
97См.: Zimmermann R., Plessis J., du. Op. cit. P. 27–28.
98Ibid. P. 27.
153
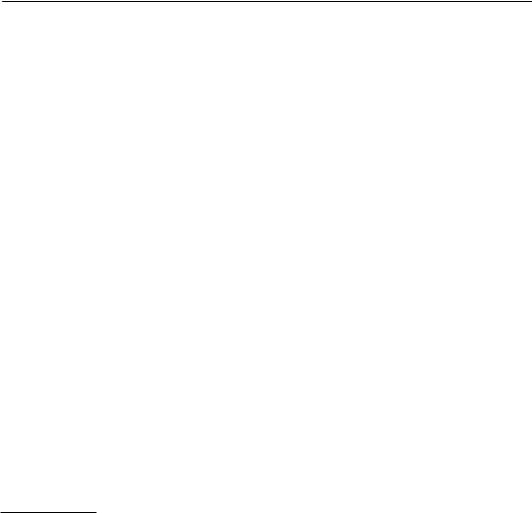
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
альтернатив: или виндицировать вещь от незаконного владельца, или добиваться присуждения по иску из неосновательного обогащения от любого из участников цепочки отчуждений, одобрив совершенное ответчиком распоряжение и исцелив тем самым все последующие99. При этом размер возмещения от добросовестного ответчика ограничен суммой вырученной от перепродажи вещи (§ 816 I ГГУ)100.
Далее, согласно распространенному мнению, возражение может оказаться недоступно, если его применение вступает в противоречие с целью законодательных установлений, влекущих отсутствие правового основания обогащения. Другими словами, необходимо выяснить, какие намерения имел законодатель, объявляя акт недействительным, а обогащение подлежащим возврату, и задаться вопросом, не отступает ли интерес ответчика в стабильности приобретений перед более значимыми целями правовой политики. В английской литературе в таком случае принято говорить о том, что возражение «перевешивается фактором неосновательного обогащения»101 или «подавляется интересами правопорядка (public policy)»102. Исключение можно проиллюстрировать двумя примерами.
Во-первых, возражение не может использоваться против недееспособного лица103. В противном случае это неизбежно приводило бы к результату, эквивалентному тому, который законодатель стремится устранить, объявляя ничтожной сделку, совершенную недееспособным. Традиционно считается, что интересы малолетних и недееспособных лиц нуждаются в особой защите со стороны государства.
Во-вторых, английская и немецкая практика не допускают выдвижение возражения против исков налогоплательщиков к казне о возврате налогов, уплаченных по ultra vires104 требованиям налоговых органов105. По мнению австралийского профессора Э.Д. Бэнт, правило, согласно которому указанные суммы подлежат возврату, отражает социально значимый интерес в запрете неправомерных требований со стороны публичной власти. Цель этого правила была бы проигнорирована, если бы органам власти позволялось блокировать иск о реституции с помощью
99См.: Zimmermann R., Plessis J., du. Op. cit. P. 28. Чтобы обезопасить собственника от перспективы одобрить распоряжение прежде, чем ему удастся добиться удовлетворения по кондикции, в доктрине предлагаются различные решения. Авторы упоминают о двух. Можно позволить истцу поставить одобрение распоряжения под условие получения платежа от ответчика либо одобрить распоряжение только в момент получения платежа (Genehmigung Zug um Zug).
100Спорным остается вопрос о том, подлежит ли выдаче выгода от продажи в части, превышающей рыночную стоимость проданной вещи (см.: Hacker B. Op. cit. P. 305–309).
101Burrows A. Restatement of the English Law of Unjust Enrichment. P. 117.
102Jones G. Some Thoughts on Change of Position // Mapping the Law: Essays in Memory of Peter Birks / A. Burrows, A. Rodger (eds). Oxford, 2006. P. 67. См. также: Birks P. Unjust Enrichment. P. 218. В немецкой доктрине идею подобного ограничения отстаивает А. Флешнер (см. об этом: Krebs T. Restitution at the crossroads: a comparative study. P. 290).
103См.: Krebs Т. Restitution at the crossroads: a comparative study. P. 290 (ссылаясь на А. Флешнера); Jones G. Op. cit. P. 67.
104С превышением полномочий (лат.).
105См.: Woolwich Equitable Building Society v. Inland Revenue Commissioners [1993] AC 70; Burrows A. Restatement of the English Law of Unjust Enrichment. P. 117, 122; BVerwG 27.12.1989, 2 B 84/89.
154

Свободная трибуна
возражения об изменении положения106. Похожее обоснование использует и Федеральный административный суд Германии, который исходит из того, что органы публичной власти связаны требованием законности. Интерес органов власти должен состоять в том, чтобы возвратить полученное без правового основания и тем самым восстановить законность. По этой причине полагаться на утрату обогащения они не могут107. Хотя способность публичного органа обосновать все элементы возражения сама по себе вызывает очень серьезные сомнения, аргументы, используемые для того, чтобы исключить такую возможность a priori, прекрасно иллюстрируют существо той разновидности исключений, о которой идет речь.
Как отмечалось ранее, ответ на вопрос, почему в конкретном случае правовое основание обогащения отсутствует, систематически оставляется за скобками одноименной главы ГГУ, будучи растворен во всем массиве гражданского законодательства108. В этих условиях, если признать необходимым обсуждаемый вид исключений, определение актуальных границ возражения ложится на плечи судов. Суды будут выявлять цели законодательных установлений, обусловливающих необходимость возврата обогащения, давать им оценку и разрешать возникающие коллизии с возражением.
Любопытно, что похожий тип ограничений применяется английским правом в отношении эстоппеля из заверений (estoppel by representation)109, что неудивительно, принимая во внимание отмеченную выше близость эстоппеля и возражения об утрате обогащения. По общему признанию, использование эстоппеля не должно выхолащивать закон, делать его бессмысленным, служить обходу законодательного запрета110. Данное ограничение доктрины эстоппеля заслуживает самого пристального внимания с учетом появления в российском праве близких с точки зрения выполняемых задач конструкций, в первую очередь п. 5 ст. 166 ГК.
Наконец, очерчивая пределы возражения, нельзя не коснуться вопроса о глубине исследования. Под утратой обогащения мы понимаем изменения в совокупном имуществе ответчика, произошедшие в связи с фактом получения благ. Раз так, необходимо определиться, насколько далеко такие изменения могут отстоять от факта получения благ, чтобы иметь значение для целей возражения с учетом того, что в период между возникновением неосновательного обогащения и получением сведений об этом имущество ответчика может претерпеть множество различных трансформаций. Закономерно данный вопрос встал уже перед Второй комиссией по подготовке ГГУ. Как пишет Д. Доусон, спор развернулся вокруг вопроса, следует ли ограничиться учетом утраты только первоначально полученных выгод. Голоса членов комиссии разделились, однако большинство высказалось против ограничений. В итоге комиссия пришла к выводу, что должны приниматься все усилия, чтобы выяснить размер сохранившегося в имуществе ответчика, пусть в видоизмененной
106См.: Bant E. Op. cit. P. 203.
107См.: BVerwG 27.12.1989, 2 B 84/89. Использованное немецким судом обоснование кажется даже более широким, ибо охватывает не только платежи по ultra vires требованиям, но и совершенные по ошибке.
108См.: сн. 35.
109См.: Bant E. Op. cit. P. 62.
110См.: Wilken S., Ghaly K. The Law of Waiver, Variation and Estoppel. Oxford, 2012.
155

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
форме, обогащения111. Анализ примеров, содержащихся в литературе, приводит нас к заключению, что такой подход к исследованию факта утраты обогащения в настоящее время разделяется как немецкой, так и английской доктриной.
Подведем краткий итог. Возражение доступно отнюдь не всегда, когда между неосновательным получением благ и утратой обогащения может быть установлена причинная связь в строгом смысле фактической каузации. Полагаем, релевантной причинно-следственной связью между получением благ и утратой обогащения должны охватываться две группы случаев:
1)утрата первоначально полученного блага (или субститута, в который трансформировалась его ценность), не связанная с поведением лица в расчете на полученное обогащение. Такая утрата может иметь место в результате действия сил природы, поведения третьих лиц или даже самого ответчика, когда он не осведомлен о факте состоявшегося обогащения. Условимся называть эту группу объективными случаями утраты обогащения;
2)все случаи утраты из перечня, данного в п. 1.1.1 настоящей статьи, вызванные поведением неосновательно обогатившегося лица в расчете на полученное обогащение. Далее будем именовать эту группу эстоппелеподобными случаями утраты обогащения.
Обе выделенные группы объединяет защита интереса ответчика в стабильности приобретений. Там, где этот интерес отсутствует или отступает на второй план, возражение должно быть недоступно.
Теперь настало время перейти к рассмотрению субъективных элементов возражения.
2. Субъективные элементы возражения
2.1. Добросовестность кондикционного должника как условие доступности возражения
По общему правилу возражение доступно только лицу, добросовестному на момент утраты обогащения. Действительно, если ответчик знал о неосновательности
111См.: Dawson J. Op. cit. P. 275. Важно отметить, что под сохранившимся обогащением понимаются изменения в совокупном имуществе ответчика как таковом. Это не тождественно тому, что в английском праве принято именовать traceable benefit, т.е. прослеживаемой через цепочку субститутов выгодой (см.: Birks P. Change of Position and Surviving Enrichment. P. 60: «Если я плачу Вам 1000 фунтов по ошибке и вы на эти деньги покупаете акции, а затем продаете акции и покупаете автомобиль, я могу проследить (to trace) преобразование полученной выгоды в размере 1000 фунтов через цепочку субститутов в автомобиль»). Наличие traceable benefit само по себе еще не свидетельствует о том, что обогащение сохранилось. Например, получив чек на 500 фунтов, добросовестный ответчик тратит на благотворительность эквивалентную сумму наличных из своего кармана, а затем использует чек для покупки картины. В описанной ситуации картина явилась бы traceable benefit от получения чека, однако поскольку получение чека подвигло ответчика потратиться на благотворительность, обогащение все же утрачено (см.: Hacker B. Op. cit. P. 33–34 (note 76); Goff R., Jones G. Op. cit. P. 833; Birks P. Change of Position and Surviving Enrichment. P. 58–63). Сказанное, впрочем, не отрицает необходимости проследить судьбу полученного обогащения через один или несколько субститутов при решении вопроса о доступности возражения (см.: Sagaert V. Op. cit. P. 179).
156

Свободная трибуна
обогащения, вести речь об обеспечении стабильности приобретений, как правило112, не приходится, так как этот интерес попросту отсутствует. Гораздо сложнее ответить на вопрос, можно ли вменить неосведомленному ответчику это знание и если да, то в каких пределах.
В немецком праве дискуссия о добросовестности ответчика разворачивается вокруг § 819 I ГГУ. Согласно буквальному прочтению содержащихся в нем правил, ответчик утрачивает возможность ссылаться на утрату обогащения при наличии осведомленности об отсутствии правового основания обогащения: «Если получатель в момент получения обогащения знает об отсутствии основания для приобретения или узнает об этом позднее…»
Современные немецкая доктрина и судебная практика выделяют два условия для дисквалификации ответчика. Первым условием выступает знание кондикционного должника о фактах, влекущих возникновение кондикционного обязательства. Второе касается осведомленности должника о существовании обязательства, что предполагает юридическую квалификацию известных ответчику фактов. В отношении второго условия существующие в доктрине точки зрения разнятся: от требования, чтобы ответчик знал о возникшем обязательстве, до утверждения, что для утраты возражения достаточно, чтобы ответчик не знал о нем вследствие простой неосторожности113.
Стремясь ужесточить чрезвычайно благосклонную к ответчику формулировку § 819 I ГГУ, судебная практика занимает промежуточную позицию, признавая недобросовестным ответчика, который, обладая знанием о фактах, «сознательно игнорировал» (bewusstes Sichverschließen) право114. Это означает, что даже от не сведущего в праве лица требуется проявить некоторый уровень осмотрительности в вопросе юридической квалификации. В делах о взыскании ошибочно выплаченных сумм заработной платы и пособий этот уровень минимален. В других спорах от ответчика требуется бóльшая осмотрительность, однако предъявляемые к нему требования, как правило, не выходят за рамки грубой неосторожности. Таким образом, согласно господствующей точке зрения, момент утраты добросовестности кондикционным должником в немецком праве приурочен к получению сведений о фактах и действительной (или в некоторых пределах предполагаемой) осведомленности о возникшем из этих фактов кондикционном обязательстве.
Интересно, что в проекте реформы положений ГГУ о неосновательном обогащении, подготовленном профессором Д. Кёнигом и воплотившем весь накопленный опыт применения и научного осмысления кондикционных обязательств в немецком праве, предлагалось вовсе отказаться от правила § 819 I ГГУ. По мнению автора проекта, ответчик должен быть лишен возражения в ситуации, когда он не знал об отсутствии основания обогащения вследствие грубой неосторож-
112О специальных правилах, относящихся к объективным случаям утраты обогащения, будет сказано ниже.
113См.: Jewell M. Op. cit. P. 24–25.
114См.: Machtel F. The Defence of «Change of Position» in English and German Law of Unjust Enrichment // German Law Journal. 2004. Vol. 5. № 1. P. 37.
157

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
ности115. Отказ от § 819 I ГГУ, с одной стороны, избавил бы суды от необходимости прибегать к толкованию contra legem и различным искусственным построениям116 в попытках приравнять к осведомленности грубую неосторожность, с другой — позволил бы применять одинаковые стандарты осмотрительности в вопросах права и факта, тем самым возложив ответственность в размере полученного обогащения как на тех кондикционных должников, которые, обладая знанием о фактах, предпочли не исследовать связанные с ними правовые последствия в том минимальном объеме, который от них требуется, так и на тех, кто предпочел не замечать сами эти факты.
Воззрения английской доктрины и практики на добросовестность как на условие доступности возражения за то сравнительно непродолжительное время, что оно существует в английском праве, эволюционировали в сторону снижения требований, предъявляемых к кондикционному должнику.
В своих ранних работах П. Бёркс придерживался мнения, что ответчик, чтобы воспользоваться возражением, должен предпринять разумные меры по исследованию основательности117 своего обогащения. Нет никаких сомнений в том, что возражение недоступно лицу, которое, зная о неосновательности обогащения, ухватилось за возможность использовать то, что должно было возвратить. Настоящая же проблема возникает в ситуации с получателем, который должен был знать о том, что обогащение подлежит возврату, но не стал проводить проверку, которую на его месте провело бы разумное лицо. Является ли он добросовестным? Очевидно, что ответ на этот вопрос зависит от того, какая степень осмотрительности согласуется с обеспечением стабильности приобретений. По мнению П. Бёркса, обсуждая положение ответчика, вполне уместно провести аналогию с добросовестным приобретателем118. В итоге ученый пришел к выводу, что нет весомых оснований защищать стабильность приобретений лиц, которые не предприняли разумных мер по исследованию основательности полученного обогащения. Впрочем, он тут же оговорился, что во многих случаях обсуждаемый стандарт осмотрительности не может быть слишком строгим119.
Лорд Гофф и проф. Г. Джоунс — авторы авторитетной работы The Law of Restitution — более лояльны по отношению к кондикционному должнику. По их мнению, является добросовестным ответчик, который был честен (honest), хотя и проявил неосторожность (negligence). Как отмечают исследователи, возражение надлежит
115См.: § 1.6 (1) проекта. Текст проекта на англ. яз. см.: Zimmermann R. Unjustified Enrichment: The Modern Civilian Approach // Oxford Journal of Legal Studies. 1995. Vol. 15. № 3. P. 425–429.
116См.: Jewell М. Op. cit. P. 43.
117Здесь и далее для простоты изложения мы позволили себе воспользоваться терминологией континентального права. Это не должно вводить в заблуждение внимательного читателя (см. сн. 35).
118К нему, по общему признанию, применим стандарт constructive notice. Понятие constructive notice (как и близкое ему понятие negligence) означает, что лицу с целью выявления фактов надлежит провести проверку, которую в конкретной ситуации можно ожидать от разумного участника гражданского оборота. Такая проверка гарантирует, что лицо, ее осуществившее, будет признано добросовестным.
119См.: Birks P. Overview: Tracing, Claiming and Defences // Laundering and Tracing / еd. by. P. Birks. Oxford, 1995. P. 324–325.
158

Свободная трибуна
толковать широко — так, чтобы защитой мог воспользоваться неосторожный получатель недолжного. Обосновывая этот вывод, они обращают внимание на расширение доступности некоторых исков о реституции: например, лицо вправе истребовать платеж недолжного, даже если платеж явился прямым следствием его некомпетентности120. Этот аргумент знаком нам по предшествующему изложению.
Здесь, вероятно, необходима небольшая ремарка по вопросу о соотношении понятий dishonesty (нечестное поведение) и negligence (неосторожное поведение). Было бы недопустимым упрощением отождествлять dishonesty со знанием ответчика о неосновательности полученного обогащения, а negligence — со всеми случаями, когда ответчик не знал, но должен был об этом знать. В соответствии с буквальным смыслом понятие dishonesty означает, что поведение ответчика оценивается сторонним разумным наблюдателем как бесчестное. Можно ожидать, что поведение ответчика получит такую оценку, в частности, если, распоряжаясь обогащением, он либо знал о необходимости вернуть обогащение, либо сознательно закрывал на это глаза, игнорируя очевидные факты, либо сомневался относительно необходимости его возвратить, либо знал (игнорировал) факты, которые побудили бы разумное лицо усомниться и провести проверку121. Однако не ведет себя бесчестно тот, кто не располагает информацией об этих фактах, даже если отсутствие сведений о них явилось следствием его неосторожности (negligence). Таким образом, если от лица требуется быть честным (honest), то к нему применим более мягкий стандарт осмотрительности по сравнению с тем, который требовался бы, если бы лицо должно было быть осторожным (negligent).
Несмотря на то, что первоначально практика восприняла точку зрения П. Бёркса122, сам ученый впоследствии пересмотрел свои взгляды, примкнув к мнению лорда Гоффа и Г. Джоунса. Со временем этот подход был взят на вооружение судами, которые пришли к выводу о том, что честный ответчик вправе ссылаться на утрату полученного обогащения, даже если неосведомленность об обязанности возвратить полученное явилась следствием его неосторожности123.
Хотя вопрос об объеме понятия «добросовестность», от решения которого напрямую зависит область применения возражения, является крайне дискуссионным, можно с уверенностью утверждать, что как немецкое, так и английское право относится к интересам кондикционного должника очень благосклонно. Хотя оба правопорядка в той или иной мере вменяют неосведомленному ответчику знание
120См.: Go R., Jones G. Op. cit. P. 833.
121«В случае если получатель платежа имеет основания полагать, что платеж был совершен по ошибке, но не обладает уверенностью в этом вопросе, добрая совесть может потребовать от должника, чтобы он проверил плательщика. Характер и пределы такой проверки, разумеется, зависят от конкретных обстоятельств дела, однако сомнительно, что будет признан добросовестным ответчик, который, имея серьезные основания полагать платеж совершенным по ошибке, распорядился обогащением, не обратившись предварительно к лицу, от которого был получен платеж» (Niru Battery Manufacturing, Co. v. Milestone Trading Ltd [2003] EWCA Civ. 1446, [2004] QB 985 [164]–[165]). Обратившись и получив заверение в безошибочности платежа, ответчик может полагаться на обогащение, даже если продолжает сомневаться (см.: Scottish Equitable Plc v. Derby [2001] EWCA Civ. 369 [2001] 3 All ER 818).
122См.: obiter dictum судьи Кларка в деле South Tyneside v. Svenska International [1995] 1 All. E.R. (545) 569.
123См.: Dextra Bank & Trust Co. Ltd v. Bank of Jamaica [2002] 1 All ER (Comm.) 193.
159

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
об отсутствии правового основания обогащения, к его поведению, как правило, не предъявляется высоких требований осмотрительности.
В пользу такого либерального по отношению к ответчику подхода часто выдвигается то соображение, что законодатель весьма снисходителен по отношению к истцу. Действительно, судьба иска об истребовании неосновательного обогащения не ставится в зависимость от дополнительных условий вроде извинительности ошибки. Выше мы обратили внимание на эту особенность, связав успех возражения в исследуемых правопорядках с расширением предметной области обязательств из неосновательного обогащения124. В связи с этим отмечается, что предъявлять повышенные требования к ответчику (настаивать, чтобы он проявлял осторожность), не предъявляя аналогичных требований к истцу, было бы несправедливо125.
Однако, по справедливому мнению некоторых исследователей, нет никакого противоречия в том, чтобы учитывать вину истца не на этапе выявления наличия или отсутствия оснований иска, а на стадии распределения возникших имущественных потерь, т.е. при решении вопроса о доступности возражения126. Вопреки распространенному мнению, это отнюдь не тождественно возврату к прежней практике ужесточения оснований реституции, так как в отсутствие утраты обогащения кондикционный иск подлежит удовлетворению вне зависимости от того, являлось ли поведение истца виновным. Вопрос о вине встает лишь в ситуации возникновения подлежащих распределению потерь. Отсюда идея сопоставлять степень упречности поведения как должника, так и кредитора при решении вопроса о доступности возражения (так называемый balancing test), т.е. учитывать вину сторон в возникновении факта неосновательного обогащения (как ситуации, повлекшей потери), о чем подробнее будет сказано ниже.
Если наряду с эстоппелеподобными случаями утраты обогащения возражением охватываются также случаи объективные, правопорядок нуждается в специальных правилах, возлагающих риск случайной утраты обогащения на первоначально добросовестного должника в период между получением им сведений о неосновательности своего обогащения и возвратом обогащения кредитору. Теряет ли кондикционный должник возможность ссылаться на утрату обогащения с момента получения сведений об отсутствии правового основания? Как отмечает Б. Хакер, положительный ответ на этот вопрос в лучшем случае страдает неточностью, в худшем — вводит читателя в заблуждение127. Автор пишет о двух случаях, в которых возражение оказывается доступно утратившему добросовестность должнику. Поскольку § 819 I и 287 ГГУ связывают возложение риска случайной утраты предмета обогащения на недобросовестного должника с его просрочкой, последний может освободиться от обязательств перед кредитором, если случайная гибель предмета
124См.: п. 1.1.1 настоящей статьи.
125См.: Jewell М. Op. cit. P. 42; Birks P. Unjust Enrichment. P. 214, 218–219; Dextra Bank & Trust Co. Ltd v. Bank of Jamaica.
126См.: Edelman J., Bant E. Unjust Enrichment. 2nd ed. Oxford, 2016; McCamus J.D. Rethinking Section 142 of the Restatement of Restitution: Fault, Bad Faith, and Change of Position // Washington & Lee Law Review. 2008. № 65. P. 912–913.
127См.: Hacker B. Op. cit. P. 70.
160

128
129
130
131
132
Свободная трибуна
обогащения имела место в период, когда должник не мог считаться просрочившим128, равно как и тогда, когда гибель или повреждение вещи имели бы место также при ее возврате кредитору. В основании последнего правила лежит представление о причинной связи: ответчику следует предоставить возможность ссылаться на утрату обогащения, если его продолжающееся владение вещью не послужило причиной ее утраты129. Эти правила применительно к римскому праву обсуждались выше130.
Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, сохраняется ли за добросовестным кондикционным должником возможность ссылаться на утрату обогащения в случае предъявления к нему иска о возврате неосновательного обогащения.
Обращаясь к ГГУ, мы обнаружим, что действие возражения в этом случае ограничивается случайной утратой составляющих неосновательное обогащение вещей. § 818 IV ГГУ говорит о том, что с момента начала рассмотрения в суде дела о неосновательном обогащении получатель несет ответственность на общих основаниях (§ 292 ГГУ). Согласно распространенному мнению, кондикционный иск в этом случае рассматривается, как если бы он был виндикационным, на основании § 985 ГГУ131. Соответственно, кондикционный должник может ссылаться на утрату обогащения, если составляющая неосновательное обогащение вещь ухудшилась, погибла или не может быть выдана по иной причине в отсутствие его вины (§ 989 ГГУ). Разумеется, сказанное справедливо при условии, что предъявление иска не сопровождалось утратой добросовестности ответчика (ответчик продолжает извинительно заблуждаться). Иначе вступают в действие правила о просрочке и ответственности за случай (§ 287 ГГУ), описанные выше.
Рассматривая правила ГГУ об ответственности добросовестного владельца вещи, ставшей предметом судебного спора, А. Ваке задается вопросом, что следует понимать под виной владельца и всегда ли пользование вещью, сопряженное с риском ее ухудшения или гибели, образует вину. Он отвергает взгляд, согласно которому вина владельца отсутствует только в тех случаях, когда пользование вещью было необходимо для сохранения ее полезных свойств, а любое иное сопряженное с риском использование вещи образует вину. По мнению А. Ваке, виновным надлежит признавать не всякое сопряженное с риском пользование, но только такое, которое не соответствует природе и назначению вещи или не сопровождается соблюдением обычных мер предосторожности132.
Как отмечает ученый, это имеющее под собой экономическое основание правило было выработано римскими юристами применительно к казусу с владельцем судна, который должен был решить post litis contestationem, отправлять ли его в море до завершения судебного процесса. Римские юристы пришли к выводу о том, что
Например, по причине просрочки кредитора.
См.: Jewell M. Op. cit. P. 18.
См.: п. 1.1.1 настоящей статьи.
См.: Hacker B. Op. cit. P. 71.
См.: Wacke A. Op. cit. P. 321.
161

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
судовладелец не должен воздерживаться от запланированной отправки судна под угрозой быть признанным виновным в его гибели вследствие обычных рисков навигации. «Не признается виновным владелец post litis contestationem, если отправляет в море выступающее предметом судебного спора судно в период навигации (т.е. когда море открыто), даже если оно впоследствии терпит крушение, кроме случаев, когда судно не было укомплектовано достаточно опытной командой»133.
«Принято считать, что судно сохраннее в порту, чем в море, — пишет А. Ваке, — однако капитал, в нем воплощенный, должен работать»134. Нельзя не принять во внимание и то, что иное решение способно причинить владельцу значительные убытки, притом что обращенный к нему виндикационный иск в итоге может оказаться необоснованным. Более того, возложение на ответчика риска случайной гибели вещи фактически вынуждало бы его выдать вещь до разрешения спора судом. Владелец, который должен принять во внимание возможность существования обязательства по выдаче вещи, до тех пор пока существование такого обязательства остается неопределенным, несет ответственность за вину, но не за случай, заключает исследователь135. Хотя в работе А. Ваке речь идет о виндикации, сделанные им выводы справедливы и для исков из неосновательного обогащения.
К аналогичному выводу приходит Д.Д. Гримм. Он отмечает, что «само отношение между сторонами post litis contestationem приобретает совершенно иной характер. Ответчик знает, что его право оспаривается. Поэтому он уже не может распоряжаться спорными объектами так свободно и безотчетно, как до этого момента: случайное прекращение обогащения освобождает его от ответственности, но он отвечает за omnis culpa <…> Существует спор, не наступают ли означенные последствия уже с момента оповещения ответчика о предъявлении к нему иска <…> De lege ferenda следует отдать предпочтение последнему принципу: раз ответчик узнал о притязании противной стороны, он должен считаться с возможностью отсуждения спорного объекта и связан в своих действиях по отношению к нему»136.
Интересно, что близкие по смыслу рассуждения встречаются и в литературе, посвященной английскому праву. Так, по мнению Р. Нолана, «если ответчик осведомлен о предъявленном к нему иске о реституции или о том, что таковой может быть предъявлен, однако убежден, что может успешно противостоять ему, то, возможно, правильным было бы потребовать от ответчика воздержаться от совершения действий в расчете на обогащение иначе как на свой риск; по этой причине
133D. 6.1.16.1.
134Это тем более очевидно ввиду обязанности ответчика выдать fructus percipiendi (плоды, которые могли бы быть извлечены, но не извлечены по нерадению) в случае удовлетворения иска о возврате вещи. Вопреки высказанному в отечественной литературе мнению (см.: Новак Д.В. Указ. соч. С. 382–383), правило о выдаче неполученных доходов не является особенностью отечественного правопорядка; оно хорошо известно зарубежному праву неосновательного обогащения (§ 819 (1), 818 (4) и § 987 (2) ГГУ) и имеет под собой прочное рациональное основание.
135См.: Wacke A. Op. cit. P. 322.
136Гримм Д.Д. Указ. соч. Вып. 2. С. 93–94.
162

Свободная трибуна
в целях предосторожности ему не следует изменять свое имущественное положение, полагаясь на обогащение. Однако ответчику, вероятно, следует предоставить возражение в связи с последующей утратой или повреждением обогащения, ожидающего разрешения спора, поскольку нет ничего предосудительного в том, что ответчик удерживает спорное имущество, будучи убежденным в необоснованности предъявленных к нему требований, кроме случаев, когда такая утрата явилась следствием поведения ответчика, от которого, принимая во внимание предъявленные к нему требования, он должен был бы воздержаться»137.
За указанным исключением, не предъявляется каких-либо специальных требований к поведению добросовестного кондикционного должника в отношении имущества, составляющего его неосновательное обогащение: добросовестное лицо может полагаться на действительность приобретения и распоряжаться ресурсами так, как считает нужным, даже если при этом оно действует неразумно и расточительно.
В связи с последним утверждением может возникнуть опасение, что возражение побудит ответчика к расточительному поведению или рисковым инвестициям, что с экономической точки зрения в целом нежелательно. На этот счет в литературе справедливо отмечается, что данные опасения преувеличены138. Кроме случаев, когда кондикционный должник имеет основания полагать, что обогащение подлежит возврату, у него отсутствуют сколько-нибудь отличные от обычных мотивы к расточительству и риску. Когда же должник мог усомниться в основательности платежа, он ведет себя бесчестно, а потому его возражение должно быть заблокировано по причине недобросовестности.
2.2. Вина сторон в совершении ошибки, повлекшей возникновение неосновательного обогащения
Очевидно, что во всех охватываемых возражением об утрате обогащения случаях возврат обогащения сопряжен с негативными последствиями для имущественной сферы ответчика, принимая во внимание произошедшие в ней в связи с фактом обогащения изменения. Выдача полученных выгод не всегда восстанавливает положение, существовавшее до того, как обогащение было получено. В связи с этим возникает необходимость определить, лягут ли эти неблагоприятные последствия (потери) на кондикционного кредитора, которому будет отказано в иске полностью или в части, либо их понесет кондикционный должник в том случае, если возражение окажется ему недоступно.
Это незамысловатое наблюдение послужило отправной точкой научной критики, обращенной против чрезвычайно благосклонной к ответчику модели возражения, закрепленной в § 818 III ГГУ, заставив исследователей с большим вниманием от-
137Nolan R. Op. cit. P. 155.
138См., напр.: Beatson J., Bishop W. Mistaken Payments in the Law of Restitution // University of Toronto Law Journal. 1986. № 36. P. 152.
163

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
нестись к вопросу о том, какое влияние на принятие решения о доступности возражения способна оказать степень упречности поведения сторон в отношении самого факта возникновения неосновательного обогащения139.
В германской литературе одним из первых ученых, предпринявших попытку ограничить действие возражения с учетом этих обстоятельств, стал А. фон Тур. Автор провел интересную параллель между положением § 122 ГГУ, возлагающим на сторону, оспаривающую договор, заключенный вследствие ошибки, обязанность возместить другой стороне негативный договорный интерес, и § 818 III ГГУ, ограничивающим кондикционное обязательство размером наличного обогащения.
«В эпоху ius commune, — пишет А. фон Тур, — вопрос о том, должна ли ошибка, влекущая оспоримость сделки, быть извинительной, вызывал споры. § 119 ГГУ закрепляет правило, согласно которому извинительность ошибки не требуется. Возникающие из такого решения для другой стороны затруднения уравновешиваются тем, что лицо, оспаривающее сделку, обязано возместить любые убытки, причиненные оспариванием. Это обязательство также не зависит от извинительности совершенной ошибки, § 122 ГГУ <…> Если оспаривание не может быть осуществлено без причинения убытков другой стороне, то согласно ГГУ эти убытки ложатся на сторону, которая со ссылкой на свою ошибку стремится аннулировать юридический status quo, явившийся результатом ее волеизъявления. Причиной возникновения убытков, равно как обязательства по их возмещению на основании § 122 ГГУ, выступает не ошибка как таковая, но сам акт оспаривания <…> Такой же конфликт интересов [как между стороной, оспаривающей сделку, совершенную вследствие ошибки, и другой стороной] имеет место в случае ошибки, лежащей в основании condictio indebiti. Если некое лицо уплатит денежную сумму,
квыплате которой не было обязано, то оно понесет убытки. Такому лицу должно быть позволено возместить эти убытки путем простого истребования недолжно уплаченного <…> Как и в случае с оспариванием, сторона, допустившая ошибку, обязана возместить негативный интерес, удовлетворение иска из неосновательного обогащения равным образом не должно влечь убытки для ответчика. Обязательство последнего должно быть ограничено размером обогащения, сохранившегося
кмоменту предъявления иска <…> Ограничение condictio indebiti наличным обогащением представляется неизбежным следствием допущения этого иска без какихлибо ограничений [таких как извинительность ошибки]»140.
Вывод, сделанный А. фон Туром, состоял в том, что возражение об утрате обогащения должно применяться по-разному к Leistungskondiktion (кондикции из предоставления) и Eingriffskondiktion (кондикции из вмешательства)141. В случае
139Не обходит стороной этот вопрос и английская доктрина. См. подробный анализ влияния на доступность возражения упречного поведения кондикционного должника (wrong, duress, undue influence и особенно innocent inducement) в монографии проф. Э.Д. Бэнт (см.: Bant E. Op. cit. P. 165–184). Направление мысли здесь то же, что и у немецких ученых.
140Tuhr A., von. Zur Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung // Aus Römischem und Bürgerlichem Recht. Ernst Immanuel Bekker. 1907. S. 293–294, 296 (цит. по: Hellwege P. Unwinding Mutual Contracts: Restitutio in Integrum v. The Defence of Change of Position // Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Perspective / D. Johnson, R. Zimmermann (eds.). Cambridge, 2002. P. 107–108).
141О разграничении этих двух видов кондикций в немецком праве см.: Zimmermann R., Plessis J., du. Op. cit. P. 24–30.
164

Свободная трибуна
Leistungskondiktion все потери ложатся на кондикционного кредитора, следствием ошибки которого явилось неосновательное обогащение должника. Если же речь идет о Eingriffskondiktion, то должник имеет право вычесть только произведенные им необходимые и полезные расходы. Так, если покупатель дома распорядился оставленной в нем продавцом мебелью, ошибочно полагая ее своей, и растратил вырученные от продажи деньги, то возражение об утрате обогащения недоступно, ибо понесенные им потери относятся к числу тех, что ложатся на всякого, кто переоценивает свои возможности142.
В этом же направлении рассуждает В. Вильбург143. То, что иски из неосновательного обогащения не требуют наличия вины на стороне ответчика, не означает, что поведение сторон иррелевантно для решения вопроса о размере кондикционного обязательства. Утрата обогащения, согласно В. Вильбургу, должна рассматриваться как убыток, который следует отнести на одну из сторон, а поведение сторон — выступать в роли главного критерия при решении этого вопроса. Сторона будет нести убытки, если ответственна за факты, влекущие возникновение неосновательного обогащения. В большинстве случаев Eingriffskondiktion это будет ответчик, в то время как в большинстве случаев Leistungskondiktion — истец. В этой части В. Вильбург солидарен с А. фон Туром, однако полагает, что было бы неправильно делать обобщающий вывод, поскольку нельзя установить общие правила, определяющие заранее, на кого в каждом конкретном случае ложатся убытки. Так, в ситуации, когда ответчик спровоцировал ошибку со стороны истца, вследствие которой был совершен платеж (например, предъявив истцу необоснованное требование), В. Вильбург отказывает ответчику в возможности ссылаться на утрату обогащения144. Когда же истец позволяет своим овцам смешаться со стадом ответчика, который впоследствии продает стадо по цене, не учитывающей количество животных в нем, возражение возможно, хотя иск основан на Eingriffskondiktion145.
С выводом В. Вильбурга соглашается А. Флешнер, также отрицая возможность установления строгих правил распределения потерь между сторонами ex ante. Однако, по мнению автора, в каждом конкретном случае судья должен определить, кто из сторон в большей степени ответствен за факт возникновения обогащения, отсутствие правового основания и утрату обогащения146. Ученый акцентирует внимание на том, что возражение об утрате обогащения фактически выступает инструментом распределения имущественных потерь и предлагает трансплантировать механизмы, используемые для целей такого распределения в рамках института юридической ответственности, а именно выявление и сопоставление степени вины обеих сторон. Подвергнув критике разработчиков ГГУ за чрезмерное внимание к фигуре кондикционного должника, который в случае своей добросовестно-
142См.: Hellwege P. Op. cit. P. 108; Krebs T. Restitution at the crossroads: a comparative study. P. 286; Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. М., 2010. С. 596.
143Взгляды В. Вильбурга и А. Флешнера по интересующему нас вопросу далее излагаются по: Krebs T. Op. cit. P. 286–290.
144Хотя в этом случае перед нами Leistungskondiktion.
145См.: Krebs T. Restitution at the crossroads: a comparative study. P. 287–288.
146Ibid. P. 289–290.
165

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
сти освобождается от несения потерь, при одновременном игнорировании интересов кредитора, А. Флешнер приводит в качестве иллюстрации положительного зарубежного опыта американский Свод права реституции 1937 г.147 (далее — Свод).
Действительно, в § 142 Свода, посвященном возражению об утрате обогащения, предлагался вариант решения проблемы, обративший на себя внимание немецких цивилистов. В общем виде суть подхода заключается в том, чтобы сопоставить степень вины обеих сторон в совершении ошибки, повлекшей возникновение неосновательного обогащения: если суд придет к выводу о равной или меньшей степени виновности ответчика, возражение предоставляется в полном объеме (так называемый метод взвешивания)148. В основе процедуры взвешивания лежит довольно простая идея, которая упоминалось выше149. По общему правилу поведение кондикционного истца не оказывает влияния на решение вопроса о доступности кондикционного иска. Иск доступен даже лицу, которое, совершая платеж, действовало в высшей степени неосмотрительно, поскольку либо на стороне ответчика вовсе отсутствует утрата обогащения (нет потерь, подлежащих распределению между сторонами кондикционного обязательства), либо — если обогащение все же было утрачено — интерес ответчика в стабильности приобретений надежно защищен исследуемым возражением. Если поведение ответчика упречно, то отказ в иске со ссылкой на возражение означал бы возложение этих потерь на истца, т.е. виновное причинение вреда кондикционному кредитору. Но если отказать ответчику в праве ссылаться на утрату обогащения, все потери лягут на него. И тут вина истца не может не приниматься во внимание, ведь ввиду своего упречного поведения он в какой-то мере ответствен за возникновение потерь150.
Требование принять во внимание степень вины обеих сторон на этапе распределения потерь открывает возможность предъявления более строгих151 требований к поведению ответчика. Что касается стандарта его осмотрительности, то в рамках процедуры взвешивания во внимание принимаются как неосторожные действия ответчика, повлекшие неосновательное обогащение (например, обращенное ответчиком к потерпевшему неосновательное требование произвести платеж или ни к чему не обязывающее высказывание, на которое потерпевший ошибочно положился), так и неосторожное бездействие — молчаливое принятие исполнения ответчиком без осуществления разумных мер по исследованию основательности платежа. Осведомленность ответчика о неосновательности обогащения, очевидно,
147В настоящее время принята третья редакция Свода (Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment (2011 г.)). Суть подхода к возражению об утрате обогащения осталась прежней (см. § 65, 52 (3)).
148Однако следует принять во внимание, что п. 3 § 142 Свода применение возражения исключается (метод взвешивания не применяется), если получение, удержание или распоряжение неосновательно полученным образует деликт. Из комментария следует, что данное правило применимо равным образом к невиновным нарушителям. Критические замечания в адрес этого ограничения аналогичны тем, что были выдвинуты в немецкой доктрине против подхода, предложенного А. Туром (критику п. 3 ст. 142 Свода с примерами см.: McCamus J.D. Op. cit. P. 918–919).
149См. сн. 126 и соответствующий текст.
150См.: McCamus J.D. Op. cit. P. 912–913.
151По сравнению с воплощенным в категории «добросовестность» стандартом осмотрительности, принятым в английском и немецком праве.
166

Свободная трибуна
лишает его возражения за отсутствием подлежащего защите интереса в стабильности приобретений.
Канадский профессор Д. МакКамус иллюстрирует процедуру взвешивания на примере фабулы дела Clark v. Eckroyd152. В этом деле продавец-ответчик (Eckroyd), периодически поставлявший товары железной дорогой своему клиенту, покупате- лю-истцу (H.E. Clark & Company), по ошибке направил товары фирме J.H. Clark & Co, выставив счет истцу. Истец, не убедившись в том, поставлялся ли в его адрес указанный товар, оплатил счет. Железнодорожная компания впоследствии правомерно реализовала невостребованный товар, оставив за собой вырученную сумму в качестве оплаты услуг по его хранению. Неосторожность продавца, выразившаяся в направлении товаров по ошибочному адресу, сопровождалась неосторожностью покупателя, не предпринявшего никаких действий с целью убедиться в том, что товары действительно поставлялись. В результате продавец упустил возможность исправить свою ошибку и перенаправить товары надлежащему адресату153. По мнению Д. МакКамуса, суд правильно отказал ответчику в праве сослаться на возражение, однако использованный им подход, согласно которому риски несет та из сторон, которая первой допустила ошибку, несостоятелен. Если бы это дело разрешалось согласно § 142 Свода, то суд должен был бы выяснить, какая из сторон проявила бóльшую степень вины. «Читая Clark v. Eckroyd между строк, — пишет автор, — можно предположить, что Апелляционный суд чувствовал, что продавец в этом деле в большей степени повинен в происшедшем, чем покупатель»154.
Другим примером может служить дело Houston & TC Railway v. Hughes155. Здесь истец (заказчик) по ошибке выплатил ответчику (генеральному подрядчику) 985 долл. сверх причитающейся тому суммы. Ответчик, полагая, что сумма выплачена правильно, рассчитался со своими субподрядчиками, увеличив сумму выплат пропорционально полученной от истца переплате. Впоследствии субподрядчики скрылись с полученными деньгами. Столкнувшись с кондикционным иском, ответчик выдвинул возражение об утрате обогащения. В описанной ситуации истца можно упрекнуть в том, что именно он инициировал ошибочный платеж, на который положился ответчик. Однако последний не предпринял собственных мер по проверке правильности платежа и тем самым также проявил неосторожность. Совокупность данных обстоятельств привела к изменению имущественного положения ответчика. В рассматриваемом деле суд посчитал, что ответчик не может ссылаться на утрату обогащения, однако господствующая доктрина, подвергая это решение критике, склоняется к выводу, что ответчик не был повинен в случившемся в большей степени, нежели истец, а значит, возражение должно было быть доступно156.
152См.: Clark v. Eckroyd [1886] 12 OAR. 425, 431 (Can.).
153См.: McCamus J.D. Op. cit. P. 913–914.
154Ibid. P. 914.
155См.: Houston & T.C. Ry. Co. v. Hughes, 133 S.W. 731 (Tex. Civ. App. 1911).
156См.: Key P. Change of position // The Modern Law Review. 1995. Vol. 58. Iss. 4. P. 520–521; Palmer G. The Law of Restitution. Vol. III. Boston, 1978 P. 522–523; McCamus J.D. Op. cit. P. 916. В похожем деле Haubert v. Navajo Refining Co. (129 Okla. 195, 264 P. 151 (1928)) суд признал за ответчиком право на возражение.
167

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Примечательно, что аналогичная этому делу фабула использована в качестве иллюстрации в первом Своде157. Заказчик А нанимает подрядчика В для выполнения работ по строительству дороги, обязуясь по мере выполнения работ производить оплату из расчета 10 долл. за 1 кв. ярд. В свою очередь, В заключает договор субподряда с C на выполнение работ по строительству 10 000 кв. ярдов дороги по цене 8 долл. за 1 кв. ярд. В результате ошибки, допущенной в отношении объема работ, выполненных C, и в отсутствие введения в заблуждение (misrepresentation) со стороны B последний получает от A платеж за работы по строительству 100 кв. ярдов дороги, которые C не выполнялись. Вследствие этой ошибки B выплачивает C 800 долл. сверх причитающейся ему суммы. А может взыскать с B в порядке реституции только 200 долл., однако имеет право на суброгацию требования B к C о возврате произведенной переплаты.
Свод предлагает еще одну интересную иллюстрацию. А продает товары B и отправляет их железной дорогой C. C доставляет товары B, однако B, вступив в сговор с агентом железной дороги, вводит в заблуждение как грузоотправителя A, так и железную дорогу C, сообщив им, что товары не были доставлены. A отправляет замену товарам, которые, как ошибочно предполагалось, были утрачены в пути, и получает от C возмещение в размере их стоимости. Впоследствии B скрывается. C не сможет взыскать с А уплаченную сумму возмещения, поскольку C была по меньшей мере столь же неосмотрительна, сколь A158. Допустимо ли упрекнуть составителей Свода в том, что описанная ими ситуация является плодом чистого воображения и никогда не может возникнуть на практике? Думается, что нет. Автору настоящей работы встречалось несколько прецедентов со схожей фабулой159.
Важно отметить, что процедура взвешивания может существовать в двух вариантах, которые различаются механизмом учета вины сторон кондикционного обязательства. Вышеописанный подход, нашедший закрепление в § 142 Свода, предполагает, что в случае равной или меньшей степени виновности кондикционного должника возражение доступно в полном объеме утраты обогащения, а при большей степени вины недоступно также в полном объеме. Альтернативная модель предполагает, что возражение предоставляется ответчику не в полном объеме, а лишь в
части, пропорциональной степени его вины. Условно, если утрата обогащения составляет 100, вина истца оценивается судом в 3/10, а вина ответчика в 7/10, то последний вправе уменьшить размер обращенного к нему требования только на 30 (в рамках модели, предложенной в Своде, возражение оказалось бы полностью недоступно). Такая модель возражения принята в праве Новой Зеландии160.
Обе модели распределения имущественных потерь часто подвергаются критике. Утверждается, что практическая реализация процедуры взвешивания приводит к расширению усмотрения суда и вынесению решений de facto по справедливо-
157См.: § 142 Свода (иллюстрация № 4).
158Там же (иллюстрация № 12).
159См.: R.E. Jones, Ltd v. Waring and Gillow Ltd [1926] A.C. 670 (HL.); Orix Australia Corp Ltd v. M Wright Hotel Refrigeration Pty Ltd (2000) 155 FLR 267 (South Australian Supreme Court).
160См.: Nat’l Bank ofN.Z. Ltd v. Waitaki Int’l Processing (NI) Ltd [1999] 2 N.Z.L.R. 211, 1998 NZLR LEXIS 71, 35-36 (C.A.) (N.Z.).
168

Свободная трибуна
сти161. На эту критику защитники метода, помимо прочего, возражают, что аналогичные задачи стоят перед судами в делах о возмещении убытков при наличии смешанной вины, и это никогда не вызывало ни у кого особых возражений162.
Подводя итог, все же нельзя не обратить внимания, что значительная часть зарубежной доктрины при решении вопроса о доступности возражения небеспочвенно склоняется к необходимости учета вины сторон кондикционного обязательства в возникновении факта неосновательного обогащения. Возможно, сопоставление степени упречности поведения обеих сторон может оказаться непосильной задачей для суда, однако поведение добросовестного ответчика, спровоцировавшего ошибку, повлекшую неосновательное обогащение, едва ли может быть проигнорировано.
Заключение
В заключение хотелось бы сказать несколько слов о российском праве. Из положений главы 60 ГК к рассматриваемому предмету относятся несколько. Пункт 2 ст. 1104, исключающий ответственность добросовестного кондикционного должника за гибель неосновательно приобретенного или сбереженного имущества163, является известным отечественному правопорядку случаем ограничения кондикционного обязательства размером наличного обогащения. Пункты 3 и 4 ст. 1109 защищают интересы кондикционного должника. Пункт 3 ст. 1109 исключает истребование в качестве неосновательного обогащения денежных сумм, предоставленных добросовестному гражданину в качестве средства к существованию, освобождая его от необходимости доказывать изменение своего имущественного положения (неопровержимая презумпция), но возлагая на него риск счетной ошибки. По всей видимости, эту же цель преследовал законодатель и в п. 4 ст. 1109 ГК РФ, предоставляя ответчику возражение об осведомленности потерпевшего о неосновательности платежа в качестве инструмента борьбы с навязанным обогащением164. Положения ст. 1108 ГК о праве кондикционного должника требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества по справедливому замечанию165 a contrario свидетельствуют
161См.: Birks P. Unjust Enrichment. 2nd ed. Oxford, 2005. P. 218–219.
162Ibid. P. 914; Visser D. Unjustified Enrichment. P. 740. Рассуждая о будущем возражения об утрате обогащения в праве ЮАР, автор отмечает, что, хоть решения, основанные на учете смешанной вины сторон, и представляют собой в широком смысле решения, вынесенные по справедливости (moral judgment), это тот уровень решений по справедливости, который широко используется в праве и с которым право чувствует себя комфортно.
163О проблеме интерпретации предписаний п. 2 ст. 1104 ГК РФ см.: Рудоквас А.Д. Спорные вопросы учения о приобретательной давности. М., 2011. С. 145–147; Салмин Д.Н. Указ. соч. С. 40–43.
164Думается, именно ввиду функциональной направленности данной нормы она не должна применяться к реституции исполненного по двусторонним синаллагматическим договорам в силу тех же соображений, по которым к такому возврату неприменимо возражение об утрате обогащения (см.: Салмин Д.Н. Указ. соч. С. 47 и след.).
165См.: Гербутов В.С. Понятие и формы обогащения в кондикционных обязательствах. М., 2014. С. 49.
169

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
об отсутствии в отечественном праве общего правила об ограничении кондикционного обязательства наличным обогащением.
В то же время, по общему признанию, в отечественном гражданском законодательстве реализован принцип генеральной кондикции (ст. 1102 ГК РФ). Либеральный подход к условиям удовлетворения кондикционного иска делает актуальным вопрос о защите интересов добросовестного кондикционного должника. Как было продемонстрировано выше, такая защита может быть организована по-разному: через категорию обогащения (в рамках совокупно-имущественного подхода) или путем предоставления ответчику возражения sui generis (в рамках подхода предмет- но-ориентированного).
Если согласиться с озвученным в литературе тезисом о состоявшейся эволюции категории обогащения в отечественном праве из области совокупно-имуществен- ного в область предметно-ориентированного подхода166, то необходимо будет разобраться, насколько хорошо существующие механизмы учитывают интересы добросовестного кондикционного должника. Представляется, что в настоящее время они далеки от совершенства.
Положения п. 2 ст. 1104 ГК РФ ограничиваются утратой индивидуально-опреде- ленного имущества. При этом практика его применения складывается далеко не безупречно.
Так, в известном надзорном постановлении ВАС РФ встал вопрос о возврате стоимости неосновательного обогащения, утраченного ответчиком167. В результате разбойного нападения была похищена принадлежащая истцу мебельная фурнитура. В ходе расследования хищения часть похищенной фурнитуры обнаружена у общества-ответчика и изъята органами следствия. При этом оказалось, что другая часть похищенной фурнитуры, ранее приобретенной ответчиком, была им продана. Истец попросил суд взыскать с ответчика стоимость не возвращенного ответчиком имущества. ВАС поддержал суд апелляционной инстанции, присудивший истцу стоимость фурнитуры в качестве неосновательного обогащения на основании ст. 1105 ГК РФ168.
166Данный тезис отстаивается В.С. Гербутовым (см.: Гербутов В.С. Эволюция обогащения. К учению об обогащении по российскому праву // Вестник гражданского права. 2012. № 2. С. 36–60; Он же. Понятие и формы обогащения в кондикционных обязательствах).
167См.: постановление Президиума ВАС РФ от 24.06.2008 № 3605/08.
168Интересным представляется вопрос о судьбе права собственности в случае удовлетворения кондикционного иска к продавцу чужой вещи. Строго говоря, для того чтобы констатировать обогащение продавца за счет собственника вещи, последний должен это право утратить (см. подход немецкого права к решению данного вопроса, описанный выше (сн. 97 выше и соответствующий текст)). Если все же признать, что кондикционный иск к продавцу доступен и в ситуации, когда собственник вещи сохраняет свое право собственности, а значит, и право на виндикацию, то в случае последующей успешной эвикции им вещи у покупателя или иного последующего приобретателя суммы, ранее полученные собственником от продавца в качестве возмещения неосновательного обогащения, подлежат возврату последнему ввиду отпадения основания обогащения (condictio ex causa finita). Ср.: Рудоквас А.Д. Указ. соч. С. 147. В этом отношении представляет интерес близкое по фабуле дело № А09-9146/2013 по иску о возврате неосновательного обогащения, предъявленному ЗАО «Версия» к ООО «Агроком» (об этом деле см.: Багаев В. Неосновательное обогащение вслед за реституцией. ВС не смутила конкуренция исков // Закон.ру. 2014. 16 сент. URL: https://zakon.ru/discussion/2014/9/16/neosnovatelnoe_obogashhe- nie_vsled_za_restituciej__vs_ne_smutila_konkurenciya_iskov ).
170

Свободная трибуна
Положения п. 2 ст. 1104 ГК РФ при добросовестности ответчика должны ограничивать применение ст. 1105 ГК в ситуации, когда возврат неосновательного обогащения в натуре невозможен (будь то в результате гибели или отчуждения неосновательно приобретенного имущества). Вследствие этого размер ответственности кондикционного должника должен ограничиваться полученной (сбереженной) выгодой (ст. 1102 ГК РФ) в части, не превышающей рыночную стоимость утраченного имущества.
Таким образом, в случае добросовестности ответчика размер взысканных сумм не должен был превысить вырученную в результате отчуждения фурнитуры покупную цену. Однако вопрос о добросовестности ответчика, перепродавшего фурнитуру, и размере его выручки от такой продажи судом не исследовался.
Пункт 3 ст. 1109 ГК имеет в виду только средства, предоставленные гражданину
вкачестве средств к существованию, необоснованно возлагая риск счетных ошибок, как представляется, отнюдь не на тех, кто в большей степени ответствен за их совершение. При этом буквальное прочтение данной статьи оставляет за бортом правового регулирования значительное число иных (не целевых) денежных платежей, совершаемых в адрес гражданина (получение дивидендов, доходов от доверительного управления имуществом, роялти, средств с банковских счетов, сдачи
вмагазине и др.). Применение радикальных мер, предусмотренных п. 3 ст. 1109 ГК, к таким случаям было бы неоправданным. Поэтому здесь необходимо компромиссное решение, но в то же время учитывающее трудности доказывания утраты обогащения гражданином.
В отсутствие полноценного возражения об утрате обогащения проблема защиты интересов добросовестного кондикционного должника в российском праве может быть частично решена судебной практикой путем предоставления ответчику права добиваться возмещения причиненного возвратом неосновательного обогащения вреда (с помощью конструкции генерального деликта) или возражения о противоречивом поведении на стороне истца (по модели estoppel by representation169) в рамках приобретшей в последнее время популярность доктрины недопустимости противоречивого поведения (эстоппеля).
Очевидно, что механизмы распределения потерь между сторонами кондикционного обязательства, условия и пределы их действия нуждаются в дальнейших научных исследованиях.
References
Bant E. The Change of Position Defence. Oxford, Hart Publishing, 2009. 264 p.
Bar C., von, E. Clive E., eds. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Oxford, OUP, 2010. 6563 p.
Bar C., von, Swann S., eds. Study Group on a European Civil Code, Principles of European Law — Unjustified Enrichment. Oxford, OUP, 2010. 739 p.
169 |
См.: сн. 84 выше. |
|
171

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Baron Yu. The System of Roman Private Law [Sistema rimskogo grazhdanskogo prava]. Saint Petersburg, Yuridicheskiy Tsentr Press, 2005. 1102 p.
Baybak V.V. Causation as a Condition of Contractual Liability: A Comparative Essay [Prichinnaya svyaz kak uslovie dogovornoy otvetstvennosti: sravnitelno-pravovoy ocherk]. The Herald of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation [Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiiskoi Federatsii]. 2014. No. 6. P. 4–21.
Baybak V.V. Mitigation of Damages in Breach of Contract [Umenshenie ubytkov pri narushenii dogovora (mitigation)]. The Herald of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation [Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiiskoi Federatsii]. 2012. No. 7. P. 65–80.
Beatson J., Bishop W. Mistaken Payments in the Law of Restitution. University of Toronto Law Journal. 1986. No. 36. P. 149–185.
Birks P. An Introduction to the Law of Restitution. Oxford, Clarendon Press, 1989. 455 p.
Birks P. Change of Position and Surviving Enrichment, in: Swadling W., ed. The Limits of Restitutionary Claims: A Comparative Analysis. London, British Insitute of International and Comparative Law, 1997. P. 36–63.
Birks P. Overview: Tracing, Claiming and Defences, in: Birks P., ed. Laundering and Tracing. Oxford, OUP, 1995. P. 289–348.
Birks P. Unjust Enrichment. 2nd ed. Oxford, OUP, 2005. 318 p.
Burrows A. Restatement of the English Law of Unjust Enrichment. Oxford, OUP, 2012. 197 p.
Burrows A. The Law of Restitution. London, Butterworths, 2002. 639 p.
Dawson J. Erasable Enrichment in German Law. Boston University Law Review. 1981. Vol. 61. No. 2. P. 271–314.
Doerner H. «Change of Position» and «Wegfall der Bereicherung», in: Swadling W., ed. The Limits of Restitutionary Claims: A Comparative Analysis. London, British Insitute of International and Comparative Law, 1997. P. 64–78.
Dyson A., Goudkamp J., Wilmot-Smith F. Defences in Unjust Enrichment: Questions and Themes, in: Dyson A., Goudkamp J., Wilmot-Smith F., eds. Defences in Unjust Enrichment. Oxford, Hart Publishing, 2016. P. 1–26.
Dzhanaeva A.M. The Concept of Restitution in Russian and English-American Law: A PhD Thesis in Law [Ponyatie restitutsii v rossiyskom i anglo-amerikanskom prave: dis. … kand. yurid. nauk]. Мoscow, 2015. 209 p.
Edelman J., Bant E. Unjust Enrichment. 2nd ed. Oxford, Hart Publishing, 2016. 480 p.
Englard I. Chapter 5: Restitution of Benefits Conferred without Obligation, in: Schlechtriem P., ed. International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. X: Restitution — Unjust Enrichment and Negotiorum Gestio. Tuebingen, Mohr Siebeck, 2007. 189 p.
Evans-Jones R. Unjustified Enrichment. Vol. 1. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2003. 341 p.
Flume W. Der Wegfall der Bereicherung in der Entwicklung vom romischen zum geltenden Recht, in: Festschrift fur Hans Niedermeyer zum 70. Goettingen, 1953. S. 103–176.
Gerbutov V.S. Evolution of the Notion of Enrichment. Doctrine of Enrichment under Russian Law [Evolutsiya obogascheniya. K ucheniyu ob obogaschenii po rossiiskomu pravu]. Civil Law Review [Vestnik grazhdanskogo prava]. 2012. No. 2. P. 36–60.
172

Свободная трибуна
Gerbutov V.S. Imposed Enrichment. Doctrine of Enrichment under Russian Law [Navyazannoe obogaschenie. K ucheniyu ob obogaschenii po rossiiskomu pravu]. Civil Law Review [Vestnik grazhdanskogo prava]. 2011. No. 2. P. 119–152.
Gerbutov V.S. The Concept and Forms of Enrichment in Unjust Enrichment Obligations: A PhD Thesis in Law [Ponyatie i formy obogascheniya v kondiktsionnykh obyazatelstvakh: dis. … kand. yurid. nauk]. Moscow, 2014. 184 p.
Goff R., Jones G. The Law of Restitution. 6th ed. London Sweet and Maxwell, 2002. 912 p.
Gordley J. Restitution without Enrichment? Change of Position and Wegfall der Bereicherung, in: Johnson D., Zimmermann R., eds. Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Perspective. Cambridge, CUP, 2002. P. 227–242.
Grimm D.D. Essays on the Doctrine of Enrichment [Ocherki po ucheniyu ob obogaschenii]. Iss. 1. Derpt, Tipografiya M.M. Stasyulevicha, 1891. 106 p.
Grimm D.D. Essays on the Doctrine of Enrichment [Ocherki po ucheniyu ob obogaschenii]. Iss. 2. Derpt, Tipografiya M.M. Stasyulevicha, 1891. 118 p.
Hacker B. Consequences of Impared Consent Transfers. Tuebingen, Mohr Siebeck, 2009. 386 p.
Hallebeek J. Developments in Mediaeval Roman Law, in: Shrage E.J.H., ed. Unjust Enrichment. The Comparative Legal History of the Law of Restitution. Berlin, Dunker und Humblot, 1995. P. 59–120.
Hellwege P. Unwinding Mutual Contracts: Restitutio in Integrum v. The Defence of Change of Position, in: Johnson D., Zimmermann R., eds. Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Perspective. Cambridge, CUP, 2002. P. 243–286.
Jansen N. Farewell Unjust Enrichment? The Edinburgh Law Review. 2016. No. 2. P. 123–148.
Jewell M. The Boundaries of Change of Position — A Comparative Study. Restitution Law Review. 2000. Vol. 8. Part 1. P. 1–69.
Jones G. Some Thoughts on Change of Position, in: Burrows A., Rodger A., eds. Mapping the Law: Essays in Memory of Peter Birks. Oxford, OUP, 2006. P. 65–81.
Kammerer E., von. Enrichment and Forbidden Action. Part Two [Obogaschenie i nedozvolennoe deistvie. Chast vtoraya]. Civil Law Review [Vestnik grazhdanskogo prava]. 2010. No. 3. P. 274–298.
Key P. Change of Position. The Modern Law Review. 1995. Vol. 58. Iss. 4. P. 505–522.
Krebs T. In Defence of Unjust Factors, in: Johnson D., Zimmermann R., eds. Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Perspective. Cambridge, CUP, 2002. P. 76–100.
Krebs T. Restitution at the Crossroads: A Comparative Study. London, Cavendish, 2001. 355 p.
Liebs D. The History of the Roman Condictio up to Justinian, in: McCormick N., Birks P., eds. The Legal Mind, Essays for Tony Honore. Oxford, Clarendon Press, 1986. P. 163–183.
Machtel F. The Defence of «Change of Position» in English and German Law of Unjust Enrichment. German Law Journal. 2004. Vol. 5. No. 1. P. 23–46.
Martinek M. Unjust Enrichment Issues in Triangular Situations of Defective Cashless Payments — the German Approach in Comparative Perspective. Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg. 2003. No.1. P. 94–109.
McCamus J.D. Rethinking Section 142 of the Restatement of Restitution: Fault, Bad Faith, and Change of Position. Washington & Lee Law Review. 2008. No. 65. P. 889–931.
173

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Meier S. Mistaken Payments in Three-Party Situations: A German View of English Law. Cambridge Law Journal. 1999. No. 58 (3). P. 567–603.
Meyer-Spasche R.A. The Recovery of Benefits Conferred under Illegal or Immoral Transactions. A Historical and Comparative Study with Particular Emphasis on the Law of Unjustified Enrichment: A PhD Thesis in Law. Aberdeen, 2002. 500 p.
Nolan R. Change of Position, in: Birks P., ed. Laundering and Tracing. Oxford, OUP, 1995. P. 135–189.
Novak D.V. Unjustified Enrichment in Civil Law [Neosnovatel’noe obogaschenie v grazhdanskom prave]. Moscow, Statut, 2010. 416 p.
Palmer G. The Law of Restitution. Vol. III. Boston, Little Brown, 1978. 541 p.
Papchenkova E.A. Restitution after Termination for Breach of Contract [Vozvrat ispolnennogo po rastorgnutomu narushennomu dogovoru]. Мoscow, Statut, 2017. 224 p.
Petrazhickiy L.I. Unlawful Enrichment Claims in Vol. X Part One [Iski iz «nezakonnogo obogasheniya» v 1 ch. X t.]. Law Review [Vestnik prava]. 1900. No. 2. P. 1–31.
Poletaev N. Unlawful Enrichment Claims [Iski iz nezakonnogo obogascheniya]. Journal of Civil and Criminal Law [Zhurnal grazhdanskogo i ugolovnogo prava]. 1892. Book 3. P. 1–64.
Pothier R. Pandectae Justinianae. London, A. Strahan, 1782. Vol. 1. 712 p.
Rudokvas A.D. Controversial Issues in the Theory of Acquisitive Prescription [Spornye voprosy ucheniya o priobretatel’noy davnosti]. Moscow, Zakon, 2011. 303 p.
Sagaert V. Unjust Enrichment and Change of Position. Maastricht Journal of European and Comparative Law. 2004. Vol. 11. No. 2. P. 159–186.
Salmin D.N. Surviving Enrichment as a Limitation of Unjust Enrichment Claims [Ogranichenie kondiktsionnogo obyazatelstva razmerom nalichnogo obogascheniya]. Civil Law Review [Vestnik grazhdanskogo prava]. 2014. No. 3. P. 27–60.
Sanfilippo C. A Course in Roman Private Law [Kurs rimskogo chastnogo prava]. Мoscow, BEK, 2002. 400 p.
Schermaier M. «Performance-Based» and «Non-Performance Based» Enrichment Claims: The German Pattern. European Review of Private Law. 2006. No. 3. P. 363–389.
Sergeev A.P., Tolstoy Yu.K., eds. A Commentary on the Part Two of the Civil Code of Russian Federation [Kommentary k Grazhdanskomu kodeksu Rossiyskoy Federatsii. Chast vtoraya]. Moscow, Prospekt, 2006. 1093 p.
Sobolev D.A. Subjective Devaluation as a Defence to Claim in Unjust Enrichment [Sub’ektivnaya otsenka kak vozhrazhenie protiv kondiktsionnogo trebovaniya], in: Shilokhvost O.Yu., ed. Current Issues of Civil Law [Aktualnye problem grazhdanskogo prava]. Iss. 12. Мoscow, Norma, 2008. P. 258–285.
Swann S. The Structure of Liability for Unjustified Enrichment: First Proposals of the Study Group on a European Civil Code, in: Zimmermann R., ed. Grundstrukturen eines Europäischen Bereicherungsrecht. Tuebingen, Mohr Siebeck, 2005. P. 265–286.
Virgo G. Restitution for void loans. The Cambridge Law Journal. 2010. Vol. 69. Iss. 3. P. 447–449.
Virgo G. The Principles of the Law of Restitution. 3rd ed. Oxford, OUP, 2015. 816 p.
Visser D. Responsibility to Return Lost Enrichment. Acta Juridica. 1992. P. 175–202.
Visser D.P. Unjustified Enrichment. Cape Town, Juta and Co., 2008. 795 p.
Wacke A. Casum Sentit Dominus: Liability for Accidental Damages in Roman and Mdern German Law of Property and Obligation. The Journal of South African Law. 1987. No. 3. P. 318–331.
174

Свободная трибуна
Wilken S., Ghaly K. The Law of Waiver, Variation and Estoppel. Oxford, OUP, 2012. 538 p.
Windscheid B. Obligations in Roman Law [Ob obyazatelstvakh po rimskomu pravu]. Saint Petersburg, Tipografiya A. Dumashevskogo, 1875. 593 p.
Wright R. Causation in Tort Law. California Law Review. 1985. Vol. 73. Iss. 6. P. 1735–1828.
Zhuzhalov M.B. Legal Grounds of Liability for Eviction [Priroda otvetstvennosti za eviktsiyu]. Civil Law Review [Vestnik grazhdanskogo prava]. 2014. No. 6. P. 118–139.
Zimmermann R. Roman Law and European Culture [Rimskoe pravo i evropeyskaya kultura]. Civil Law Review [Vestnik grazhdanskogo prava]. 2007. No. 4. P. 209–238.
Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Cape Town, Juta, 1992. 1241 p.
Zimmermann R. Unjustified Enrichment: The Modern Civilian Approach. Oxford Journal of Legal Studies. 1995. No. 3. Vol. 15. P. 403–429.
Zimmermann R., Plessis J., du. Basic Features of the German Law of Unjustified Enrichment. Restitution Law Review. 1994. Vol. 14. P. 14–43.
Zwigert K., Koetz H. An Introduction to Comparative Private Law [Vvedenie v sravnitelnoe pravovedenie v sfere chastnogo prava]. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya, 2010. 728 p.
Information about the author
Dmitry Salmin — Junior Research Assistant of the Civil Law Department of the Saint Petersburg State University, Master of Law (e-mail: salmin.d@jurfak.spb.ru).
175

ПО Д П И С К А
на I I п о л у г о д и е 2 0 1 8 г о д а
Журнал распространяется по подписке и в розницу.
Подписку на журнал можно оформить
в любом отделении Почты России:
•подписной индекс 70040
вОбъединенном каталоге «Пресса России»,
вкаталоге Агентства «Роспечать»;
через редакцию:
стоимость одного номера — 900 руб.;
стоимость подписки
на II полугодие 2018 г. — 4800 руб.
Более подробную информацию об условиях подписки можно получить в редакции
по тел.: (495) 927-01-62
Главный редактор: Артем Карапетов
(karapetov@igzakon.ru)
Распространение: Денис Бибик (bibik@igzakon.ru)
post@zakon.ru
zakon.ru
Наш адрес:
121165 г. Москва, а/я 38
Тел.: (495) 927-01-62
Реклама

Обзор
практики
Павел Андреевич Правящий
советник Главной исполнительной дирекции корпоративного управления и правового обеспечения ПАО «Банк Уралсиб»
Доход от использования заложенного имущества: обзор практики применения п. 2 ст. 334 ГК РФ
Залог распространяется на доход от использования заложенного имущества третьим лицом, что сводится к залогу требования к этому лицу. Залогодержатель может получать такой доход, но неясно, нужно ли для этого обращать взыскание на предмет залога. В банкротстве доход от использования также обременяется залогом, а его реализация подчиняется тем же правилам, что и реализация заложенных требований.
Ключевые слова: доход от использования, залог требования, залог денежных средств, несостоятельность (банкротство)
177

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Pavel Praviaschii
Counselor at the Head Executive Directorate of Corporate Management and Legal Support of Bank Uralsib
Proceeds from the Use of Pledged Property:
a Review of the Practice of Applying Clause 2 of Article 334 of the Civil Code of the Russian Federation
A pledge covers proceeds from the use of the pledged property by a third party, which equals to the pledge of receivables from such a party. The pledgee may receive such proceeds but it is not clear whether this requires a pledge to be enforced. In bankruptcy, proceeds from use are also encumbered, and enforcement thereof is subject to the same rules as enforcement of the pledge of receivables.
Keywords: pledged receivables, pledge of monies, insolvency (bankruptcy)
Вп. 2 ст. 334 ГК РФ установлено правило, согласно которому залогодержатель преимущественно перед другими кредиторами залогодателя вправе получить удовлетворение обеспеченного залогом требования за счет, в частности, причитающихся залогодателю или залогодержателю доходов от использования заложенного имущества третьими лицами. Например, банк, обладающий правом ипотеки на нежилое помещение, вправе получить преимущественное удовлетворение обеспеченного обязательства за счет дохода залогодателя от сдачи этого помещения в аренду.
В ходе применения этой нормы практика арбитражных судов столкнулась с рядом вопросов, и некоторые из них на сегодня еще не получили однозначного ответа.
Понятие дохода от использования заложенного имущества
Обращает на себя внимание формулировка абз. 4 п. 2 ст. 334 ГК РФ «доходы от использования заложенного имущества третьими лицами». Залогодатель может использовать заложенное имущество самостоятельно, а может на возмездной основе предоставить его во владение и пользование третьему лицу. В первом случае доход будет поступать не от использования имущества, а, скорее, от деятельности залогодателя, потому в абз. 4 п. 2 ст. 334 ГК РФ уточняется, что речь идет об использовании имущества третьими лицами. Во втором случае самым распространенным доходом залогодателя будет арендная плата (ст. 614 ГК РФ).
Можно сказать, что арендная плата за тот или иной период переживает два этапа юридического развития: сначала у залогодателя возникает право требовать арендную плату, а в результате исполнения это право превращается в денежные средства на счете залогодателя. Соответственно, на первом этапе в силу п. 2 ст. 334 ГК РФ залог обременяет требование к арендатору. Этим, в частности, объясняется
178

Обзор практики
абз. 6 п. 2 ст. 334 ГК РФ, согласно которому залогодержатель вправе самостоятельно потребовать от арендатора арендную плату — такое же право может быть предоставлено при залоге требования (абз. 2 п. 1 ст. 358.6 ГК РФ). При этом на денежные средства по заложенному требованию, если они поступили не на залоговый счет, залог не распространяется, что было разъяснено в определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 17.10.2016 № 305-ЭС16-7885 (далее — определение от 17.10.2016). Таким образом, в отсутствие залогового счета правило п. 2 ст. 334 ГК РФ о распространении залога на доход от использования имущества сводится к тому, что залогом обременяется требование к арендатору.
Столкнувшись с данной проблемой, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отметил:
«По смыслу действующего законодательства денежные средства сами по себе не могут быть предметом залога (только через право требования к третьему лицу, либо как права по договору банковского счета/вклада).
Учитывая, что требование о получении возмещения за счет доходов, причитающихся залогодателю, направлено на будущее время, а также учитывая, что до момента их получения доходы от эксплуатации переданного в залог имущества в собственности залогодателя не находятся, речь по существу идет об обращении взыскания на имущественные права залогодателя (право на получение дохода)»1.
В этом деле залогодатель помещения сдал его в аренду за 10 тыс. руб. в месяц, арендатор же сдал помещение в субаренду на гораздо более выгодных условиях — за 292 тыс. руб. в месяц. Залогодержатель утверждал, что имеет преимущество в отношении субарендой платы, и полагал, что она также считается доходом от использования имущества. Однако суды посчитали утверждение залогодержателя ошибочным: «Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции указал, что доходы, получаемые от последующей сдачи имущества в субаренду, не являются доходом залогодателя… а относятся к доходам субарендодателя. Вместе с тем между лицом, получающим доход от сдачи имущества в субаренду… и истцом… залоговые правоотношения отсутствуют, в силу чего истец не имеет права на удовлетворение своих требований в соответствии с п. 2 ст. 334 ГК РФ из указанных доходов»2.
С учетом того, что в п. 2 ст. 334 ГК РФ речь идет о доходах залогодателя, истец действительно мог претендовать лишь на арендную плату, которая причиталась залогодателю. Тем не менее разница между арендной и субарендной платой в данном деле провоцирует подозрение, что заключенные договоры содержат признаки притворных сделок (п. 2 ст. 170 ГК РФ), совершенных с целью скрыть действительный размер арендной платы.
Также доходом от использования заложенного имущества являются лизинговые платежи, когда предмет залога передан залогодателем в лизинг. В п. 10 постанов-
1Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2015 по делу № А474458/2015 (оставлено в силе постановлением АС Уральского округа от 25.04.2016 по тому же делу).
2Там же.
179

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
ления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» содержится разъяснение, полностью соответствующее п. 2 ст. 334 ГК РФ: «До момента полного исполнения лизингополучателем обязательств по уплате лизинговых платежей заложенными по договору залога имущества, являющегося предметом лизинга, считаются требования лизингодателя к лизингополучателю об уплате лизинговых платежей».
Денежные средства по заложенному требованию
Залог не распространяется на денежные средства, поступившие по заложенному требованию на счет залогодателя, если, конечно, этот счет не является залоговым. Данная правовая позиция ВС РФ уже подвергалась критическому анализу3, потому остановимся на том, как она применяется нижестоящими судами.
Арбитражный суд Дальневосточного округа в постановлении от 26.12.2016 по делу № А73-7519/2012 цитирует определение от 17.10.2016 и добавляет: «Исходя из приведенных норм права, действующих в настоящее время, при исполнении по заложенному требованию в денежной форме полученные залогодателем средства не обременяются автоматически залогом (как это происходит с остальным имуществом), но должны быть зачислены на залоговый счет залогодателя, права по которому становятся новым залоговым объектом».
Похожие рассуждения встречаются в практике Северо-Западного округа: «Соотношение норм статей 334, 358.6 и 345 ГК РФ изложено в Определении Верховного Суда РФ от 17.10.2016 № 305-ЭС16-7885, согласно которому принцип трансформации и эластичности залога не действует при исполнении денежного обязательства, права по которому заложены (п. 2 ст. 345 ГК РФ), залог безналичных денег невозможен, возможен залог прав по договору банковского счета, но права по договору банковского счета могут быть предметом залога лишь при условии открытия залогового счета, если банк открывает специальный залоговый счет, то он становится залоговым кредитором в отношении зачисленных на такой счет денег, в обратном случае у банка не возникает каких-либо преимуществ перед другими кредиторами залогодателя»4.
Те же выводы содержат судебные акты Московского5 и Западно-Сибирского округов6. Иными словами, правовая позиция ВС РФ безоговорочно применяется нижестоящими судами.
3См.: Бевзенко Р.С., Ястржембский И.А. Ускользнувшая ценность. Комментарий к определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 17.10.2016 № 305-ЭС16-7885 // Вестник экономического правосудия РФ. 2016. № 12. С. 4–16.
4Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2017 по делу № А5670289/2015/тр.18.
5См.: постановление АС Московского округа от 28.11.2017 по делу № А40-13337/2017.
6См.: постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2017 по делу № А469018/2016 (оставлено без изменения постановлением АС Западно-Сибирского округа от 04.10.2017).
180

Обзор практики
Здесь мы приводим только те судебные акты, в которых арбитражные суды затронули вопрос соотношения п. 2 ст. 334 и подп. 3 п. 2 ст. 345 ГК РФ. Остальные судебные акты содержат ссылку на определение от 17.10.2016 в ситуации банкротства залогодателя, а потому рассмотрены отдельно.
Взыскание дохода в пользу залогодержателя
Как отмечено выше, залог на доход от использования заложенного имущества сводится к залогу требования к арендатору. В связи с этим в судебной практике возник вопрос о том, как п. 2 ст. 334 ГК РФ соотносится с нормами об обращении взыскания и реализации предмета залога. В частности, абз. 6 п. 2 ст. 334 ГК РФ позволяет залогодержателю потребовать причитающуюся сумму непосредственно от арендатора. Это право может быть предоставлено залогодержателю любого обязательственного требования (абз. 2 п. 1 ст. 358.6 ГК РФ). Однако неясно, нужно ли для этого пройти процедуру обращения взыскания на предмет залога. Данный вопрос затронул Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в уже упоминавшемся деле: «Таким образом, по мнению судебной коллегии, защита прав залогодержателя в рамках полномочий, предоставленных ему п. 2 ст. 334 ГК РФ, может быть произведена путем обращения взыскания на принадлежащие залогодателю имущественные права (здесь и далее в цитатах курсив наш. — П.П.).
Ответчиком по иску об обращении взыскания на заложенное имущество является залогодатель. Требований об обращении взыскания на имущественные права… [залогодателя] недвижимого имущества, на доход от использования которого претендует истец, последним в суд не предъявлено.
Декларированное в абз. 6 п. 2 ст. 334 Гражданского кодекса, право залогодержателя требовать причитающуюся ему денежную сумму непосредственно от обязанного лица, не влечет возникновения у данного лица статуса залогодателя и не свидетельствует о возможности привлечения его в качестве ответчика по требованиям залогодержателя, вытекающим из полномочий, регламентированных нормой п. 2 ст. 334 ГК РФ»7.
В этом деле ПАО «Сбербанк России» предъявил иск к арендатору и субарендатору об обязании ежемесячно перечислять истцу суммы арендной платы. Суд заключил, что единственный доступный залогодержателю способ удовлетворить свои претензии за счет дохода от использования имущества — это обратить взыскание на требование к арендатору. При этом истец об обращении взыскания не просил, а потому суд сделал категоричный вывод, что установленное в абз. 6 п. 2 ст. 334 ГК РФ право залогодержателя потребовать плату от арендатора «не свидетельствует о возможности привлечения его в качестве ответчика». Но при таком подходе без исковой защиты рискует остаться требование любого залогодержателя, который требует исполнения непосредственно от должника (абз. 2 п. 1 ст. 358.6 ГК РФ).
7Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2015 по делу № А474458/2015.
181

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
В другом деле Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа допустил взыскание платы за аренду транспортных средств в пользу залогодержателя, который заранее обратил на них взыскание: «В силу статьи 348 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает, залогодержатель для удовлетворения своих требований может обратить взыскание на заложенное имущество.
Таким образом, способом реализации полномочий залогодержателя на получение возмещения из стоимости заложенного имущества, в том числе за счет причитающихся залогодателю или залогодержателю доходов от использования заложенного имущества третьими лицами, является обращение взыскания на такое имущество либо доходы.
Следовательно, руководствуясь положениями вышеназванных норм действующего законодательства, суды пришли к правильному выводу о том, что истец как залогодержатель вправе предъявить арендатору залогового имущества… требование о возмещении стоимости залогового имущества путем взыскания дохода в виде суммы арендных платежей по договору аренды, заключенному между залогодателем (арендодателем) и арендатором»8.
В обоих делах право залогодержателя, установленное в абз. 6 п. 2 ст. 334 ГК РФ, было обусловлено обращением взыскания на предмет залога. Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, судя по ссылке на ст. 348 ГК РФ и следующему за ней выводу, удовлетворил иск только потому, что залогодержатель предварительно обратил взыскание на предметы залога. Не очевидно, следовало ли для удовлетворения иска обратить взыскание на требования к арендатору транспортных средств или на сами транспортные средства. По обстоятельствам дела видно, что залогодержатель обратил взыскание именно на транспортные средства.
Таким образом, арбитражные суды, по крайней мере в указанных округах, исходят из того, что абз. 6 п. 2 ст. 334 ГК РФ не подлежит применению, если залогодержатель предварительно не обратил взыскание на предмет залога9. Казалось бы, выводы судов обоснованны — требование к арендатору становится предметом залога, а потому для получения удовлетворения за счет его стоимости залогодержателю следует обратить на него взыскание. Но с ними все же нельзя согласиться.
В абз. 6 п. 2 ст. 334, а равно в абз. 2 п. 1 ст. 358.6 ГК РФ, который содержит схожее правило для всех обязательственных требований, законодатель не упомянул, что для получения исполнения нужно предварительно обратить взыскание на предмет залога. Но главное возражение заключается в том, что процедура обращения взыскания лишает перечисленные нормы эффективности. Пока залогодержатель проходит эту процедуру, платежеспособный должник направит исполнение залогодателю, а неплатежеспособный — подготовится к банкротству.
8Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 29.02.2016 по делу № А58-2391/2015 (оставлено в силе определением ВС РФ от 06.06.2016 № 302-ЭС16-5192).
9Подтверждение этого вывода обнаруживается в постановлении АС Московского округа от 12.05.2017 по делу № А41-45688/16, оставленном в силе определением ВС РФ от 25.08.2017 № 305-ЭС17-11122.
182

Обзор практики
В двух упомянутых судебных актах суды, вероятно, решили, что для взыскания арендной платы в пользу залогодержателя требуется установить не только задолженность по договору аренды, но и основание для обращения взыскания — неисполнение обеспеченного обязательства. К примеру, в деле, которое было рассмотрено Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа, залогодержатель до предъявления иска к арендатору уже обратил взыскание на предмет залога, а значит, суду оставалось лишь установить задолженность по договору аренды. В другом деле взыскание на предмет залога не обращалось, а потому суд должен был подтвердить и право залогодержателя обратить взыскание, и задолженность арендатора. Вместо этого суд отказал залогодержателю в защите, так как не обнаружил в иске требования об обращении взыскания.
Противоположное решение принял Четвертый апелляционный суд в постановлении от 31.05.2017 по делу № А19-14967/2016, где залогодержатель помещения предъявил иск к арендатору «об обращении взыскания в счет погашения задолженности по кредитным договорам… на арендные платежи по договору аренды недвижимого имущества (нежилых помещений)», а обращение взыскания просил осуществить путем перечисления арендной платы на свой счет. Суд удовлетворил требования в полном объеме10. При этом было подробно исследовано и подтверждено основание для обращения взыскания, в том числе размер долга и период просрочки по обеспеченному обязательству. Интересно, что залогодатель помещения участвовал в деле в качестве третьего лица, а не ответчика. В таком статусе залогодатель не может, например, заявить об истечении исковой давности по требованию об обращении взыскания. Кроме того, арендатор едва ли мог поспорить о правоотношении между залогодателем и залогодержателем, так как не является его стороной.
Также иск залогодержателя к должнику по заложенному требованию был признан обоснованным в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.12.2016 по делу № А32-21591/2015, но, в отличие от предыдущего дела, основание для обращения взыскания вовсе не исследовалось.
Очевидно, что в применении абз. 6 п. 2 ст. 334 или абз. 2 п. 1 ст. 358.6 ГК РФ определенность пока не достигнута. Судебной практике еще предстоит решить, допустить ли присуждение по заложенному требованию в пользу залогодержателя независимо от обращения взыскания на предмет залога или требовать от залогодержателя сперва обратить взыскание, понимая при этом, что после завершения данной процедуры заложенное требование, скорее всего, будет утрачено.
Как видно, некоторые суды перед тем, как удовлетворить иск залогодержателя к должнику по заложенному требованию, выясняют, имеется ли у залогодержателя основание для обращения взыскания. Не следует ли должнику, который готов платить добровольно, сначала задуматься о том же?
Ни абз. 6 п. 2 ст. 334, ни абз. 2 п. 1 ст. 358.6 ГК РФ не требует от должника выяснять основание для обращения взыскания. Должник, как и в случае с уступкой
10См. также: постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.03.2016 по делу № А06-7076/2015.
183

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
требования, должен полагаться исключительно на уведомление. Хотя в данном случае уведомление будет сообщать не об уступке, а о праве залогодержателя потребовать платеж в свою пользу. Иначе считает Арбитражный суд Северо-Запад- ного округа, который в постановлении от 11.07.2016 по делу № А56-24079/2015 пришел к выводу, что установление права залогодержателя потребовать платеж от должника по заложенному требованию есть не что иное, как уступка этого требования: «Между Банком (залогодержателем) и ООО «ПЛК» (залогодателем) в обеспечение обязательств последнего по кредитным договорам заключены договоры залога прав (прав получения лизинговых платежей)… (далее — договоры залога прав), в соответствии с которыми Банк как залогодержатель вправе получить от лизингополучателя при условии его уведомления об этом лизинговые платежи (пункты 2.3.7).
Согласно пункту 2.3.8 договоров залога прав в случае отказа залогодателя уступить предмет залога залогодержателю или третьему лицу залогодержатель вправе требовать перевода предмета залога на себя в судебном порядке или на основании исполнительной надписи нотариуса.
ООО «ПЛК» уведомило ООО «ИнтерАвто+» о передаче права получения лизинговых платежей Банку в обеспечение обязательств по кредитным договорам и предложило лизингополучателю при условии получения требования Банка перечислять ему лизинговые платежи (уведомления от 17.09.2014). 19.09.2014 Банк направил уведомления ООО «ПЛК» и ООО «ИнтерАвто+» о перечислении Банку лизинговых платежей по договорам лизинга.
Таким образом, состоялась основанная на законе и договоре уступка права требования получения лизинговых платежей по договорам лизинга»11.
Эта позиция не согласуется со ст. 358.8 ГК РФ, где закреплены порядок и способы реализации заложенного требования. Кроме того, уведомление по правилам ст. 385 ГК РФ само по себе не означает, что установление права залогодержателя потребовать исполнения от должника означает уступку заложенного требования.
Действие во времени
Статья 334 ГК РФ была введена в действие Федеральным законом от 21.12.2013
№367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (далее — Закон
№367-ФЗ). В п. 1 ст. 3 этого Закона сказано, что его положения вступили в силу с 01.07.2014. Согласно п. 3 той же статьи положения ГК РФ в новой редакции подлежат применению к правоотношениям, возникшим после указанной даты.
11Постановление оставлено в силе определением ВС РФ от 18.10.2016 № 307-ЭС16-13492. См. также: постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2017 по делу № А6036526/2016; Десятого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2017 по делу № А41-47775/16.
184

Обзор практики
Из приведенных норм прямо не следует, какая редакция ст. 334 ГК РФ подлежит применению, если договор залога был заключен до 01.07.2014, а права залогодателя на арендные платежи возникли после этой даты. Однако ответ вытекает из п. 2 ст. 422 ГК РФ: «Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров».
Влитературе отмечается, что «при применении п. 2 ст. 422 ГК РФ в отношении диспозитивных норм, если при заключении договора стороны от них не отступили, применим общий принцип, т.е. при последующем изменении диспозитивной нормы к отношениям сторон применяется диспозитивная норма, действовавшая на момент заключения договора. Иное может быть предусмотрено законом»12.
ВЗаконе № 367-ФЗ не установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. Потому к отношениям из договора залога, заключенного до 01.07.2014, подлежат применению положения ГК РФ в ранее действовавшей редакции, которая не распространяла право залога на доход от использования заложенного имущества. Аналогичный вывод неоднократно подтверждался в отказных определениях ВС РФ13.
Также судебная практика задалась вопросом, зависит ли выбор редакции ГК РФ, которая подлежит применению, от даты заключения договора аренды заложенного имущества. Некоторые суды пришли к выводу, что зависит14. Например, в деле
№А28-15767/2013 договор залога был заключен до 01.07.2014, а договор аренды — после указанной даты. Суды первой и апелляционной инстанций верно определили действие ст. 334 ГК РФ, исходя из даты заключения договора залога. Арбитражный суд Волго-Вятского округа с ними не согласился и указал, что во внимание следует принимать именно дату заключения договора аренды. Однако суд не учел, что п. 2 ст. 334 ГК РФ регулирует отношения между залогодателем и залогодержателем, а не отношения из договора аренды. Право залога на доход от использования имущества или, выражаясь точнее, на требование к арендатору возникает из договора залога. Соответственно, при выборе редакции ГК РФ определяющую роль играет дата, когда возникло залоговое правоотношение. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ согласилась с таким выводом и окончательно разрешила данный вопрос в определениях от 20.11.2017 № 306-ЭС17-9235 по делу
№А49-2992/2014 и от 20.11.2017 № 301-ЭС17-9716 по делу № А79-8466/2015: «Договор ипотеки заключен 01.06.2012, при этом распространение права залога на по-
12Новоселова Л.А. О сфере действия статьи 422 Гражданского кодекса // Гражданское право современной России / сост. О.М. Козырь и А.Л. Маковский. М., 2008. С. 142–155.
13См.: определения ВС РФ от 07.11.2017 № 307-ЭС17-15889 по делу № А21-3107/2015, от 20.10.2017
№307-ЭС17-14727 по делу № А66-1797/2014, от 20.10.2017 № 304-ЭС17-14702 по делу № А45-1804/2014, от 09.10.2017 № 309-ЭС16-15458 (4) по делу № А71-4314/2015, от 18.08.2017 № 306-ЭС17-10388 по делу
№А57-20635/2012, от 31.07.2017 № 309-ЭС16-6581 (2) по делу № А71-12002/2014, от 07.07.2017 № 304- ЭС17-8290 по делу № А45-14572/2014, от 07.07.2017 № 302-ЭС17-8226 по делу № А58-3431/2014.
14См.: определение ВС РФ от 12.12.2016 № 301-ЭС16-16017 и постановление АС Волго-Вятского округа от 28.07.2016 по делу № А28-15767/2013.
185

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
лученные в результате использования заложенного имущества доходы (абзац второй пункта 1 статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции до вступления в силу Закона № 367-ФЗ) названный договор не предусматривает, что сторонами не оспаривается. Учитывая момент возникновения залоговых правоотношений, положения статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Закона № 367-ФЗ в данном случае неприменимы, при этом дата заключения договоров аренды заложенного имущества значения не имеет».
Доход от использования заложенного имущества в банкротстве залогодателя
Преимущество, предоставленное залогодержателю п. 2 ст. 334 ГК РФ, должно увеличить его шансы на удовлетворение обеспеченного обязательства. Но он едва ли сразу воспользуется своим преимуществом — незапланированное изъятие дохода может крайне негативно отразиться на финансовом положении должника и его группы компаний. Скорее всего, он воздержится от изъятия арендного дохода до тех пор, пока рассчитывает на ординарное погашение кредита, в том числе когда финансовые трудности должника носят временный характер. В ином случае должник, а с ним, как правило, и залогодатель будут подвергнуты процедуре банкротства, где положения п. 2 ст. 334 ГК РФ приобретут для залогодержателя особую значимость.
Однако, по мнению Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, п. 2 ст. 334 ГК РФ противоречит Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве), а предоставление банку преимущества в отношении арендного дохода приведет к причинению убытков должнику и иным кредиторам, нарушению порядка очередности15. Верховный Суд РФ не посчитал нужным отменять судебные акты, содержащие такие выводы16. Арбитражный суд Дальневосточного округа также отметил, что очередность удовлетворения кредиторов в банкротстве регулируется специальным законом, вследствие чего п. 2 ст. 334 ГК РФ не подлежит применению, а доходы от сдачи имущества в аренду поступают в конкурсную массу залогодателя и подлежат распределению в общем порядке без предоставления преимущества залогодержателю17. Аналогичная судебная практика встретилась нам в Северо-Западном18 и Московском19 округах.
15См.: постановления АС Западно-Сибирского округа от 03.04.2017 по делу № А45-14572/2014 и от 23.03.2016 по делу № А45-11674/2013.
16См.: определения ВС РФ от 13.09.2016 № 304-ЭС16-7663 по делу № А45-11674/2013 и от 07.07.2017 № 304-ЭС17-8290 по делу № А45-14572/2014.
17См.: постановление АС Дальневосточного округа от 15.11.2016 по делу № А73-822/2013.
18См.: постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2016 по делу № А0512422/2012 (оставлено в силе постановлением АС Северо-Западного округа от 21.11.2016 по тому же делу).
19См.: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2016 по делу № А40-146299/13.
186

Обзор практики
Суды не применили п. 2 ст. 334 ГК РФ, исходя из того, что вопросы очередности удовлетворения кредиторов в банкротстве устанавливаются специальным законом — Законом о банкротстве. В нем сказано, что залоговый кредитор удовлетворяется исключительно за счет доходов от реализации предмета залога. Иной источник, а равно иные правила удовлетворения залогового кредитора Законом о банкротстве не установлены. При этом платежи за пользование предметом залога не относятся к доходу от его реализации. В связи с этим суды пришли к выводу, что платежи арендатора должны включаться в состав конкурсной массы (ст. 131 Закона о банкротстве), а затем распределяться в порядке очередности, несмотря на п. 2 ст. 334 ГК РФ. Другими словами, суды обнаружили коллизию между п. 2 ст. 334 ГК РФ и Законом о банкротстве и при ее разрешении отдали предпочтение последнему. Отсюда последовал вывод, что перечисление арендного дохода залогодержателю в банкротстве залогодателя нарушает очередность. В результате залогодержатель оказался лишен преимущества, которое предоставлено ему п. 2 ст. 334 ГК РФ.
Попробуем сначала разобраться, существует ли коллизия между п. 2 ст. 334 ГК РФ и Законом о банкротстве. ГК РФ устанавливает основание возникновения права залога на объект, который называется «доход от использования заложенного имущества». Как мы выяснили, фактически этот объект сводится к требованию залогодателя к арендатору. В свою очередь, Закон о банкротстве не определяет, что является, а что не является предметом залога, а лишь закрепляет порядок удовлетворения требований за счет его стоимости. Положения ГК РФ продолжают действовать, а залогодержатель сохраняет право залога, даже когда в Законе о банкротстве не удается обнаружить подходящий порядок реализации заложенного предмета. Мы полагаем, что сферы регулирования п. 2 ст. 334 ГК РФ и Закона о банкротстве не пересекаются, а потому коллизия между ними не возникает. Соответственно, в указанных выше делах судам следовало заключить, что залогодержатель не утрачивает право залога на требование к арендатору.
К такому выводу пришли суды в Уральском, Волго-Вятском, Северо-Кавказском и Поволжском округах, где возобладала правовая позиция о допустимости применения п. 2 ст. 334 ГК РФ в банкротстве залогодателя. В постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 10.03.2016 № Ф01-64/2016 по делу № А392166/2012, которое было оставлено в силе определением ВС РФ от 08.07.2016 № 301-ЭС15-10137 (2, 3), эта позиция изложена следующим образом: «В данном случае нормы Закона о банкротстве являются специальными по отношению к общим нормам гражданского законодательства, регулирующим общие положения о залоге.
Если отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (пункт 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Закон о банкротстве не содержит норм, устанавливающих порядок распределения денежных средств, поступающих в конкурсную массу должника от сдачи в аренду залогового имущества, поэтому в силу пункта 1 статьи 6 Гражданского кодекса
187

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Российской Федерации по аналогии закона подлежит применению пункт 2 статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации»20.
Некоторые суды также допустили применение п. 2 ст. 334 ГК РФ в банкротстве залогодателя, хотя и отказали в иске залогодержателю, поскольку к отношениям сторон по делу подлежала применению предыдущая редакция ГК РФ21.
В перечисленных делах суды подтвердили, что залогодержатель имеет право залога на доход от использования заложенного имущества. Но когда в Законе о банкротстве не удалось обнаружить нормы о распределении такого дохода, суды пришли к неожиданному выводу. Нормы Закона о банкротстве являются специальными по отношению к общим нормам ГК РФ, а потому п. 2 ст. 334 ГК РФ не подлежит прямому применению. В то же время Закон о банкротстве содержит пробел, который следует восполнить посредством применения п. 2 ст. 334 ГК РФ по аналогии закона (п. 2 ст. 6 ГК РФ).
Действительно, Закон о банкротстве не содержит норм о том, как в банкротстве залогодателя распределять платежи от арендатора заложенного имущества. В нем также отсутствуют правила на случай, когда в конкурсную массу поступили платежи по заложенному денежному требованию. Правда, п. 2 ст. 334 ГК РФ подобных правил тоже не устанавливает, а потому его применение по аналогии не поможет устранить пробел. Интересно, что в приведенных делах суды не приняли во внимание главного — Верховный Суд РФ уже восполнил указанный пробел в определении от 17.10.2016.
Выше мы отмечали, что арендный доход в отсутствие залогового счета существует в форме требования к арендатору. В силу п. 2 ст. 334 ГК РФ такое требование возникает в конкурсной массе залогодателя уже обремененным. Остается лишь использовать его стоимость для удовлетворения залогового кредитора, причем для этого вполне подойдет порядок реализации заложенных требований. Между тем Закон о банкротстве не содержит специального порядка на этот случай, поэтому ВС РФ сформулировал следующую правовую позицию: «Таким образом, в отсутствие залогового счета и определений об обращении взыскания, предусмотренных пунктом 2 статьи 18.1 Закона о банкротстве, с момента установления залогового требования в процедуре конкурсного производства (и, соответственно, с момента открытия конкурсного производства для залоговых требований, установленных в предшествующих процедурах) залоговый кредитор вправе претендовать на преимущественное получение предоставленного контрагентом должника денежного исполнения по заложенному требованию. Поэтому с названного момента конкурсный управляющий как лицо, осуществляющее исполнение судебно-
20Тождественное обоснование использовано в постановлениях АС Волго-Вятского округа от 28.07.2016 по делу № А28-15767/2013 (оставлено в силе определением ВС РФ от 12.12.2016 № 301-ЭС16-16017), от 04.07.2017 по делу № А43-7265/2016 (оставлено в силе определением ВС РФ от 20.10.2017 № 301-ЭС17- 16062); АС Поволжского округа от 25.04.2017 по делу № А49-2992/2014 (оставлено в силе определением ВС РФ от 02.10.2017 № 306-ЭС17-9235); АС Северо-Кавказского округа от 08.08.2017 по делу № А252030/2014.
21См.: постановления АС Уральского округа от 27.10.2016 по делу № А60-49812/2014, от 06.12.2016 по делу № А60-17583/2015, от 31.03.2017 по делу № А71-12002/2014, от 27.01.2017 по делу № А47-3560/2015; АС Поволжского округа от 11.05.2017 по делу № А55-9814/2014.
188

Обзор практики
го акта об обращении взыскания на заложенное требование, обязан открыть специальный банковский счет должника, указанный в статье 138 Закона о банкротстве, для аккумулирования как денежных платежей по заложенному требованию, поступивших после открытия конкурсного производства, так и выручки от реализации заложенного требования (при его продаже в конкурсном производстве).
При этом следует учитывать, что общие положения пункта 4 статьи 138 Закона о банкротстве о продаже имущества на торгах должны применяться с учетом особенностей такого объекта залога, как имущественное требование и цели процедуры конкурсного производства, заключающейся в максимальном наполнении конкурсной массы и соразмерном удовлетворении за ее счет требований кредиторов.
Действуя разумно и добросовестно в интересах должника и кредиторов (пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве), конкурсный управляющий как антикризисный менеджер в силу имеющихся у него полномочий и компетенции должен определить стратегию наиболее эффективного обмена на денежный эквивалент поступившего в конкурсную массу требования к контрагентам должника, решив вопрос о целесообразности реализации этого требования на торгах либо прямого истребования дебиторской задолженности (оценив ликвидность требования, размер его дисконтирования при реализации, расходы на подготовку торгов и их проведение, вероятность получения долга напрямую от контрагента, временные и финансовые затраты на такое получение и т.п.). При этом в любом случае поступившие денежные средства подлежат зачислению на специальный банковский счет должника и распределяются по правилам статьи 138 Закона о банкротстве».
Таким образом, ВС РФ установил правила реализации заложенного денежного требования с учетом специфики этого актива22. Теперь с момента установления требования залогодержателя в конкурсном производстве или с момента введения конкурса, если требование было установлено в предыдущей процедуре, конкурсный управляющий обязан открыть специальный счет для получения денег по заложенному требованию, как если бы получение денег по нему являлось реализацией предмета залога. Денежные средства со специального счета распределяются в порядке ст. 138 Закона о банкротстве.
Применительно к п. 2 ст. 334 ГК РФ эта правовая позиция означает, что залогодержатель при поступлении в конкурсную массу платежей от арендатора предмета залога должен получить преимущественное удовлетворение по тем же правилам, что и залогодержатель денежного требования23. В свою очередь, конкурсный управляющий обязан открыть специальный счет для зачисления и аккумулирования поступающих от арендатора платежей, которые впоследствии будут распределены по правилам ст. 138 Закона о банкротстве.
22Эта правовая позиция успешно применяется при реализации денежных требований в банкротстве. См., напр.: постановления АС Дальневосточного округа от 26.12.2016 по делу № А73-7519/2012; АС Западно-Сибирского округа от 04.10.2017 по делу № А29-3170/2015.
23Интересно, что определение от 17.10.2016 успешно используется в банкротстве лизингополучателя, см.: постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2017 по делу № А5670289/2015/тр.18. Однако нам не встретился судебный акт, где суды применили бы это определение при залоге требования к арендатору в банкротстве залогодателя, — в таких случаях обоснование строится на п. 2 ст. 6 ГК РФ.
189

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 6/2018
Что касается платежей по заложенному требованию, которые поступили до введения конкурса, то преимущество залогодержателя на них не распространяется, кроме случаев, когда они были зачислены на залоговый счет. Из-за этого залог требования в банкротстве залогодателя остается малоэффективным инструментом. Чтобы это исправить, залогодержателю следует требовать от каждого залогодателя недвижимости (иного объекта, способного приносить доход) заключить договор залога прав по договору банковского счета и перечислять доходы от предмета залога на указанный счет (п. 5 ст. 358.9 ГК РФ). Но даже такая подготовка не поможет, если арендатор по какой-либо причине направит платеж не на залоговый, а на любой другой счет залогодателя.
Залогодержателю ничего не остается, кроме как воспользоваться правом на получение арендной платы непосредственно от арендатора (абз. 6 п. 2 ст. 334 ГК РФ)24. Но сохраняется ли оно в банкротстве залогодателя? Суды отвечают на этот вопрос отрицательно, если в отношении залогодателя введена процедура конкурсного производства: «В силу абзаца 7 пункта 1 статьи 126 Закона № 127-ФЗ с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства, при этом все денежные операции в период конкурсного производства должны осуществляться только через расчетный счет должника (статья 133 названного Закона).
Кроме этого, согласно статьям 61.3 и 134 Закона № 127-ФЗ не допускается преимущественное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими, поскольку при этом нарушается установленная законодательством о банкротстве очередность удовлетворения требований»25.
Арбитражный суд Уральского округа запретил залогодержателю пользоваться указанным правом, начиная уже с даты введения процедуры наблюдения26. Правда, в том деле требования залогодержателя были включены в реестр в качестве требований, не обеспеченных залогом, потому получение платежей напрямую от должника по заложенному требованию было признано преимущественным удовлетворением в нарушение Закона о банкротстве. В ином случае — если бы залогодержатель включил требование в реестр в качестве обеспеченного залогом — незаконным преимуществом считался бы не весь платеж должника, а только та его часть, на которую залогодержатель был бы не вправе претендовать согласно ст. 138 Закона о банкротстве.
24Вопрос актуален для залога любого денежного требования, если залогодержатель выговорил себе право, указанное в абз. 2 п. 1 ст. 358.6 ГК РФ.
25Постановления АС Северо-Западного округа от 26.10.2016 по делу № А56-5747/2016 (оставлено в силе определением ВС РФ от 28.02.2017 № 307-ЭС16-21336); АС Северо-Западного округа от 29.03.2016 по делу № А56-44094/2015 (оставлено в силе определением ВС РФ от 15.07.2016 № 307- ЭС16-7377).
26См.: постановление АС Уральского округа от 16.06.2017 по делу № А60-37292/2016.
190

Обзор практики
References
Bevzenko R.S., Yastrzhembskiy I.A. Elusive Value. Case Comment on the Judgment of RF SC No. 305- ЭС16-7885, 17 October 2016 [Uskolznuvshaya tsennost’. Kommentariy k opredeleniyu Sudebnoi kollegii po ekonomicheskim sporam VS RF ot 17.10.2016 No. 305-ЭС16-7885]. The Herald of Economic Justice of the Russian Federation [Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossiiskoi Federatsii]. 2016. No. 12. P. 4–16.
Novoselova L.A. On the Scope of Article 422 of the Civil Code [O sfere deistviya stat’i 422 Grazhdanskogo kodeksa], in: Civil Law of Modern Russia [Grazhdanskoe pravo sovremennoy Rossii]. Moscow, Statut, 2008. P. 142–155.
Information about the author
Pavel Praviaschii — Counselor at the Head Executive Directorate of Corporate Management and Legal Support of Bank Uralsib (e-mail: praviaschii@rambler.ru).
191

ООО «Издательская группа «Закон» Адрес: 121151 г. Москва, ул. Студенческая, д. 15, комн. 1, 2 Тел. (495) 927-01-62







 ВР2ПГ18 от 26.03.2018
ВР2ПГ18 от 26.03.2018
Журнал «Вестник экономического право- |
6 |
800-00 |
4800-00 |
судия Российской Федерации» II полугодие 2018 г.
4800-00
436-38
4800-00
«Вестник экономического правосудия РФ»
II полугодие 2018 г.










 ВР2ПГ18 от 26.03.2018
ВР2ПГ18 от 26.03.2018

Реклама
Более 45 870 пользователей
11 368 юристов
2450 студентов
1207 компаний
Роман
Бевзенко
партнер
компании «Пепеляев Групп»
«Уверен, чторазрешение подавляющегобольшинства спороввполнепоплечу искусственномуинтеллекту»

