
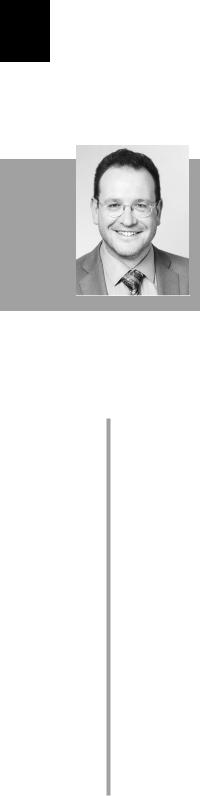
Свободная трибуна
Сергей Александрович Громов
доцент кафедры гражданского права юридического факультета СПбГУ, кандидат юридических наук
Обеспечительная собственность: догматический очерк на примере лизинга
Окончание. Начало читайте в «Вестнике экономического правосудия РФ» № 2 и 3 за 2019 г.
В заключительной части публикации освещаются такие элементы права собственности, как бремя содержания имущества, последствия нарушения запрета его вредоносного использования, возможность отобрания актива в уплату долгов, включая правовой режим актива при банкротстве собственника (кредитора) и пользователя (должника), а также риск случайной гибели вещи.
Бремя содержания имущества переносится с собственника на пользователя, что должно приниматься во внимание не только в отношениях между должником и обеспеченным кредитором, но и в их отношениях с третьими лицами. Кроме того, вред, причиненный обеспечительным активом (когда лицо, обязанное к его возмещению, определяется исходя из принадлежности вещи), должен возмещаться должником.
Обращение взыскания на обеспечительный актив должно допускаться только по долгам собственника, при этом права его должника на владение и пользование имуществом, пока он исправно исполняет обязательства, должны защищаться и против лица, которое приобретет вещь в ходе обращения взыскания. На тех же началах актив должен включаться при банкротстве собственника в его конкурсную массу. При банкротстве должника собственнику следует предоставить возможность изъять имущество, а при уклонении должника от возврата надлежащей процессуальной формой истребования имущества должно быть обычное исковое производство, а не обособленный спор в деле о банкротстве.
Риск случайной гибели или повреждения обеспечительного актива переносится на владеющего имуществом должника: он должен продолжать исполнение обязательств перед собственником (кредитором), несмотря на случайную утрату или порчу вещи.
Ключевые слова: обеспечительная собственность, финансовый лизинг, бремя содержания, конкурсная масса, риск случайной гибели
46

Свободная трибуна
Sergey Gromov
Associate Professor at the Civil Law Department of the Law Faculty of Saint Petersburg State University, PhD in Law
Security Property: A Dogmatic Essay on the Example of Leasing
The final part of the publication covers such elements of ownership right as the burden of property maintenance, the consequences of violating the prohibition to use the property in a harmful manner, the possibility of seizing an asset in the repayment of debts, including the legal status of an asset in case of bankruptcy of the owner (creditor) and user (debtor), as well as the risk of accidental loss of an item.
The burden of property maintenance is transferred from the owner to the user, which must be taken into consideration not only in terms of relations between the debtor and the secured creditor, but also in terms of third-party relations. Moreover, harm done by the security asset (when the person required to compensate is the one to whom the thing belongs) must be compensated by the debtor. Foreclosure on the security asset may only be carried out with regard to the owner’s debts. In such case, the rights of its debtor and the use of the property shall be additionally protected against the person acquiring the items in the foreclosure process, as long as the debtor properly fulfills its obligations. On the same grounds, an asset must be included in the bankruptcy assets should the asset owner goes bankrupt. In case of the debtor’s bankruptcy, the owner should be allowed to seize of the property, and if the debtor refuses to return it, an ordinary proceeding, but not a separate dispute within a bankruptcy case, shall be the proper form of the asset recovery procedure.
The risk of accidental loss or damage to the security asset shall be transferred to the debtor possessing the property: the debtor must continue to fulfill its obligations to the owner (creditor) despite accidental loss or damage to the item.
Keywords: security property, financial leasing, maintenance burden, bankruptcy assets, risk of accidental loss
10. Запрет вредоносного использования и бремя содержания
Правомочия пользования, управления и извлечения доходов, очевидно, ограничены запретом вредоносного употребления имущества и тесно связаны с несением бремени содержания актива. Причем эти два аспекта также тесно связаны друг
сдругом.
10.1.Бремя содержания
Бремя содержания включает несколько составляющих. С одной стороны, установление правила о возложении бремени содержания указывает на имущественную сферу того участника оборота, за счет которого собственник может рассчитывать нести расходы на поддержание вещи в надлежащем состоянии (негативный аспект).
С другой стороны, возложение бремени содержания одновременно может означать также установление обязанности принимать меры по поддержанию актива
47

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
в таком состоянии, в котором оно не будет причинять вреда другим лицам, или даже в более достойном состоянии1, если речь идет о некоторых особо значимых видах имущества (позитивный аспект).
10.1.1. Негативный аспект бремени содержания
Как известно, общее диспозитивное правило заключается в том, что бремя содержания имущества несет его собственник2.
В негативном аспекте это означает, что ни у собственника, ни тем более у коголибо другого нет юридической обязанности содержать имущество, но собственник не вправе ожидать и тем более требовать, чтобы другой участник оборота вместо него нес издержки на содержание имущества, его поддержание в надлежащем состоянии и прочие расходы, связанные с нахождением актива в собственности.
Если собственник уклоняется от несения этих издержек, ему придется мириться с тем, что вследствие небрежения актив износится и окажется непригодным для эксплуатации или вовсе недоступным раньше, чем истечет срок его службы. В такой ситуации собственник не вправе требовать от других участников оборота возмещения потерь, обусловленных повреждением или утратой вещи.
Объяснить такой порядок можно довольно просто: издержки содержания актива должен нести тот участник оборота, который извлекает выгоды из обладания им.
Указанное общее правило может быть изменено законом или договором.
Применительно к лизингу специально предусмотрено, что лизингополучатель за свой счет осуществляет техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт предмета лизинга, обеспечивает его сохранность3. Из общих норм об аренде также следует, что арендатор (лизингополучатель) обязан поддерживать имущество в исправном состоянии и нести расходы на его содержание4.
Кроме того, поскольку существенную часть договоров лизинга составляют договоры лизинга транспортных средств, заслуживают упоминания правила об аренде транспортных средств без экипажа, согласно которым арендатор:
–обязан поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта5;
1Речь идет, например, о культурных ценностях (ст. 240 ГК РФ), животных (ст. 241 ГК РФ), жилых помещениях (ст. 293 ГК РФ). Перечисленные активы крайне редко вовлекаются в оборот в качестве предмета лизинга, хотя законодательство прямо допускает лизинг племенных животных и крупного рогатого скота специализированных мясных пород (абз. 14 ст. 36 Закона о лизинге).
2См.: ст. 210 ГК РФ.
3См.: п. 3 ст. 17 Закона о лизинге.
4См.: п. 2 ст. 616 ГК РФ.
5См.: ст. 644 ГК РФ.
48

Свободная трибуна
–своими силами осуществляет управление арендованным транспортным средством
иего эксплуатацию — как коммерческую, так и техническую6;
–несет расходы на содержание арендованного транспортного средства, его страхование, включая страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией7.
Аналогичное решение предполагается закрепить и в ходе совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности8.
Из определения лизинговых платежей также следует, что затраты лизингодателя, которые связаны с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю и с оказанием других предусмотренных договором услуг (как до начала, так
ив процессе пользования предметом лизинга и непосредственно связанных с реализацией договора), подлежат возмещению лизингополучателем в составе лизинговых платежей9.
Иными словами, в силу указанных норм бремя содержания лизингового имущества полностью перенесено с собственника (лизингодателя) на владельца (лизингополучателя). Более того, это бремя перенесено не только на период действия договора лизинга, но и на время после расторжения договора и изъятия актива до его реализации лизингодателем: в случае досрочного расторжения договора и возврата имущества лизингополучатель несет все расходы, связанные с возвратом, в том числе на демонтаж имущества, страхование и транспортировку10.
В дополнение к перечисленным затратам после расторжения договора и изъятия актива за счет лизингополучателя также должны осуществляться хранение, ремонт и реализация предмета лизинга — расходы лизингодателя на эти операции судебная практика относит к убыткам, подлежащим взысканию с лизингополучателя11.
Эффект перенесения бремени содержания с собственника (в данном случае лизингодателя) на иное лицо (в данном случае лизингополучателя) заключается не только в освобождении собственника от необходимости нести соответствующие издержки. В результате на это лицо уже возлагается юридическая обязанность совершения всех действий, охватываемых бременем содержания, исполнения которой собственник вправе требовать в рамках обязательства, связывающего указанных участников оборота12.
6См.: ст. 645 ГК РФ.
7См.: ст. 646 ГК РФ.
8См.: п. 1 ст. 833³ проекта главы 43¹ ГК РФ.
9См.: абз. 2 п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 28 Закона о лизинге.
10См.: абз. 2 п. 2 ст. 13 Закона о лизинге.
11См.: абз. 2 п. 3.6 постановления № 17.
12См.: п. 1 ст. 307 ГК РФ.
49

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Если лизингополучатель уклонится от совершения таких действий, то у лизингодателя в силу норм общей части обязательственного права есть возможность в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами и потребовать от лизингополучателя возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков13.
Таким образом, те действия, совершение которых для собственника (лизингодателя) составляет содержание негативного аспекта бремени содержания, будучи перенесенными в имущественную сферу должника (лизингополучателя), присоединяются к действиям, образующим позитивный аспект.
10.1.2. Позитивный аспект бремени содержания
Возможность возложения на собственника (в силу самого факта принадлежности ему имущества на праве собственности) позитивных юридических обязанностей подтверждена в ряде правовых позиций КС РФ.
Как указал КС РФ, собственник по общему правилу несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, что предполагает — наряду с необходимостью несения расходов по поддержанию имущества в надлежащем состоянии (капитальный и текущий ремонт, страхование, регистрация, охрана и т.д.) и выполнения других требований, исходящих от уполномоченных законом органов государства и местного самоуправления (по техническому, санитарному осмотру и т.п.), — также обязанность платить установленные законом налоги и сборы14.
Кроме того, в целях защиты таких конституционно значимых ценностей, как здоровье, права и законные интересы других лиц, в том числе в целях предотвращения причинения вреда другим лицам, законодатель вправе, регламентируя содержание права собственности, возложить на собственников дополнительные обязанности и обременения, связанные с обладанием имуществом, с учетом его особых характеристик (например, повышенной опасности для окружающих)15.
Применительно к аренде недвижимости, и в особенности помещений в многоквартирных домах, сложилась своеобразная практика интерпретации эффекта переноса бремени содержания с собственника (арендодателя) на владельца (арендатора). Практика исходит из того, что такой перенос приводит лишь к относительному, а не абсолютному эффекту, который распространяется только на стороны договора аренды и не затрагивает прав и интересов третьих лиц. В частности, в сфере эксплуатации помещений в многоквартирных домах все обязанности перед собственниками других помещений и участниками общей собственности на общее имущество, а также перед организациями, оказывающими
13См.: ст. 397 ГК РФ.
14См.: определение КС РФ от 02.11.2006 № 444-О (абз. 3 п. 3.1 мотивировочной части). См. также: абз. 8 п. 4.2 мотивировочной части постановления КС РФ от 13.03.2008 № 5-П.
15См.: постановления КС РФ от 31.05.2005 № 6-П (абз. 3 п. 2 мотивировочной части); от 12.04.2016 № 10-П (абз. 4 п. 2 мотивировочной части).
50

Свободная трибуна
коммунальные услуги, несет именно собственник вне зависимости от сдачи помещения в аренду16.
Представляется, что такой подход может применяться лишь в указанной сфере в силу специальных предписаний жилищного законодательства17, обусловленных особой социальной значимостью отношений в этой области и имеющих приоритет перед правилом о переносе бремени содержания арендованного имущества с арендодателя на арендатора18.
В отсутствие такого сверхспециального правила перенос бремени содержания и в позитивном аспекте должен иметь абсолютное значение (т.е. приводить к переводу вытекающих из бремени содержания обязанностей перед любыми третьими лицами с собственника на владельца) по меньшей мере при наличии двух факторов:
1)перенос бремени содержания предусмотрен законом;
2)факту заключения договора, с которым закон связывает перенос бремени содержания, в порядке, предусмотренном законом, придана необходимая публичность.
При таких условиях перенос бремени содержания нельзя считать внезапно открывшимся частным произволом отдельных участников оборота, поэтому можно допустить его противопоставимость третьим лицам.
Кроме того, применительно к лизингу такой подход может быть обоснован следующими соображениями:
1)именно лизингополучателю причитаются продукция, плоды и доходы, получаемые в результате использования актива, поэтому и бремя содержания должен нести он;
2)именно лизингополучателю проще и дешевле позаботиться об активе в силу владения им и обладания в подавляющем большинстве случаев предназначенными для этого ресурсами;
3)благодаря внесению сведений о передаче имущества в лизинг в общедоступный информационный ресурс19 каждый может получить сведения о лизингополучателе, в том числе как о субъекте юридической обязанности, вытекающей из позитивного аспекта бремени содержания.
16См.: постановления Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 15222/11, от 21.05.2013 № 13112/12; определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 10.11.2014 № 305-ЭС14-1452, от 11.11.2015 № 305-ЭС15-7462; ответ на вопрос 5 Обзора судебной практики ВС РФ № 2 (2015), утв. Президиумом ВС РФ 26.06.2015.
17См.: ст. 39, 158 ЖК РФ.
18См.: п. 2 ст. 616 ГК РФ.
19Подробнее см.: подраздел 1.5.2 данной публикации (в «Вестнике экономического правосудия РФ» № 2 за 2019 г.).
51

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
В качестве отдельного элемента бремени содержания имущества КС РФ называет необходимость соблюдения регистрационных процедур, связанных с обладанием активом20. Если распространительно интерпретировать эту правовую позицию, в бремя содержания будет включаться не только правоустановительная регистрация, но и административные регистрационные процедуры21. Так, законом может быть предусмотрена необходимость установления особого правового режима для отдельных активов и специальных правил их допуска в эксплуатацию; закон, связывая допуск актива к эксплуатации с его регистрацией и выдачей соответствующих документов, запрещает регистрацию без документа, удостоверяющего соответствие имущества требованиям безопасности22.
Для целей регулирования лизинговой деятельности закон — с учетом непосредственной заинтересованности в эксплуатации актива лизингополучателя, а не лизингодателя — устанавливает весьма гибкие правила, касающиеся таких элементов позитивного аспекта бремени содержания, как обеспечение соответствия обязательным требованиям к эксплуатации имущества и регистрационный режим:
–специальные требования, предъявляемые законодательством к собственнику регистрируемого имущества (авиационной техники, морских и других судов, иного имущества), распространяются на лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению23;
–предметы лизинга, подлежащие регистрации в государственных органах (транспортные средства, оборудование повышенной опасности и другие предметы лизинга), регистрируются по соглашению сторон на имя лизингодателя или лизингополучателя24;
–по соглашению сторон лизингодатель вправе поручить лизингополучателю регистрацию предмета лизинга на имя лизингодателя25.
Кроме того, соглашением сторон договора лизинга может определяться тот участник оборота, который ведет бухгалтерский и налоговый учет лизингового имущества26.
Коль скоро даже выполнение публичных обязанностей, составляющих бремя содержания имущества, в силу закона допускается возлагать на лизингополучателя,
20См.: постановления КС РФ от 22.06.2017 № 16-П (абз. 4 п. 4.1 мотивировочной части); от 03.07.2018 № 28-П (абз. 2 п. 4.2 мотивировочной части).
21См., напр.: Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступает в силу с 04.08.2019).
22См.: постановление КС РФ от 22.04.2011 № 5-П (абз. 4 п. 3 мотивировочной части).
23См.: абз. 2 п. 1 ст. 20 Закона о лизинге.
24См.: п. 2 ст. 20 Закона о лизинге, п. 1 ст. 4 и п. 1 ч. 2 ст. 17 Закона о регистрации транспортных средств.
25См.: п. 3 ст. 20 Закона о лизинге.
26См.: п. 10 ст. 258, подп. 1 п. 2 ст. 259³ НК РФ.
52

Свободная трибуна
представляется тем более допустимым перевод на него частных обязанностей с лизингодателя.
Обратной стороной вопроса об определении обязанного субъекта применительно к обязанностям, составляющим позитивный аспект бремени содержания, является проблема определения субъекта ответственности за их неисполнение и — если рассматривать вопрос шире — за вред, причиненный при эксплуатации лизингового имущества. Эти проблемы напрямую связаны с таким «прутиком», входящим в «пучок прав», образующих право собственности, как запрет вредоносного использования актива.
10.2. Запрет вредоносного использования и ответственность за его нарушение
Запрет вредоносного использования имущества (шире — запрет вредоносного поведения) в равной мере распространяется на всех участников оборота и в этом смысле адресован как собственнику или владельцу имущества, так и всем третьим лицам.
В той мере, в какой он адресован собственнику или законному владельцу актива, этот запрет должен рассматриваться как соразмерное ограничение правомочия пользования имуществом.
10.2.1. Деликтная ответственность
Конвенционное регулирование содержит два основополагающих правила:
1)арендодатель (лизингодатель) освобождается в этом качестве от ответственности в отношении третьих лиц в случае причинения оборудованием вреда их жизни, здоровью или имуществу27;
2)вышеприведенные положения не распространяются на ответственность арендодателя (лизингодателя), выступающего в каком-либо ином качестве, например в качестве собственника28.
С первым из приведенных правил корреспондируют две нормы отечественного деликтного права:
–обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на ином законном основании, включая право аренды29;
27См.: подп. «b» п. 1 ст. 8 Оттавской конвенции.
28См.: подп. «c» п. 1 ст. 8 Оттавской конвенции.
29См.: абз. 2 п. 1 ст. 1079 ГК РФ; абз. 4 ст. 1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».
53

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
–ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендатор в соответствии с правилами об обязательствах вследствие причинения вреда30.
Разъясняя эту норму, высшая судебная инстанция указала, что если транспортное средство передано по договору аренды без предоставления услуг по управлению им и его технической эксплуатации, то причиненный вред подлежит возмещению самим арендатором31.
Поскольку именно лизингополучатель признается владельцем предмета лизинга — источника повышенной опасности (в частности, транспортного средства), то в этом качестве он несет строгую ответственность за причиненный таким источником вред. Аналогичное решение предполагается закрепить и в ходе совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности32.
Данные нормы, в свою очередь, являются исключением из составляющего принцип генерального деликта общего правила о том, что лицо, противоправно и виновно причинившее вред, обязано возместить его потерпевшему в полном объеме33.
В большинстве случаев причинителем вреда при эксплуатации предмета лизинга является лизингополучатель в лице своих работников. В таком случае он отвечает перед потерпевшим по правилам об ответственности работодателя за вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей34.
10.2.2.Негаторные требования
Сучетом сходства функций негаторного и деликтного требований, направленных на восстановление нарушенного положения35, в контексте запрета вредоносного использования актива уместно рассмотреть не только деликтные, но и негаторные требования, связанные с использованием имущества, причиняющим ущерб другим лицам.
В практике сформулирована правовая позиция, согласно которой негаторное требование об устранении препятствий в пользовании имуществом может быть предъ-
30См.: ст. 648 ГК РФ.
31См.: п. 22 постановления Пленума ВС РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина».
32См.: п. 3 ст. 833³ проекта главы 43¹ ГК РФ.
33См.: ст. 1064 ГК РФ. Ср.: ст. VI.-1:101 DCFR.
34См.: ст. 1068 ГК РФ.
35См.: Усачева К.А. Негаторный иск в исторической и сравнительно-правовой перспективе // Вестник гражданского права. 2013. № 6. С. 103–105.
54

Свободная трибуна
явлено арендатору, своими действиями создающему такие препятствия36. Вместе с тем после прекращения аренды и возврата актива собственнику именно последний отвечает перед третьим лицом по негаторному требованию, связанному с результатом действий арендатора, создавших препятствия в реализации другим лицом права собственности на свое имущество37.
Обе эти позиции могут быть экстраполированы и на отношения, возникшие из договора лизинга. Соответственно, в первой из рассмотренных ситуаций негаторное требование может быть предъявлено лизингополучателю, а во втором — (бывшему) лизингодателю.
11. Возможность отобрания вещи в уплату долга
Принцип неприкосновенности собственности38 не является абсолютным. Гражданское законодательство допускает принудительное изъятие у собственника имущества, в частности, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам39.
Эта норма, во-первых, устанавливает одно из условий допустимости принудительного изъятия вещи у собственника, а во-вторых, вводит понятие «обращение взыскания на имущество», содержание которого состоит в изъятии вещи с целью реализации для последующего направления выручки в погашение обязательства.
Особо следует подчеркнуть, что выручка от реализации вещи по общему правилу должна направляться на погашение обязательств именно ее собственника, а не третьих лиц.
Исключения из этой нормы допускаются или в силу договора собственника с кредитором третьего лица (залог40), или в силу прямого признания законодателем собственника ответственным за действия третьего лица (например, ответственность основного хозяйственного товарищества или общества по сделкам дочернего хозяйственного общества41).
В ситуациях, когда титул служит собственнику (кредитору) гарантией реализации его интересов на случай неисправности должника, ничего не должно меняться: нет никаких оснований обращать взыскание на актив по долгам не собственника, а его контрагента.
36См.: п. 4 Обзора судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 153).
37См. п. 5 того же Обзора.
38См.: п. 1 ст. 1 ГК РФ.
39См.: подп. 1 п. 2 ст. 235, п. 1 ст. 237 ГК РФ.
40См.: абз. 2 п. 1 ст. 335 ГК РФ.
41См.: п. 2 ст. 67³ ГК РФ.
55

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
11.1.Исполнительное производство
Входе исполнительного производства в отношении должника — непосредственного владельца актива, принадлежащего собственнику, на такой актив не могут налагаться ограничения: он не может включаться в опись, на него не могут налагаться ни арест42, ни запрет на распоряжение имуществом, в том числе запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества43.
Видеале система регистрации транспортных средств и самоходных машин должна предполагать четкую дифференциацию собственника и отличного от него владельца44, представление органами Госавтоинспекции МВД России и гостехнадзора детализированной информации судебному приставу-исполнителю и тем самым исключать возможность наложения им ограничений на активы, не принадлежащие должнику на праве собственности. На случай незаконного наложения таких ограничений законодательство должно предусматривать упрощенные механизмы (административный порядок) их отмены, а не требующий чрезмерных затрат времени исковой порядок.
До последнего времени практика опиралась на разъяснения высших судебных инстанций, согласно которым:
–споры об освобождении имущества от ареста рассматриваются по правилам искового производства независимо от того, наложен арест в порядке обеспечения иска или в порядке обращения взыскания на имущество должника во исполнение исполнительных документов; ответчиками по таким искам являются должник, у которого произведен арест имущества, и те лица, в интересах которых наложен арест; судебный пристав-исполнитель привлекается к участию в таких делах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора45;
–для рассмотрения требований об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, и об отмене установленного судебным приставом-исполнителем запрета на распоряжение имуществом, в том числе запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества (для лиц, не участвующих в исполнительном производстве), предусмотрен исковой порядок46.
Такой подход возлагал на лизинговые компании чрезмерные издержки в случае наложения ареста или установления запрета на совершение регистрационных дей-
42См.: ст. 80 Закона об исполнительном производстве.
43См.: абз. 2 п. 1 и п. 44 постановления Пленума ВС РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства».
44См.: п. 1 ст. 4 Закона о регистрации транспортных средств.
45См.: п. 51 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
46См.: абз. 2 п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства».
56

Свободная трибуна
ствий в отношении лизингового имущества в ходе исполнительного производства, возбужденного в отношении должника-лизингополучателя. Несовершенство этой системы приводит к тому, что собственнику (кредитору) после расторжения договора и изъятия имущества при выявлении в органах Госавтоинспекции МВД России или гостехнадзора ограничений, наложенных на актив, приходится инициировать множество судебных процессов с целью их отмены. В течение всего времени разбирательств собственник практически лишен возможности реализовать правомочие распоряжения вещью, поскольку правовой режим такого имущества исключает эксплуатацию актива в отсутствие регистрации, что существенно снижает спрос на имущество до отмены ограничений.
Кроме того, реализацию таких вещей с сохранением ограничений покупатели и суды расценивают как нарушение обязанностей продавца, что ведет к удовлетворению требований покупателей о расторжении договоров и (или) о взыскании с продавцов убытков, обусловленных невозможностью использования товара по назначению.
Для подобных ситуаций закон должен указывать на обязанность судебного при- става-исполнителя или руководителя соответствующего подразделения службы судебных приставов отменить постановление о наложении ограничений немедленно по представлении собственником соответствующих доказательств своих прав на актив.
Поэтому следует всячески приветствовать недавно произошедшее изменение в судебной практике, состоящее в признании допустимым оспаривания таких арестов и запрета в порядке административного судопроизводства.
Поддерживая позицию лизинговой компании в данном вопросе, высшая судебная инстанция указала, что требования об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов рассматриваются арбитражными судами в порядке производства по делам, возникающим из публичных отношений47. Постановления, действия (бездействие) судебного пристава-испол- нителя при этом могут быть оспорены в суде как сторонами исполнительного производства (взыскателем и должником), так и иными лицами, которые считают, что нарушены их права и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению ими прав и законных интересов либо на них незаконно возложена какая-либо обязанность48. Следовательно, не исключается возможность оспаривания в суде постановления судебного пристава-исполнителя лицом, не являющимся участником исполнительного производства, права и законные интересы которого нарушены в результате принятия оспариваемого акта, если обратившееся в суд лицо полагает, что действия судебного пристава-исполнителя противоречат предписаниям законодательства об исполнительном производстве.
Наложение ареста и иные действия, совершенные в отношении имущества, не принадлежащего должнику (при отсутствии у судебного пристава-исполнителя
47См.: глава 24 АПК РФ.
48См.: абз. 3 п. 1, п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства».
57

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
сведений, подтверждающих принадлежность имущества должнику), не соответствуют закону.
Признание недействительными постановлений судебного пристава о наложении ареста и применении иных мер запретительного характера в отношении имущества, не принадлежащего должнику, означает отсутствие юридической силы у оспоренных актов и, соответственно, невозможность их применения в исполнительном производстве. Это влечет за собой снятие с имущества незаконно наложенных обременений, ущемляющих права собственника, и исключает возможность обращения взыскания на имущество49.
Правила и разъяснения об исковом порядке разрешения споров касаются ситуаций, когда иск об освобождении имущества от ареста предъявляется в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества50. Посредством предъявления данного иска разрешается вещно-правовой спор между несколькими лицами (истцом, взыскателем и должником), претендующими на имущество (удовлетворение требований за счет его стоимости). Поэтому заинтересованные лица здесь не имеют права на удовлетворение заявления об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя об аресте (описи) этого имущества51.
Между тем в случае, когда спор о гражданских правах относительно вещи, подвергнутой аресту или иным мерам запретительного характера, отсутствует, собственник не может быть лишен возможности требовать отмены постановления судебного пристава-исполнителя в порядке подчиненности52 и (или) оспаривать постановление в суде в порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений53. Иное бы означало ограничение права на судебную защиту54.
Особенно важно, что была констатирована допустимость оспаривания актов судебного пристава в порядке подчиненности, поскольку именно эта процессуальная форма способна обеспечить наиболее оперативную защиту интересов собственника.
Вместе с тем изложенный подход к защите прав собственника не должен позволять должнику — владельцу актива ни передавать в обход исполнительного производства третьему лицу комплекс своих прав и обязанностей (договорную позицию) по действующему договору с собственником, ни избегать обращения взыскания на
49См.: ч. 8 ст. 201 АПК РФ.
50См.: ст. 119 Закона об исполнительном производстве; абз. 2 п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства».
51См.: п. 50 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
52См.: ст. 122–127 Закона об исполнительном производстве.
53См.: ст. 128 Закона об исполнительном производстве.
54См.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 29.06.2018 № 303-КГ18-800.
58

Свободная трибуна
имущество после перехода права собственности на него от кредитора. Регулирование исполнительного производства, а также регистрации транспортных средств и самоходных машин должно допускать на основании специальных норм наложение эффективных ограничений на реализацию распорядительных правомочий должника.
11.2. Проблема расчета сводного сальдо встречных предоставлений по нескольким договорам лизинга
До погашения всех требований собственника (кредитора) к должнику — непосредственному владельцу актива не должны удовлетворяться из стоимости этого имущества требования к должнику иных кредиторов последнего.
Права на выручку от реализации актива принадлежат его собственнику. Именно он может распоряжаться ею до пределов, которые установлены институтом обязательств из неосновательного обогащения. Сам этот институт служит резервным, субсидиарным инструментом исправления экономически необоснованного перемещения благ из имущественной сферы одного лица в имущественную сферу другого на случай, когда ординарных правовых средств для этого оказывается недостаточно.
Пока из выручки от реализации актива удовлетворяется интерес его собственника, вытекающий из отношений с должником (как связанных с договором, по которому этот актив предоставляется, так и не связанных с ним, включая внедоговорные отношения), экономическая логика распределения имущественных благ не нарушается, приобретение или сбережение имущества собственника являются правомерными, а потребность задействовать кондикционные обязательства отсутствует.
Следовательно, в отношении сумм, удерживаемых из стоимости изъятого и реализованного актива в погашение требований собственника (кредитора) к контрагенту (должнику) нет основательных притязаний у должника к собственнику актива, а равно не может быть правомерных ожиданий у других кредиторов такого должника.
Поэтому нельзя признать правильной практику изолированного расчета и взыскания (под предлогом недопустимости зачета) с лизингодателя в пользу лизингополучателя, признанного несостоятельным (банкротом), сальдо встречных предоставлений, образующегося в результате расторжения нескольких договоров лизинга, изъятия и реализации лизингового имущества55, если по одним договорам сальдо складывается в пользу лизингодателя, а по другим — в пользу лизингополучателя56.
55См.: п. 3.2–3.6 постановления № 17.
56См.: определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 02.05.2017 № 305-ЭС16- 20304 и от 14.11.2017 № 306-ЭС17-5704. Чтобы соблюсти объективность, следует отметить, что автор настоящей статьи работает в лизинговой компании, являвшейся стороной второго из двух упомянутых дел, рассмотренных Верховным Судом.
59
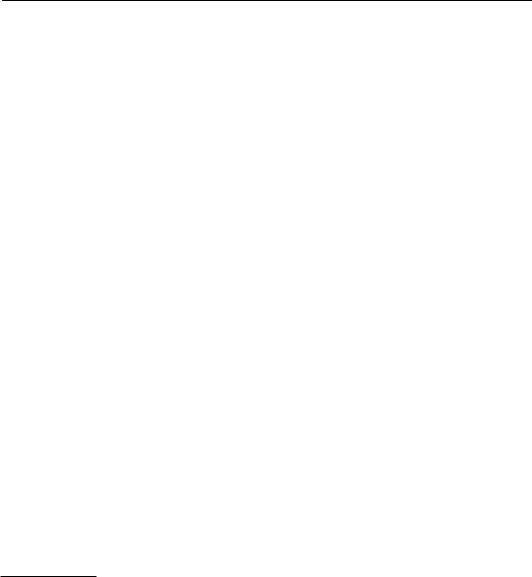
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Такая позиция ВС РФ в отношении сальдо встречных предоставлений по нескольким договорам лизинга приводит к очевидному нарушению защищаемого Конституцией права собственности57 путем изъятия у собственника части стоимости его имущества в погашение обязательств не собственника (лизингодателя), а иного лица (лизингополучателя) перед третьими лицами (кредиторами лизингополучателя).
Сдогматической точки зрения позиция высшей судебной инстанции смотрится тем более спорно, что в последнее время в ее практике грань между зачетом и сальдированием стирается, различные формы сальдирования не признаются зачетом и выводятся из-под действия неразумных правил о зачете (запрет зачета при банкротстве58, запрет зачета после предъявления иска59)60.
Спрагматической точки зрения следует иметь в виду, что при оценке целесообразности предоставления лизингополучателю финансирования путем приобретения для него того или иного актива лизинговые компании оценивают целый ряд факторов. Он включает всю совокупность действующих с данным клиентом договоров, его платежную дисциплину, стабильность финансово-хозяйственной деятельности, наконец, ликвидность всего комплекса имущества — как переданного должнику ранее, так и предполагаемого к передаче по вновь рассматриваемым операциям. Такой подход десятилетиями позволял лизинговым компаниям принимать повышенные риски по сделкам с низколиквидным, но нужным для развития бизнеса клиента имуществом (например, технологическим оборудованием или специализированными самоходными машинами)61, в расчете на излишек ликвидности иных активов (например, легковой или коммерческий автотранспорт), входящих в комплекс имущества, предоставленного в лизинг62.
Опрометчивый подход к расчету сальдо встречных предоставлений — не сводного по всей совокупности заключенных с данным лизингополучателем договоров, а изолированного по каждому договору лизинга в отдельности — не позволит лизинговым компаниям рассчитывать на суммарную ликвидность комплекса предоставленного в лизинг клиенту имущества и заставит строже подходить к защите рисков неисправности должника. В итоге, рассматривая лизинговые заявки на приобретение низколиквидного имущества, кредиторы будут или настаивать
57См.: ст. 35 Конституции РФ.
58См.: абз. 3 п. 8 ст. 142 Закона о банкротстве.
59См.: п. 1 Обзора практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65).
60См.: определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 29.01.2018 № 304-ЭС17- 14946 (включено в п. 19 Обзора судебной практики ВС РФ № 2 (2018), утв. Президиумом ВС РФ 04.07.2018), от 07.08.2018 № 307-ЭС17-23678.
61Не случайно лизинг упоминался в числе инструментов эффективного развития предпринимательской деятельности корпорации наряду с банковским кредитом, публичным размещением акций, облигационным заимствованием, использованием институтов реорганизации, слияния и поглощения в постановлении Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 № 2929/11.
62Подробнее о портфельном подходе см.: подраздел 3.3.4 данной публикации (в «Вестнике экономического правосудия РФ» № 2 за 2019 г.).
60

Свободная трибуна
на получении дополнительного обеспечения как предварительном условии предоставления финансирования, или воздерживаться от оказания финансовых услуг.
Иными словами, данная позиция препятствует максимальному использованию меновой стоимости актива в целях обеспечения исполнения обязательств должника.
Нередко адепты залога и противники титульного обеспечения, сравнивая эти инструменты, указывают на такую возможность в рамках залога (благодаря правилам о последующем залоге) и на ущемление интересов должника при титульном обеспечении в отсутствие аналогичной конструкции.
Между тем, с одной стороны, при таком сравнении, как правило, игнорируется, что в договоры залога по требованию залоговых кредиторов включаются условия (с соблюдением которых должен быть заключен последующий договор залога63), сводящие вероятность последующего залога актива к нулю. Речь идет, например, об обязанности залогодателя сильно заранее (например, за два месяца) уведомить залогового кредитора о намерении заключить последующий договор залога, по получении которого у залогового кредитора возникает право потребовать досрочного исполнения обеспеченных обязательств, а в случае их неисполнения — обратить взыскание на предмет залога. Кроме того, к последующему договору залога в договорной практике предъявляется ряд требований:
–совершение в нотариальной форме;
–возможность заключения такого договора только после заключения между залогодателем, старшим и младшим залогодержателями соглашения о порядке обращения взыскания на предмет залога. Этот порядок (равно как и способы реализации предмета залога) в таком договоре должны быть идентичны порядку обращения взыскания и способам реализации предмета залога, установленным в предшествующем договоре;
–в таком договоре должно быть указано, что порядок обращения взыскания и способ реализации предмета залога выбирает старший залоговый кредитор, а при обращении им взыскания на предмет залога (включая обращение взыскания при досрочном истребовании исполнения обеспеченных обязательств) последующий залогодержатель не вправе требовать от своего должника досрочного исполнения обязательств, обеспеченных последующим залогом.
Как видно, преимущество залога перед титульным обеспечением, заключающееся в возможности полного использования меновой стоимости актива, на поверку оказывается мнимым. Такая возможность в действительности существует лишь в рамках отношений залогодателя с одним залоговым кредитором.
С другой стороны, в использовании такой возможности в отношениях с одним лизингодателем необоснованно ограничивается лизингополучатель в силу освещенной выше практики, исключающей допустимость расчета сводного сальдо встречных предоставлений по нескольким договорам лизинга.
63 |
См.: абз. 2 п. 2 ст. 342 ГК РФ. |
|
61
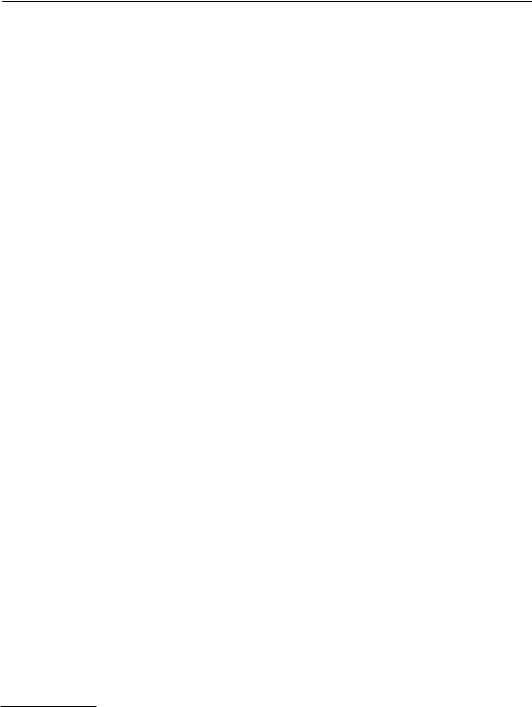
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Таким образом, сформулированная в 2017 г. позиция высшей судебной инстанции лишила активы, находящиеся в собственности лизинговых компаний, полноценного обеспечительного потенциала, что уже оказывает и окажет в дальнейшем дестимулирующее влияние на готовность к инвестированию в обновление основных фондов российских предприятий.
11.3. Правовой режим актива в случае банкротства собственника или должника
Принадлежность актива на праве собственности кредитору, а не должнику (как при залоге) однозначно определяет, в чью конкурсную массу подлежит включению имущество при банкротстве того или иного участника оборота.
11.3.1. Банкротство собственника
При банкротстве собственника актив подлежит включению в его конкурсную массу на общих основаниях — как имущество, принадлежащее участнику оборота, признанному несостоятельным64.
Для несостоятельности обычных лизинговых компаний специальные правила отсутствуют. Для банкротства банков, совершающих лизинговые операции, предусмотрена норма, в силу которой имущество, переданное кредитной организацией по договорам лизинга, может быть выставлено на торги с одновременной уступкой прав требований по таким договорам65.
Аналогичного подхода вполне можно придерживаться и при банкротстве лизингодателя, не являющегося кредитной организацией.
Вместе с тем для защиты интересов лизингополучателя — в продолжение логики права следования66 — установлены правила о том, что взыскания третьих лиц, обращенные на имущество лизингодателя, могут быть отнесены только к данному объекту права собственности лизингодателя в отношении предмета лизинга, т.е., по существу, взыскание обращается на титул собственника как символ комплекса прав и обязанностей лизингодателя. К приобретателю прав лизингодателя в отношении предмета лизинга в результате взыскания переходят не только права, но и обязательства лизингодателя (перед лизингополучателем), определенные в договоре лизинга67.
64См.: п. 1 ст. 131 Закона о банкротстве.
65См.: абз. 2 п. 21 ст. 189 Закона о банкротстве.
66Подробнее см.: подраздел 8.2.1 данной публикации (в «Вестнике экономического правосудия РФ» № 3 за 2019 г.).
67См.: п. 2 ст. 23 Закона о лизинге.
62
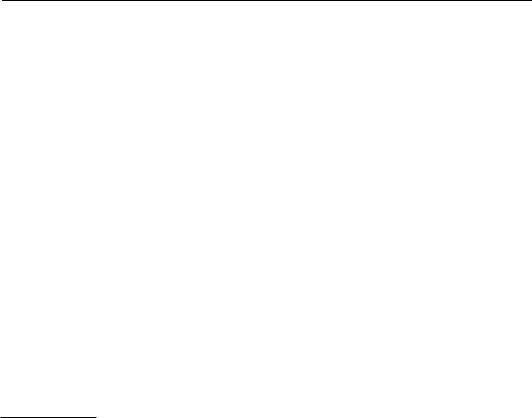
Свободная трибуна
Следовательно, цена, которую можно выручить при продаже такого актива (лизингового имущества, обремененного правами исправного лизингополучателя), не может быть больше дисконтированной суммы будущих лизинговых платежей, уменьшенной также с учетом оценки риска неисправности лизингополучателя
вбудущем68.
11.3.2.Банкротство должника
Национальное регулирование. В проекте Федерального закона «О лизинге», принятом в первом чтении Государственной Думой (№ 96700490-2)69, содержалась норма: «На предмет лизинга, полученный лизингополучателем по договору лизинга и находящийся на балансе лизингополучателя, не может быть обращено взыскание в случае банкротства лизингополучателя или угрозы банкротства»70.
В окончательный текст Закона о лизинге это положение не было включено. Тем не менее в нем (как в первоначальной редакции, так и после внесения множества изменений в 2002 г.71) сохранилась норма, согласно которой на предмет лизинга не может быть обращено взыскание третьего лица по обязательствам лизингополучателя, в том числе в случаях, если предмет лизинга зарегистрирован на его имя72.
Международное регулирование. Приведенное выше правило корреспондирует конвенционной норме о том, что вещные права арендодателя (лизингодателя) на оборудование имеют силу в отношении доверительного собственника при банкрот-
68Подробнее см.: подраздел 8.2.3 данной публикации (в «Вестнике экономического правосудия РФ» № 3 за 2019 г.).
69См.: постановление Государственной Думы от 24.10.1996 № 735-II ГД.
70См.: п. 4 ст. 24 законопроекта.
71См.: Федеральный закон от 29.01.2002 № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О лизинге».
72См.: п. 1 ст. 23 Закона о лизинге. Аналогичная норма содержится и в модельном законодательстве, см.: п. 1 ст. 15 Модельного закона СНГ о лизинге.
В Модельном законе УНИДРУА о лизинге также подчеркивается, что «стороны [договора лизинга] имеют права и средства правовой защиты в отношении... кредиторов сторон, включая управляющего по делам о несостоятельности» (п. «b» ст. 6). В официальном комментарии к нему (http://www.unidroit. org/explanatory-model-law-leasing-2008/russian) разъясняется, что права и средства правовой защиты по договору аренды подлежат принудительному исполнению против интересов приобретателей имущества и против кредиторов сторон, включая управляющего в процедуре банкротства (п. 40). Кроме того, в Модельном законе УНИДРУА о лизинге говорится, что «кредитор арендатора либо лицо, имеющее какое-либо право на земельный участок или движимое имущество, к которому присоединено имущество, действуют, будучи ограниченными правами и средствами правовой защиты сторон договора аренды, и не вправе ограничивать какие-либо права, вытекающие из договора аренды» (п. «а» ст. 8). Этой статьей предусмотрены правила определения действительности прав арендодателя или арендатора, когда кредитор того или другого получает право обращения взыскания или схожее право в отношении сданного в аренду имущества по национальному законодательству, например в силу законов об исполнительном производстве или несостоятельности (п. 48 комментария). По смыслу этой нормы притязания кредитора арендатора ограничиваются правами и средствами правовой защиты, принадлежащим сторонам договора аренды, и не могут умалять права арендодателя в отношении имущества, сданного в аренду (п. 49 комментария).
63
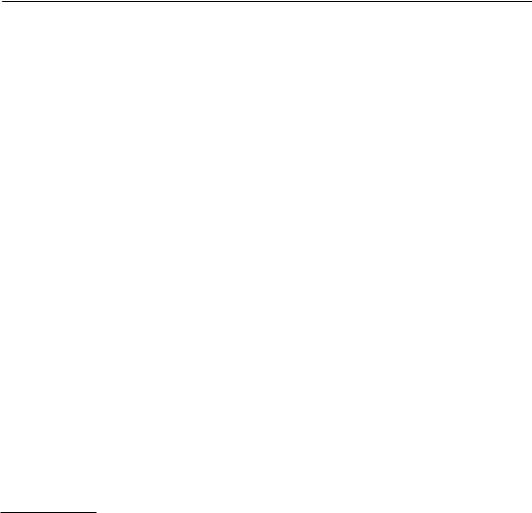
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
стве арендатора (лизингополучателя) и его кредиторов, включая тех, что получили обеспечительный или исполнительный документ73. Из этой нормы с очевидностью следует вывод о том, что переданное в аренду (лизинг) оборудование на случай банкротства лизингополучателя не включается в его конкурсную массу74.
Дальнейшее развитие вопрос о правах лизингодателя в случае банкротства лизингополучателя получил в Кейптаунской конвенции и протоколах к ней. Создаваемые на ее основе обеспечительные права (международные гарантии) имеют юридическую силу при осуществлении процедур по несостоятельности в отношении должника75, т.е. противопоставимы управляющему по несостоятельности и прочим кредиторам76.
Освещая режим обеспечительных прав, устанавливаемый Кейптаунской конвенцией, сразу следует подчеркнуть, что она предусматривает максимально возможное сходство регулирования трех функционально совпадающих обеспечительных конструкций — традиционного залога, лизинга и продажи в кредит с удержанием за продавцом титула собственника.
Авиационный протокол закрепляет два возможных варианта последствий наступления связанных с несостоятельностью событий77, оба из которых оставляют за управляющим или должником секундарное право выбора дальнейшей линии поведения — продолжение возмездного использования актива с устранением ранее допущенных нарушений обязательств или его передачу кредитору. Такой выбор осуществляется в более или менее комфортных для управляющего или должника условиях78:
–вариант A (жесткий): управляющему по несостоятельности (или в соответствующих случаях должнику) предоставляется период отсрочки79, по истечении которого управляющий или должник должен либо устранить все нарушения обязательств, кроме нарушения обязательства, создаваемого началом процедур по несостоятель-
73См.: подп. «a» п. 1 ст. 7 Оттавской конвенции.
74См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. С. 551.
75См.: ст. 30 Кейптаунской конвенции.
76См.: Kronke H. Financial Leasing and its Unification by UNIDROIT // Uniform Law Review. 2011. Vol. 16. Iss. 1-2. P. 37.
77Термин «связанное с несостоятельностью событие» означает начало процедур по несостоятельности (т.е. время, с которого они считаются начатыми согласно применимому закону о несостоятельности) либо заявленное намерение приостановить платежи или фактическое приостановление платежей должником, если право кредитора возбуждать процедуры по несостоятельности в отношении должника или использовать способы защиты прав согласно Конвенции приостановлено или не может быть реализовано по закону или в результате соответствующего действия государства (п. «d» ст. 1 Кейптаунской конвенции, подп. «m» п. 2 ст. I Протокола).
78См.: ст. XI Авиационного протокола.
79Термин «период отсрочки» означает период, оговоренный в заявлении договаривающегося государства, которое является страной первичной юрисдикции в отношении несостоятельности (п. 3 варианта А ст. XI Авиационного протокола). При присоединении к Конвенции и Протоколу Российская Федерация сделала заявление, что период отсрочки равен 60 дням (п. 5 ст. 1 Федерального закона от 23.12.2010 № 361-ФЗ).
64
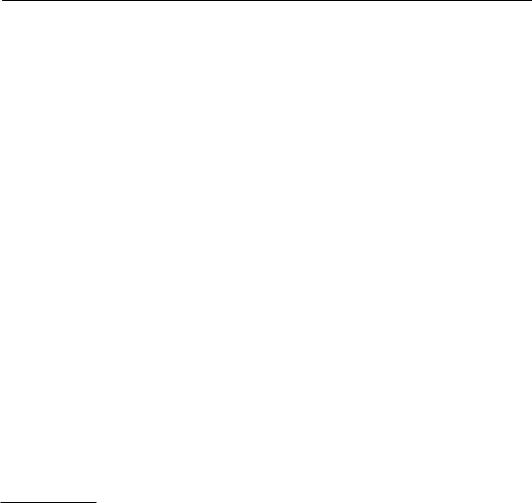
Свободная трибуна
ности80, и согласиться исполнять все обязательства в будущем в соответствии с соглашением с целью сохранить у себя авиационный объект, либо передать объект во владение кредитору81;
–вариант B (мягкий): управляющий по несостоятельности (или в соответствующих случаях должник) по просьбе кредитора уведомляет его в течение определенного срока, о том, устранит ли он все нарушения обязательств, кроме нарушения обязательства, создаваемого началом процедур по несостоятельности, и соглашается ли он исполнять все будущие обязательства в соответствии с соглашением и связанными со сделкой документами и предоставит ли он кредитору возможность вступить во владение объектом в соответствии с применимым правом82. Если управляющий или должник не уведомит кредитора о выбранной модели, а равно если заявит, что даст возможность кредитору взять объект во владение, но не сделает этого, суд может разрешить кредитору вступить во владение объектом83.
Ни один из вариантов не предполагает включение актива в конкурсную массу должника.
При присоединении к Кейптаунской конвенции и Авиационному протоколу Российская Федерация выбрала вариант А84. Среди государств, выбравших этот же вариант, следует упомянуть Австралию, Аргентину, Бразилию, Великобританию, Данию, Индию, Индонезию, Казахстан, Канаду, КНР, Новую Зеландию, Норвегию, ОАЭ, Пакистан, Сингапур, Турцию, Украину, ЮАР85. В литературе также указывается86, что моделью для данного варианта стало регулирование, содержащееся в отношении воздушных и морских судов, а также железнодорожного подвижного состава в Банкротном кодексе США87.
В 2016 г. УНИДРУА приступил к разработке Протокола к Кейптаунской конвенции по специфическим аспектам сельскохозяйственного, строительного и горнодобывающего оборудования88. На ноябрь 2019 г. запланировано проведение
80Речь идет о том, что договором сам факт начала процедур по несостоятельности может признаваться нарушением обязательств со стороны должника.
81См.: п. 2 и 7 варианта А ст. XI Авиационного протокола.
82См.: п. 2 варианта B ст. XI Авиационного протокола.
83Аналогичное регулирование содержится также в ст. IX Люксембургского протокола к Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования по специфическим аспектам железнодорожного подвижного состава (документ в силу не вступил; Российская Федерация к нему не присоединилась).
84См.: п. 5 ст. 1 Федерального закона от 23.12.2010 № 361-ФЗ.
85См.: статус Протокола. URL: http://www.unidroit.org/status-2001capetown-aircraft. Вариант B выбрала только Мексика.
86См.: Schroth P.W. Financial Leasing of Equipment in the Law of the United States // American Journal of Comparative Law. 2010. Vol. 58. P. 349.
87См.: United States Code. Title 11 Bankruptcy. 11 U.S.C. § 1110 (a), 1168 (a).
88Проект Протокола по состоянию на июнь 2018 г. URL: https://www.unidroit.org/english/documents/2018/ study72k/dc/s-72k-dc-03-e.pdf.
65

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
дипломатической конференции для его принятия. Проект документа предусматривает уже не две, а три модели последствий банкротства лизингополучателя. Две воспроизводят приведенные выше, а третья (вариант C) заключается в следующем:
1)устанавливается период оздоровления (cure period), в течение которого управляющий или должник должен устранить все нарушения и согласиться исполнить все будущие обязательства в соответствии с соглашением либо предоставить кредитору возможность изъять оборудование в соответствии с применимым правом;
2)до истечения периода оздоровления управляющий или должник может обратиться
всуд, чтобы отложить исполнение обязанности вернуть оборудование на период до истечения срока соглашения и на условиях, которые суд сочтет справедливым (suspension period). Такой судебный акт должен предусматривать выплату всех сумм, причитающихся кредитору за время, на которое будет отложен возврат оборудования, за счет конкурсной массы по мере наступления сроков платежей, а также исполнение управляющим или должником всех других обязательств, возникающих
вданный период;
3)после подачи такого обращения кредитор не вправе изымать оборудование до получения судебного акта. Если такое обращение не будет удовлетворено в течение установленного срока, оно будет считаться отозванным89.
Проблема исключения актива из конкурсной массы должника. Время от времени можно встретить утверждения, что при банкротстве должника — владельца актива, принадлежащего на праве собственности кредитору, такой актив должен включаться в конкурсную массу должника.
Доводы за включение актива в конкурсную массу должника. В пользу включения принадлежащего кредитору имущества в конкурсную массу должника приводятся следующие аргументы:
1)коль скоро право собственности на актив служит для собственника (кредитора) обеспечением исполнения обязательств должника, то во всех спорных ситуациях правовой режим такого актива должен быть таким же, как режим предмета залога, тогда как при банкротстве залогодателя актив включается в его конкурсную массу;
2)конкурсному управляющему следует обеспечить возможность контролировать отчуждение актива с целью установления справедливой цены реализации и подлежащего возврату в конкурсную массу излишка (аналог superfluum);
3)надлежит ограничить часть выручки, используемой на погашение требований обеспеченного кредитора, определенной долей, например 80–85% цены реализации, с направлением оставшихся 15–20% на удовлетворение требований кредиторов первой и второй очереди, как это предусмотрено для залога90;
89См.: п. 3–5 варианта C ст. X проекта Протокола к Кейптаунской конвенции по специфическим аспектам сельскохозяйственного, строительного и горнодобывающего оборудования.
90См.: п. 1–2 ст. 138 Закона о банкротстве.
66

Свободная трибуна
4)торги (как базовый вариант реализации заложенного имущества, на которое обращается взыскание91) — это наиболее совершенный из всех придуманных человечеством за всю его многотысячелетнюю историю способ выручить за имущество наивысшую цену.
Доводы против включения актива в конкурсную массу должника. Против приведенных теоретических построений можно выдвинуть ряд контраргументов (помимо сомнительности эталонного характера залога):
1)даже применительно к залогу включение заложенного имущества в конкурсную массу должника — это не единственно верный вариант, а лишь одно из возможных законодательных решений, нашедшее отражение в современном российском регулировании92, наряду с известным истории права и более соответствующим обеспечительной функции исключением актива из конкурсной массы должника для реализации имущества залоговым кредитором, чтобы в первую очередь направить выручку от продажи актива на погашение обеспеченного залогом требования93;
2)именно неудовлетворительность правового режима предмета залога в ходе банкротства должника, в том числе включение актива в его конкурсную массу и возложение тем самым на залогового кредитора издержек по контролю за проведением торгов, по согласованию с конкурсным управляющим и кредиторами порядка и условий реализации имущества, а также по взаимодействию с управляющим как с организатором торгов (наряду с некоторыми иными факторами), побуждает стороны искать альтернативные залогу вещные способы обеспечения исполнения обязательств, режим которых позволит полнее реализовать обеспечительный потенциал актива с меньшими издержками и рисками;
3)при обычном залоге приоритет залогового кредитора зачастую обеспечивается выделением из имущественной массы должника определенного актива, по существу, в ущерб интересам всех остальных кредиторов, что и вызывает сомнения в справедливости самого института вещного обеспечения (особенно в отношении необеспеченных кредиторов по внедоговорным требованиям). Между тем в таких случаях вещного обеспечения, как продажа товара с удержанием титула за продавцом94 и финансовый лизинг95, не имеющий признаков возвратного лизинга96, из имущественной массы должника (т.е. из всей совокупности вещей, на которые должник изначально имеет право собственности, предварительно осуществив за-
91См.: п. 1 ст. 350, п. 1 ст. 350¹ ГК РФ.
92См.: ст. 18¹, п. 4, 5, 8–19 ст. 110, п. 3 ст. 111 и ст. 138 Закона о банкротстве.
93См., напр.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права: в 4 т. Т. 4: Торговый процесс. Конкурсный процесс. М., 2003. С. 449.
94См.: ст. 491 ГК РФ.
95См.: ч. 1 ст. 665 ГК РФ.
96См.: предложение третье абз. 4 п. 1 ст. 4 Закона о лизинге; постановления Президиума ВАС РФ от 16.01.2007 № 9010/06 и от 11.09.2007 № 16609/06; определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 23.03.2017 № 307-ЭС16-3765 (4, 5) (включено в п. 19 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2017), утв. Президиумом ВС РФ 12.07.2017).
67

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
траты на его приобретение), никакой актив не выделяется и не выбывает. Следовательно, законные интересы должника и других его кредиторов не затрагиваются тем обстоятельством, что должник не приобретет право собственности на имущество до завершения внесения платы за него97;
4)поскольку за кредитором признается статус собственника, а в конкурсную массу должника включается только то имущество, которое принадлежит должнику на праве собственности, включению актива в конкурсную массу должника непреодолимо препятствует отсутствие юридического факта, с которым правопорядок связывает переход права собственности на имущество от собственника (кредитора) к иному лицу (должнику);
5)возможность контроля разумности реализации актива вне зависимости от правового положения должника (как при наличии процедур, применяемых в деле о банкротстве, так и в их отсутствие) сейчас обеспечивается нормами об определении сальдо встречных предоставлений, включая порядок вычисления цены имущества, принимаемой для расчета сальдо98. Как следует из практики, сложившейся по спорам о расчете сальдо (включая вопросы реализации изъятого актива), у лизингополучателя при реализации лизингодателем возвращенного имущества есть широкие возможности контроля за разумностью и добросовестностью условий отчуждения актива и защиты нарушенных прав должника в случае отклонения кредитора от указанных стандартов поведения. Само их наличие служит для лизингодателя лучшим стимулом продать актив по максимальной цене;
6)что касается взыскания в конкурсную массу доли выручки от реализации изъятого актива, то даже если признавать этот «сравнительно честный способ отъема» («увода денег») у собственника (в ущерб его неудовлетворенным требованиям) целесообразным (что далеко не факт), то обязанность произвести подобную выплату в пользу должника (т.е. его необеспеченных кредиторов) может быть возложена на собственника в силу широкой дискреции законодателя в регулировании гражданских правоотношений99. Без такого законодательного решения подобный отъем будет прямым нарушением конституционной нормы о защите собственности100. Таким образом, для достижения обеих гипотетических целей включения обеспечительного актива в конкурсную массу должника уже найдено или можно найти приемлемое решение, не требующее столь грубого насилия над правом собственности;
7)о том, какое положение лозунг о торгах как лучшем инструменте выручить справедливую цену занимает на шкале достоверности между истиной и мифом, можно судить по распространенности рекламы приблизительно следующего содержания:
97В связи с этим может дифференцироваться правовой режим продажи товара с удержанием титула продавцом и финансовым лизингом, с одной стороны, и обеспечительной передачи вещи в собственность, включая возвратный лизинг, — с другой.
98Подробнее см.: подраздел 8.2.4 данной публикации (в «Вестнике экономического правосудия РФ» № 3 за 2019 г.).
99См., напр.: абз. 2 п. 2.2 мотивировочной части постановления КС РФ от 15.06.2006 № 6-П.
100См.: ч. 2 ст. 8, ч. 1 и 3 ст. 35 Конституции РФ.
68

Свободная трибуна
«Покупайте на торгах (залог, банкротство) ценные активы за 20% [или даже меньше] от реальной цены»101.
Сторонники исключительности залога эту проблему признают, но предлагают вместо использования альтернативных вещно-обеспечительных конструкций (дающих кредитору право изъять вещь у должника-банкрота) развивать и улучшать залог. Более рациональным вариантом представляется не уничтожать прижившееся в обороте титульное обеспечение в призрачной надежде на оптимизацию функционирования залога в не столько светлом, сколько туманном будущем, а допускать использование всех обеспечительных конструкций, работая как над системным улучшением их правового режима, так и над точечным устранеием отдельных негативных эффектов.
Включение в конкурсную массу должника договорной позиции лизингополучателя.
Коль скоро договорная позиция лизингополучателя признается его активом102, логично ставить вопрос о его включении в конкурсную массу лизингополучателя при банкротстве.
Если, несмотря на признание лизингополучателя банкротом, действие договора лизинга сохраняется, то договорная позиция лизингополучателя, действительно, может рассматриваться как актив, подлежащий включению в конкурсную массу лизингополучателя, но с одной весьма существенной оговоркой.
Включение актива в конкурсную массу совершается для его последующей реализации в порядке, предусмотренном для продажи имущества должника, с целью направления выручки на удовлетворение требований кредиторов. Отчуждение такого актива, как договорная позиция арендатора (лизингополучателя), неразрывно сопряжено с операцией передачи договора (перенайма), которая требует согласия арендодателя (лизингодателя) под страхом ничтожности103.
В судебной практике одно время неправильно понимали соотношение норм о необходимости согласия арендодателя на отчуждение арендатором договорной позиции
впорядке перенайма с правилами законодательства о банкротстве, регулирующими включение актива в конкурсную массу и его реализацию. Так, рассматривая дело,
вкотором нижестоящий суд отдал приоритет интересу формирования конкурсной массы перед правами собственника на контроль за переданным в аренду имуществом, высшая судебная инстанция подробно обосновала ошибочность такого подхода. Согласно справедливой позиции ВС РФ имущественные права должника,
101См., напр.: Как выигрывать торги по банкротству и приобретать имущество за копейки? URL: https:// gdeikakzarabotat.ru/nedvizhimost/kak-vyigryvat-torgi-po-bankrotstvu-i-priobretat-imushhestvo-za-kopejki. html. На этом же сайте можно увидеть рекламный баннер с таким текстом: «Мастер-класс «Торги по банкротству». Как покупать недвижимость и автомобили на торгах по банкротству за 5% от их стоимости?» Апологетов включения обеспечительных активов в конкурсную массу должника, возможно, удивит, что лизинговые компании стараются продать изъятое имущество значительно дороже.
102Подробнее см. подраздел 1.4 данной публикации (в «Вестнике экономического правосудия РФ» № 2 за 2019 г.).
103Подробнее см. подраздел 8.5.1 данной публикации (в «Вестнике экономического правосудия РФ» № 3 за 2019 г.).
69

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
в отношении которых в законодательстве о банкротстве не содержится прямого запрета, подлежат включению в конкурсную массу наравне с другим имуществом.
Вместе с тем следует учитывать особенности права аренды и оценить его с позиции возможности отнесения к тем имущественным правам, в отношении которых конкурсный управляющий может совершать сделки по распоряжению ими без согласия собственника самого имущества в целях удовлетворения требований кредиторов.
Содержанием договора аренды (имущественного найма) является предоставление арендатору (нанимателю) имущества его собственником (арендодателем) за плату во временное владение и пользование или во временное пользование104. Это право реализуется из принадлежащего собственнику правомочия по распоряжению своим имуществом105.
Общим правилом применительно к перенайму является обязательность согласия арендодателя. От него возможно отступление как в специальных законах, так и по условиям договоров106.
Арендодатель как собственник имущества вправе устанавливать условия пользования своим имуществом, в том числе вводить запрет на передачу его другим лицам. Такие условия и запреты фиксируются в договоре собственника (арендодателя) с арендатором. Их игнорирование нарушает не только существующее обязательство между сторонами и указанные нормы материального права, но и принадлежащее собственнику правомочие распоряжения принадлежащим ему имуществом.
Законодательство о банкротстве не содержит положений, исключающих необходимость соблюдения или допускающих неприменение перечисленных выше общих требований гражданского законодательства. В связи с этим объем правомочий по распоряжению правом аренды должника конкурсным управляющим определяется условиями заключенного с собственником арендованного имущества договора аренды.
Признание организации несостоятельной (банкротом) и включение права аренды в конкурсную массу должника не являются основаниями для изменения условий договора, заключенного до этих обстоятельств. Законодательство о банкротстве не содержит положений, позволяющих сторонам не исполнять обязательства, принятые по договору, и не соблюдать условия, согласованные сторонами при его заключении.
Включение имущественных прав должника в конкурсную массу наряду с его имуществом не исключает необходимости последующей проверки правовой возможности отчуждения имеющихся у должника таких имущественных прав, наличия на то ограничений в силу закона или договоров, заключенных должником, соблюдения иных требований закона, предъявляемых при реализации имущества должника.
104См.: ст. 606 ГК РФ.
105См.: ст. 35 Конституции РФ, ст. 209 ГК РФ.
106См.: п. 2 ст. 615 ГК РФ.
70
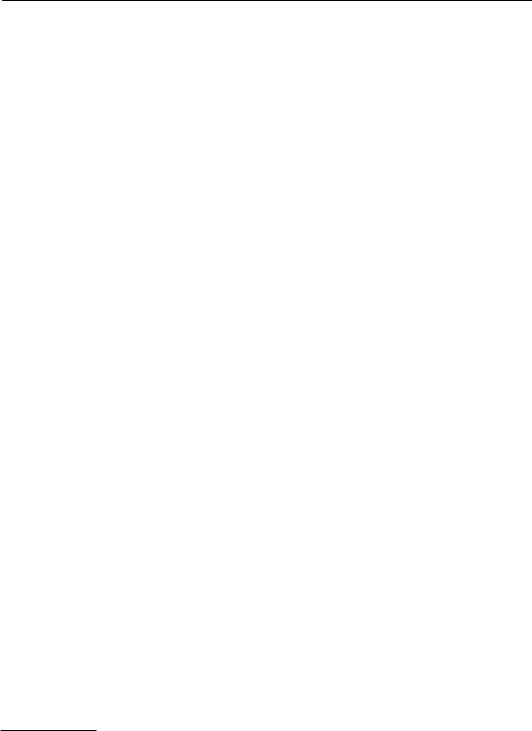
Свободная трибуна
Имущественные права аренды, которыми должник не вправе распорядиться без согласия собственника, не могут быть переданы другому лицу без его воли только лишь ввиду признания арендатора банкротом. Отсутствие в законодательстве о банкротстве указания на ограничение включения в конкурсную массу этого имущественного права не отменяет необходимости проверки возможности распоряжения им конкурсным управляющим при удовлетворении требований кредиторов.
Иной подход, мотивированный необходимостью защиты прав кредиторов должника, направлен на столкновение их интересов с интересами собственников имущества, находящегося во временном пользовании должника, позволяя передавать имущественные права в обход воли собственника имущества, что приводит к ущемлению его права на выбор арендатора и не обеспечивает равенство участников имущественных отношений107.
Данную правовую позицию, сформулированную для обычной аренды, в полной мере можно экстраполировать и на отчуждение договорной позиции лизингополучателя.
11.4. Порядок изъятия актива у лизингополучателя при банкротстве
Несмотря на отсутствие оснований для включения лизингового имущества в конкурсную массу лизингополучателя при его банкротстве, долгое время оставался не вполне ясным вопрос о надлежащей процессуальной форме разрешения спора об изъятии такого актива по требованию лизингодателя.
11.4.1.Законодательное регулирование и его разъяснение
Всилу общей нормы о последствиях открытия конкурсного производства все имущественные требования кредиторов могут быть предъявлены должнику только в ходе конкурсного производства108. Исключение составляют требования о взыскании текущих платежей109, а также требования о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и применении последствий их недействительности.
Вкачестве разъяснения данной нормы указывается следующее:
–в ходе конкурсного производства подлежат предъявлению только в деле о банкротстве также возникшие до возбуждения этого дела требования кредиторов по неденежным обязательствам имущественного характера (о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг);
107См.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 26.02.2016 № 306-КГ15- 15500.
108См.: абз. 7 п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве.
109См.: ст. 5 и п. 1 ст. 134 Закона о банкротстве.
71

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
–такие требования рассматриваются по правилам установления размера требований кредиторов110;
–при этом для определения количества голосов на собрании кредиторов и размера удовлетворения такого требования оно подлежит при его рассмотрении денежной оценке, сумма которой указывается в реестре111.
Приведенные доводы явно игнорируют ряд самых обыденных сюжетов гражданского оборота. Логика отдельных видов договоров предполагает, что некоторое имущество на старте отношений передается одной стороной (арендодателем, заказчиком, поклажедателем, грузоотправителем) другой стороне (арендатору, подрядчику (например, для ремонта), хранителю, перевозчику), которая должна впоследствии вернуть это имущество первой стороне. Если вторая сторона уклоняется от возврата имущества, то первая вправе предъявить договорный иск и потребовать вернуть имущество. Обычно в таких ситуациях пишут «спорное имущество», но здесь спора (за исключением редких случаев удержания), как правило, нет.
Странность указанной нормы и ее разъяснения заключается в том, что по буквальному смыслу они предполагают разрешение в рамках дела о банкротстве споров о возврате должником своим контрагентам тех вещей, которые не подлежат включению в конкурсную массу и возврат которых не способен поставить таких контрагентов в более выгодное положение, чем конкурсных кредиторов должника. Речь как раз идет об истребовании у должника объекта аренды в пользу арендодателя по прекращении договора аренды112, отданной в ремонт вещи в пользу заказчика по завершении работ113 или по расторжении договора подряда114, перевезенного груза115, переданной на хранение вещи по завершении хранения116 и т.п. Очевидно, что такие активы в конкурсную массу должника включению не подлежат, а их истребование у должника его контрагентами никак не нарушает прав конкурсных кредиторов. Поэтому нет необходимости в разрешении подобных споров судом, рассматривающим дело о банкротстве.
Тем не менее в свете приведенных выше разъяснений появлялись сюжеты, в которых обычные суды отказывались признать ординарный исковой порядок надлежащей процессуальной формой и указывали на необходимость разрешения таких споров в деле о банкротстве.
110См.: ст. 100 Закона о банкротстве.
111См.: абз. 2 п. 34 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
112См.: ч. 1 ст. 622 ГК РФ.
113См.: п. 1 ст. 702 ГК РФ.
114См.: ст. 728 ГК РФ.
115См.: п. 1 ст. 785 ГК РФ.
116См.: п. 1 ст. 900 ГК РФ.
72

Свободная трибуна
11.4.2. Ранняя практика применительно к лизингу
Вскоре после издания упомянутых выше разъяснений ВАС РФ рассмотрел дело о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по требованию лизингодателя к лизингополучателю-банкроту о возврате лизингового имущества ввиду расторжения договора лизинга.
Отменяя акты нижестоящих судов об удовлетворении заявления лизингодателя, высшая судебная инстанция указала, что с момента открытия конкурсного производства в отношении должника, выступающего ответчиком по спору, который в силу закона подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве, требование к должнику о возврате имущества подлежит рассмотрению в ходе конкурсного производства в деле о банкротстве. При его удовлетворении выдается исполнительный лист, а ранее установленные и включенные в реестр денежные требования того же кредитора (требования лизингодателя о взыскании задолженности по лизинговым платежам) подлежат корректировке.
Вданном случае требование лизинговой компании возникло из обязательственных отношений и не отнесено законодательством о банкротстве к тем требованиям, которые могут быть предъявлены к должнику после открытия в отношении него конкурсного производства и рассмотрены вне рамок дела о банкротстве117.
11.4.3.Новейшая практика
Впоследнее время высшая судебная инстанция подходит к рассмотрению подобных дел более дифференцированно.
Верховный Суд отмечает, что процессуальный механизм рассмотрения обязательственных требований контрагентов должника в деле о банкротстве118 направлен на создание условий равной правовой защиты интересов должника, его контрагентов и кредиторов, чьи притязания затрагивают конкурсную массу, предоставляет им возможность доказать свою позицию в открытом состязательном процессе.
По смыслу приведенных норм при разрешении спора о прекращении права аренды следует установить возможность включения в конкурсную массу и дальнейшей реализации этого права в процедуре конкурсного производства для удовлетворения требований кредиторов. Порядок рассмотрения такого спора зависит от того, является ли право аренды действительным активом, который можно реализовать для соразмерного удовлетворения требований кредиторов несостоятельного арендатора. Ответ на этот вопрос зависит от наличия у арендатора (по условиям договора в силу применимого корпуса норм) права без потребности в согласовании с арендодателем распорядиться правом аренды путем передачи арендованного имущества в перенаем.
117См.: постановление Президиума ВАС РФ от 13.11.2012 № 8141/12.
118См.: абз. 7 п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве; абз. 2 п. 34 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
73

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Из материалов рассмотренных Верховным Судом дел следовало, что таким правом арендатор не обладал, согласие арендодателя требовалось как по общим правилам об аренде119, так и в силу условий договора120, но получено оно не было. В этих обстоятельствах право аренды не могло рассматриваться в качестве актива общества, который оно могло ввести в оборот путем отчуждения за плату и тем самым удовлетворить требования кредиторов. Предъявленный арендодателем иск о расторжении договора аренды не затрагивал права и законные интересы кредиторов должника, а потому не имелось оснований для вывода о необходимости его рассмотрения в деле о банкротстве121.
Представляется обоснованным экстраполировать изложенные доводы на все перечисленные выше случаи истребования у должника имущества, которое ни при каких обстоятельствах не может включаться в его конкурсную массу, в том числе истребование лизингодателем у лизингополучателя-банкрота лизингового имущества.
12. Риск случайной гибели актива
Одним из атрибутов права собственности является несение собственником риска случайной гибели вещи. Соответствующее правило закреплено как общее, но допускающее исключения в силу предписаний закона или условий договора122. Оно воспроизводит принцип римского права casum sentit dominus — последствия случайностей, какие могут постигнуть вещь, приходится ощущать ее собственнику123.
В ситуации, когда актив служит обеспечением, закон диспозитивно переносит риск случайной гибели имущества с собственника (кредитора) на должника с момента передачи вещи лизингополучателю124 или фиктивного признания исполненной обязанности передать вещь покупателю, в том числе при сохранении права собственности за продавцом125.
Норма о распределении рисков призвана ответить на вопрос о том, в чьей имущественной сфере должны сосредоточиться негативные последствия вредоносного
119См.: п. 2 ст. 615 ГК РФ.
120Подробнее см. материал о включении договорной позиции лизингополучателя в конкурсную массу должника в подразделе 11.3.2 данной публикации.
121См.: определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 08.09.2016 № 309-ЭС16- 4636, от 14.08.2018 № 305-ЭС18-8136.
122См.: ст. 211 ГК РФ.
123См., например: Дернбург Г. Пандекты. Т. 2: Обязательственное право. 3-е изд. М., 1911. С. 118 (сн. 3). Ср. также: «За порчу же или смерть животного, которая происходит без наличия чьей-либо вины, за бегство рабов, которых обычно не охраняли, за грабеж, бунт, пожары, наводнения, нападения разбойников никто (из заключивших договор) не несет ответственность» (D. 50.17.23).
124См.: ст. 669 ГК РФ; п. 1 ст. 22 Закона о лизинге.
125См.: ст. 459 ГК РФ.
74

Свободная трибуна
инцидента, если нет лица, которое по правилам об ответственности, применимым к спорным отношениям, должно отвечать за инцидент и его последствия. В отсутствие договорных отношений собственника по поводу поврежденной или утраченной вещи эта норма имеет одно значение, а при их наличии — другое.
12.1. Значение нормы о риске в отсутствие у собственника договорных отношений по поводу поврежденной или утраченной вещи
Если собственник не состоит с кем-либо в договорных отношениях по поводу поврежденной или утраченной вещи, то в силу правила casum sentit dominus негативные последствия вредоносного инцидента могут быть сосредоточены в имущественной сфере самого собственника, когда повреждение или утрата вещи оказались случайными, т.е. не стали последствием виновного (по общему правилу126) причинения вреда третьим лицом. В этом случае отвечать перед собственником некому, а существо регулирования сводится к констатации отсутствия у собственника притязаний к кому-либо в связи с инцидентом. В такой ситуации все негативные последствия инцидента сосредоточатся в имущественной сфере самого собственника и не могут быть перенесены в имущественную сферу иного участника оборота.
В чем заключаются негативные последствия инцидента? При утрате вещи это, во-первых, утрата ценности, равной ее действительной (рыночной) стоимости, во-вторых, издержки поиска на рынке аналогичной вещи, в-третьих, санкции, которые могут быть возложены на собственника, если он из-за утраты вещи нарушит обязательство по ее предоставлению или по выполнению работ (оказанию услуг) с ее использованием.
Негативные последствия повреждения или утраты вещи может нести и причинитель вреда (делинквент), если вещь была повреждена или утрачена в результате не случайного инцидента, а виновного (по общему правилу) причинения им вреда127. При этом у собственника (потерпевшего) есть деликтное притязание к причинителю вреда, а удовлетворение такого притязания является инструментом переноса негативных последствий инцидента из имущественной сферы собственника в имущественную сферу делинквента. Бремя издержек по получению исполнения, в частности бремя несения судебных расходов, первоначально несет собственник (кредитор в деликтном обязательстве), а затем он получает возмещение за счет делинквента (должника в деликтном обязательстве)128.
126Для целей данной публикации представляется допустимым абстрагироваться от случаев строгой, т.е. безвиновной, ответственности. При возложении ответственности на какого-либо участника оборота в отсутствие вины (например, за вред, причиненный источником повышенной опасности, на владельца такого источника по правилам ст. 1079 ГК РФ) негативные последствия инцидента также переносятся из имущественной сферы собственника в имущественную сферу лица, на которое в силу специального предписания возлагается обязанность возместить вред.
127См.: ст. 1064 ГК РФ.
128См.: ст. 309² и 319 ГК РФ; ч. 1 ст. 98 ГПК РФ; ч. 1 ст. 110 АПК РФ.
75

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Перенос негативных последствий инцидента с собственника на делинквента будет заключаться во взыскании с последнего возмещения всех перечисленных выше сумм или замене взыскания стоимости вещи обязанием загладить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.)129.
12.2. Значение нормы о риске при наличии у собственника договорных отношений по поводу поврежденной или утраченной вещи
При наличии договорных отношений между собственником и третьим лицом по поводу поврежденной или утраченной вещи специальные нормы о переносе или распределении рисков вовсе не означают экстраполяцию приведенных выше суждений на лицо, названное в законе или договоре носителем риска (например, на покупателя, лизингополучателя, заказчика или подрядчика).
Когда в законе говорится о возложении риска случайной гибели товара, предмета лизинга или результата работ на покупателя, лизингополучателя либо заказчика или подрядчика, речь идет уже не о том, что отвечать перед защищаемой стороной вообще некому, и не о том, кто кому должен возместить все перечисленные выше суммы.
Содной стороны, при ответе на вопрос о том, есть ли кому отвечать, выбор ограничивается только сторонами договора (а не всеми участниками оборота). Нормы о распределении договорных рисков применяются, если ни одна из сторон не отвечает согласно применимым к отношению правилам за вредоносный инцидент. Наличие за пределами круга сторон договора лица, ответственного за причинение вреда, не исключает применения нормы о распределении риска. В результате негативный эффект инцидента должен быть перемещен из имущественной сферы одной стороны договора в имущественную сферу другой стороны — носителя риска, а последняя вправе предъявить требования делинквенту, неся при этом издержки по получению исполнения.
Сдругой стороны, негативный результат инцидента, который локализуется нормами о риске применительно к отношениям, возникающим из возмездных дву- сторонне-обязывающих договоров, заключается в исполнении одной стороной (носителем риска) своего обязательства в пользу другой стороны, обязанность которой по совершению встречного предоставления прекращается ввиду случайной утраты вещи, служащей материальным объектом договорных обязательств.
Наиболее наглядно это прослеживается на примере переноса риска случайной гибели товара с продавца на покупателя130. Самая распространенная ситуация, когда в силу специального правила риск отрывается от титула собственника, — это переход риска с продавца на покупателя при фикции исполнения обя-
129См.: ст. 1082 ГК РФ.
130См.: ст. 459 ГК РФ.
76
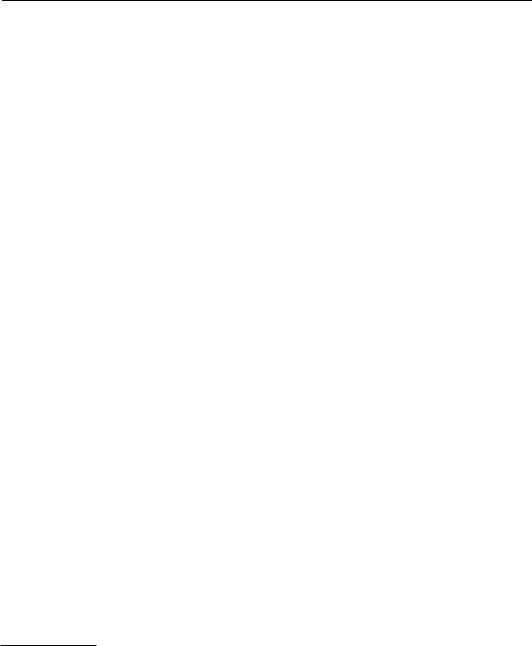
Свободная трибуна
занности передать товар на условиях его выборки покупателем по местонахождению товара131.
При случайной гибели товара, когда продавец уже считается исполнившим обязанность его передать, а покупатель еще фактически его не получил, перенос риска гибели с продавца на покупателя означает следующее: покупатель лишается возможности получить согласованное благо, однако, несмотря на это, обязан уплатить продавцу согласованную в договоре цену товара. Иными словами, значение такого переноса риска заключается в том, что контрагент обязан совершить свое предоставление по договору в пользу собственника (уплатить цену), не получив фактически причитающееся ему предоставление (товар).
Вместе с тем, если до утраты товара его рыночная стоимость увеличилась, то покупатель (носитель риска) все равно должен продавцу (собственнику) только согласованную в договоре цену, но не увеличившуюся стоимость вещи.
Изложенное без каких-либо особенностей применяется и в ситуациях, когда право собственности на товар сохраняется за продавцом до оплаты товара132, проданного в кредит133, в том числе с условием о рассрочке134.
Поняв эту логику, легче ее распространить на другие ситуации переноса договорных рисков, включая случаи, когда актив, в отношении которого распределяется риск, является объектом обеспечительной собственности.
Для лизинга (т.е. de lege lata финансовой аренды), в отличие от обычной аренды, диспозитивно предусматривается, во-первых, что «риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества переходит к арендатору в момент передачи ему арендованного имущества»135, и, во-вторых, что «ответственность за сохранность предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой, ошибкой, допущенной при его монтаже или эксплуатации, и иные имущественные риски с момента фактической приемки предмета лизинга несет лизингополучатель»136.
Аналогичное правило предполагается закрепить и в ходе совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности137.
131
132
133
134
135
136
137
См.: абз. 3 п. 1 ст. 458 ГК РФ.
См.: ст. 491 ГК РФ.
См.: ст. 488 ГК РФ.
См.: ст. 489 ГК РФ.
См.: ст. 669 ГК РФ.
См.: п. 1 ст. 22 Закона о лизинге.
См.: ст. 833 проекта главы 43¹ ГК РФ.
77

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Эти нормы являются специальными по отношению к общему правилу о несении риска собственником138 и переносят риск с собственника (кредитора) на его контрагента (должника). Обоснование этих норм лежит на поверхности:
–с одной стороны, должнику (лизингополучателю) как владельцу актива проще принять меры к нивелированию рисков, падающих на данный актив139;
–с другой стороны, утрата актива, служащего собственнику (кредитору) обеспечением исполнения обязательств по возврату предоставленного должнику (непосредственному владельцу) финансирования и внесению платы за пользование финансированием, в силу логики финансово-хозяйственной операции не может приводить к прекращению указанных обязательств должника перед собственником, что имело бы место в случае сохранения риска утраты актива за собственником.
Арбитражная практика поддерживает эту логику. Согласно материалам дела стороны предусмотрели распределение убытков при прекращении договора, в результате которого лизинговая компания получает от лизингополучателя такие имущественные предоставления, как если бы договор лизинга был исполнен надлежащим образом. В момент гибели предмет лизинга находился в сфере имущественной ответственности лизингополучателя. На этом основании суд пришел к выводу, что такое распределение не нарушает грубым образом баланс интересов сторон и не ущемляет интересы слабого контрагента (лизингополучателя). Поэтому согласно правилу о необходимости исполнения обязательств надлежащим образом140 обязательство, установленное соглашением лизингодателя и лизингополучателя, подлежит исполнению141.
Нередко встречаются случаи, когда при утрате предмета лизинга и отказе страховщика от выплаты возмещения лизингополучатель заявляет о прекращении обязательств по договору лизинга невозможностью исполнения142.
Такое заявление безосновательно. С одной стороны, невозможностью исполнения прекращаются только те обязательства, исполнение которых оказывается невозможным, потому что мотивом рассматриваемой нормы является принцип «невозможное не является (предметом) обязательства» (impossibilium nulla obligatio est)143. В случае с утратой предмета лизинга речь может идти только об обязательствах совершать действия, связанные с самим активом (несение бремени содержания, включая поддержание в надлежащем состоянии, текущий и капитальный ремонт,
138См.: ст. 211 ГК РФ.
139См.: Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 37.
140См.: ст. 309 ГК РФ.
141См.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 04.08.2015 № 310-ЭС15- 4563.
142См.: ст. 416 ГК РФ.
143См.: D. 50.17.185.
78

144
145
146
147
148
149
150
Свободная трибуна
а также возврат по прекращении договора, если он предусмотрен его условиями). Обязательства, исполнению которых утрата актива не препятствует, невозможностью исполнения не прекращаются. К ним в первую очередь относятся денежные обязательства, исполнение которых всегда возможно ввиду наличия в обороте объекта предоставления — денежных средств.
Утрата актива влечет утрату должником (лизингополучателем) интереса к исполнению денежных обязательств в пользу кредитора (лизингодателя), но утрата интереса исполнять не имеет ничего общего с утратой возможности исполнять обязательство. Коль скоро возможность исполнения денежного обязательства очевидно сохраняется, оно не прекращается невозможностью исполнения.
С другой стороны, нормы о распределении рисков, содержащиеся в правилах о договорах отдельных видов144, являются специальными и подлежат приоритетному применению по отношению к нормам общей части обязательственного права145 в силу прямого указания законодателя146. Поэтому даже несмотря на то, что утрата актива происходит при обстоятельствах, за которые отвечать некому (эти обстоятельства упоминаются в гипотезах как общей нормы о прекращении обязательств невозможностью исполнения147, так и специальных норм о переносе риска с собственника (лизингодателя) на должника (лизингополучателя)148), применяться должны специальные нормы о переносе риска и перемещении негативного эффекта вредоносного инцидента, а не общая норма о прекращении обязательств (если они вдруг вступят в коллизию, чего не должно произойти по изложенным выше соображениям).
Наконец, применительно к лизингу следует помнить еще и о том, что, когда лизингополучатель является предпринимателем (т.е. в подавляющем большинстве случаев), он отвечает перед лизингодателем за нарушение обязанности обеспечить сохранность предмета лизинга149 не на началах вины, а на началах риска. То есть отвечает, даже если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, лизингополучатель принял все меры для надлежащего исполнения обязательств (в отсутствие вины) — в том числе за случай (casus), до границ непреодолимой силы150.
Это означает, что утрата лизингополучателем-коммерсантом актива по любым причинам, кроме обстоятельств непреодолимой силы, не вписывается в гипотезу нормы о невозможности исполнения, если она вызвана «обстоятельством, за ко-
Раздел IV ГК РФ и специальные законы.
Раздел III ГК РФ.
См.: п. 1 ст. 307¹, п. 3 ст. 420 ГК РФ.
См.: п. 1 ст. 416 ГК РФ.
См.: ст. 669 ГК РФ; п. 1 ст. 22 Закона о лизинге.
См.: п. 3 ст. 17 Закона о лизинге.
См.: п. 3 ст. 401 ГК РФ.
79

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
торое ни одна из сторон не отвечает»151. В данном случае лизингополучатель несет ответственность на началах риска152. Следовательно, и с этой точки зрения нельзя говорить о прекращении обязательства без каких-либо дополнительных негативных последствий для лизингополучателя.
В дополнение к рассмотренным выше нормам закон диспозитивно устанавливает, что «утрата предмета лизинга или утрата предметом лизинга своих функций по вине лизингополучателя не освобождает [его] от обязательств по договору лизинга»153. Данное правило должно применяться, когда нет оснований для обращения к норме о риске, т.е. когда инцидент является следствием виновного поведения одной из сторон (лизингополучателя). При этом следует исходить из презумпции вины, а бремя доказывания ее отсутствия возлагать на лизингополучателя154.
Иными словами, в законе определены такие последствия утраты актива:
–если актив утрачивается по вине лизингополучателя, он не освобождается от исполнения обязательств по договору;
–если актив утрачивается не по вине лизингополучателя и одновременно в отсутствие вины лизингодателя (в результате случая), то лизингополучатель несет риск случайной утраты лизингового имущества; возложение на него риска также означает сохранение обязательств по договору лизинга.
Диспозитивность нормы о сохранении обязательств лизингополучателя при утрате актива по его вине позволяет сторонам включить в договор условие как более благоприятное для лизингодателя, так и более выгодное для лизингополучателя. Это означает, что стороны могут сузить или расширить круг обстоятельств утраты актива, которые не освобождают лизингополучателя от обязательств, в частности расширить его до внешних границ случая и даже непреодолимой силы.
Высшая судебная инстанция рассмотрела дело, возникшее в связи с договором, который содержал условие о том, что даже обусловленность нарушения обязательств обстоятельствами непреодолимой силы не освобождает нарушителя от ответственности. Суд привел это условие сразу после указания на диспозитивность рассматриваемой нормы и не дал оценки ему как недопустимому155. Из этого можно сделать вывод, что включение подобного условия в договор вписывается в рамки свободы договора.
Представляется, что нарушением пределов свободы договора будет включение условия о сохранении обязанности лизингополучателя по внесению лизинговых платежей в случае утраты актива по обстоятельствам, за которые отвечает лизин-
151См.: п. 1 ст. 416 ГК РФ.
152См.: п. 3 ст. 401 ГК РФ.
153См.: ст. 26 Закона о лизинге.
154См.: постановление Президиума ВАС РФ от 16.03.2010 № 15800/09.
155См.: там же.
80

Свободная трибуна
годатель. В качестве аналогии можно привести нормы об ответственности залогового кредитора перед залогодателем за утрату или повреждение предмета залога и о праве должника-залогодателя зачесть требование к залогодержателю о возмещении убытков, причиненных утратой или повреждением предмета залога, в погашение обязательства, обеспеченного залогом156.
На отсутствие оснований для прекращения обязательств по договору лизинга при утрате актива указывала высшая судебная инстанция, констатируя необоснованность расторжения договора по требованию лизингополучателя, заявленному со ссылкой на существенное изменение обстоятельств157. Суд подчеркнул, что при заключении договора стороны не могли не предполагать возможность утраты предмета лизинга, так как и Закон о лизинге, и договор прямо регулируют последствия этого обстоятельства и ответственность сторон158.
Что должен означать перенос риска утраты актива с лизингодателя (собственника) на лизингополучателя (должника) в свете логики, выявленной на примере переноса риска с продавца на покупателя?
По смыслу правил о переходе риска утраты и повреждения лизингового имущества159 при наступлении таких обстоятельств должник (лизингополучатель), несмотря на то что полученное им в ходе исполнения договора благо оказывается в силу утраты или повреждения актива существенно меньше того, на которое он рассчитывал при заключении договора, должен совершить в пользу кредитора (лизингодателя) ранее согласованное встречное предоставление. Причитающееся с лизингополучателя в пользу лизингодателя исполнение состоит в возврате предоставленного лизингодателем финансирования и во внесении платы за пользование им до дня его возврата.
Аналогичные разъяснения даны и высшей судебной инстанцией:
1)договором могут предусматриваться такие варианты последствий гибели актива, как сохранение действия договора с продолжением внесения лизинговых платежей (в которые засчитывается страховое возмещение, уплаченное страховщиком) или же расторжение договора, влекущее необходимость расчета сальдо встречных предоставлений (в котором учитывается выплаченное страховщиком возмещение)160;
2)в случае гибели (утраты) незастрахованного предмета лизинга лизингополучатель не освобождается от обязанности компенсировать лизингодателю затраты на приобретение предмета лизинга и плату за финансирование до момента фактического возмещения этих затрат161.
156См.: п. 2 и 3 ст. 344 ГК РФ.
157См.: п. 2 ст. 451 ГК РФ.
158См.: постановление Президиума ВАС РФ от 16.03.2010 № 15800/09.
159См.: ст. 669 ГК РФ; п. 1 ст. 22 Закона о лизинге.
160См.: абз. 1 п. 7 постановления № 17.
161См.: п. 8 постановления № 17.
81

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Лизингополучатель обязан продолжать вносить лизингодателю предусмотренные в договоре лизинговые платежи в соответствии с согласованным графиком. Сохранение у лизингополучателя такой обязанности и будет означать, что негативные последствия инцидента (утраты актива) сосредоточатся в имущественной сфере лизингополучателя (должника) как носителя риска, а не лизингодателя (собственника).
Вместе с тем у обеих сторон должно быть право инициировать досрочное исполнение обязательств с соответствующим дисконтированием платы за пользование финансированием.
У лизингодателя такое право должно быть по аналогии с нормами о праве заимодавца (кредитора) потребовать досрочного возврата суммы займа (долга) и уплаты причитающихся процентов с заемщика (должника) при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые заимодавец не отвечает162, и о праве залогового кредитора потребовать досрочного исполнения обеспеченного обязательства в случае гибели или утраты предмета залога по обстоятельствам, за которые залоговый кредитор не отвечает163.
Для лизингополучателя этот вопрос должен решаться аналогично правилам о праве должника на досрочное исполнение обязательства164.
Опять же следует подчеркнуть, что при утрате актива лизингодатель может требовать от лизингополучателя не выплаты действительной стоимости имущества, а продолжения исполнения договорных обязательств или досрочного исполнения с соответствующим дисконтированием.
В ходе совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности предполагается закрепить такие последствия утраты или повреждения предмета лизинга:
1)утрата или повреждение переданного лизингополучателю предмета лизинга не прекращает его обязательство по уплате лизинговых платежей;
2)лизингодатель отвечает перед лизингополучателем за полную или частичную утрату или повреждение находящегося у лизингодателя предмета лизинга в размере его рыночной стоимости, если не докажет, что может быть освобожден от ответственности;
3)лизингополучатель вправе зачесть требование к лизингодателю о возмещении убытков, причиненных утратой или повреждением предмета лизинга, в погашение своего обязательства по договору финансового лизинга в том числе тогда, когда срок исполнения этого обязательства еще не наступил и досрочное исполнение обязательства не допускается165.
162См.: ст. 813 ГК РФ.
163См.: подп. 2 п. 1 ст. 351 ГК РФ.
164См.: ст. 315, п. 2 ст. 810 ГК РФ.
165См.: ст. 833 проекта главы 43¹ ГК РФ.
82

Свободная трибуна
Последние два правила аналогичны правилам о последствиях повреждения и утраты предмета залога, находящегося у залогодателя166.
12.3. Распределение деликтных и страховых требований между собственником и должником
В обычных условиях деликтное притязание, связанное с утратой или повреждением вещи, признается за ее собственником.
Иногда в разъяснениях высших судебных инстанций встречается указание на то, что требование, обусловленное утратой или повреждением актива, есть и у иного лица, имеющего самостоятельный интерес. Так, со ссылкой на правила законодательства об ОСАГО167 Пленум ВС РФ отметил, что право на получение страхового возмещения в связи с повреждением имущества принадлежит потерпевшему — лицу, владеющему имуществом на праве собственности или ином вещном праве. Вместе с тем лица, владеющие имуществом на ином праве (в частности, на основании договора аренды) либо использующие имущество в силу полномочия, основанного на доверенности, самостоятельным правом на страховую выплату в отношении имущества не обладают168.
Тем не менее наличие интереса в сохранении актива признается за владельцами — субъектами не только поименованных в законе вещных прав, но в ряде случаев и за иными законными владельцами.
Например, лицо, владеющее имуществом согласно договору с собственником (в Обзоре практики назван ссудополучатель), не имеет самостоятельного интереса в сохранении стоимости актива. Этот интерес является опосредованным и обусловлен необходимостью отвечать перед собственником за нарушение обязанности вернуть имущество в должном состоянии169. В Обзоре подчеркивается, что интерес владельца в исключении издержек по возмещению собственнику убытков, причиняемых нарушением обязанности вернуть вещь в надлежащем состоянии, может быть защищен путем страхования риска договорной ответственности170, но лишь если это предусмотрено законом171.
166См.: п. 2–3 ст. 344 ГК РФ.
167См.: абз. 6 ст. 1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
168См.: абз. 1 п. 18 постановления Пленума ВС РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; аналогичное разъяснение содержалось ранее в абз. 1 п. 18 постановления Пленума ВС РФ от 29.01.2015 № 2 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
169См.: ч. 1 ст. 622, п. 1 ст. 689 ГК РФ.
170См.: п. 4 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 № 75).
171См.: подп. 2 п. 2 ст. 929, ст. 932 ГК РФ.
83

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
К слову, применительно к лизингу допускается страхование лизингополучателем риска своей ответственности за нарушение договора лизинга в пользу лизингодателя172.
В том же пункте Обзора отмечается, что владелец заинтересован в сохранении имущества и для себя. Такой интерес состоит в выгоде, которую владелец имеет от предотвращения убытков, которые он понесет в случае невозможности использовать актив. Этот интерес владельца основан на договоре, заключенном с собственником вещи, и допускает страхование владельцем имущества в свою пользу. Поэтому владелец, который воспользовался правом застраховать полученный по договору актив на случай его утраты в свою пользу, вправе при наступлении страхового случая получить страховое возмещение в пределах тех убытков, которые он как эксплуатант понес в связи с невозможностью использовать вещь173.
Если следовать этой логике, можно прийти к выводу о том, что у владельца должно быть и самостоятельное требование о возмещении указанных убытков к причинителю вреда.
Подход законодателя к страхованию предмета лизинга более либерален: договором лизинга может быть определено, какая из его сторон (в том числе лизингополучатель) станет страхователем или выгодоприобретателем174. Данную норму можно считать указанием на наличие у обеих сторон интереса в сохранении лизингового имущества 175.
Подтверждает этот вывод указание высшей судебной инстанции на то, что лизингополучатель имеет законный имущественный интерес в получении страхового возмещения, поскольку ему важно привести предмет лизинга в надлежащее состояние. Это обусловлено тем, что в период действия договора лизинга с правом выкупа именно лизингополучатель использует предмет лизинга в своей деятельности и на нем лежат обязанности по техническому обслуживанию и обеспечению сохранности имущества176. После истечения срока лизинга лизингополучатель приобретает право собственности на упомянутое имущество, тогда как цель, ради которой заключается договор имущественного страхования от риска повреждения имущества, — получение страховой выплаты, компенсирующей полностью или в части возникшие при наступлении страхового случая негативные последствия в застрахованном имуществе177.
Еще в одном деле высшая судебная инстанция рассматривала требования лизингополучателя к страховщику о выплате страхового возмещения, не демонстрируя каких-либо сомнений в наличии у лизингополучателя страхового интереса178.
172См.: п. 4 ст. 21 Закона о лизинге.
173См.: ст. 930 ГК РФ.
174См.: п. 1 ст. 21 Закона о лизинге.
175Ср.: п. 1 ст. 930 ГК РФ.
176См.: п. 3 ст. 17 Закона о лизинге.
177См.: постановление Президиума ВАС РФ от 25.12.2012 № 10008/12.
178См.: постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 № 11750/13.
84

Свободная трибуна
При выплате страхового возмещения оно причитается лизингодателю лишь в той части, в какой это необходимо для удовлетворения всех требований лизингодателя
к лизингополучателю:
–при сохранении действия договора выплаченное страховщиком возмещение засчитывается в погашение требований лизингодателя к лизингополучателю об уплате лизинговых платежей;
–при расторжении договора возмещение засчитывается при расчете сальдо встречных предоставлений179.
Следовательно, часть суммы возмещения, превышающая (в совокупности с иными полученными лизингодателем суммами) предусмотренные договором требования лизингодателя к лизингополучателю, должна быть перечислена последнему.
В силу распространенной практики предметы лизинга страхуются от рисков утраты (хищения, угона, гибели, включая конструктивную гибель) в пользу лизингодателя (собственника), от рисков повреждения — в пользу лизингополучателя (должника)180. Корни такого разделения в том, что собственник как кредитор заинтересован в получении возмещения, когда обеспечение утрачивается, тогда как при повреждении актива (особенно незначительном) право на получение возмещения будет обязательно сопряжено с издержками (трудозатратами), обусловленными организацией ремонта и координацией взаимодействия страховщика, лизингополучателя и станции технического обслуживания.
Некоторое время имела место экстравагантная практика взыскания страховщиками с лизингополучателей, виновных в утрате или повреждении лизингового имущества, в порядке суброгации сумм, выплаченных лизингодателю. Высшая судебная инстанция пресекла ее, отметив при рассмотрении соответствующего спора, что работники арендатора были допущены к управлению имуществом на основании договора аренды, по которому выступивший страхователем собственник имущества передал его арендатору во временное владение и пользование.
Указание в договоре имущественного страхования (страховом полисе) на арендатора как на эксплуатанта, получившего от собственника правомочие пользования застрахованным имуществом в предусмотренных договором аренды пределах, имеющего при этом основанный на названном договоре интерес в сохранении этого имущества, свидетельствует о страховании риска причинения ущерба арендатором на тех же условиях, что и страхование риска причинения ущерба самим собственником — страхователем.
Суд сослался на разъяснение, согласно которому на лицо, допущенное по договору страхования к управлению транспортным средством, использующее его на основании гражданско-правового или трудового договора и имеющее интерес в сохра-
179См.: абз. 1 п. 7 постановления № 17.
180См., напр.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 22.06.2018 № 305- ЭС18-510.
85

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
нении этого имущества, распространяются правила добровольного страхования автотранспортных средств как на страхователя, а потому страховщик не обладает правом требовать взыскания с данного лица выплаченной суммы страхового возмещения в порядке суброгации181.
Исходя из этого правоположения, суд указал, что право регресса182 не возникает ни в ситуации, когда страховой случай вызван случайными или неосмотрительными действиями (бездействием) страхователя, ни при наступлении страхового случая из-за аналогичных действий (бездействия) упомянутого в договоре имущественного страхования эксплуатанта транспортного средства, использующего его по воле собственника на основании гражданско-правового договора183.
Несмотря на то, что проблема в практике по большому счету решена, в ходе совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности предполагается установить правило, в силу которого, если страховщик удовлетворил требование лизингодателя о выплате страхового возмещения, предъявление страховщиком требований в порядке суброгации184 к лизингополучателю не допускается, за исключением ситуаций, когда страховой случай наступил вследствие умысла лизингополучателя и (или) лизингополучатель при наступлении страхового случая умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки185.
Заключение
Изложенный выше материал наглядно показывает, что за последнюю четверть века обеспечительная собственность (по меньшей мере на примере лизинга) превратилась в России из экзотической идеи с минимальным содержанием в институт, включающий объемный корпус правил. Они с большей или меньшей степенью определенности охватывают большинство аспектов взаимоотношений собственника (обеспеченного кредитора — лизингодателя) и его контрагента (должника — лизингополучателя).
Степень разработанности правил об относительных отношениях собственника (лизингодателя) и должника (лизингополучателя) уже немногим уступает аналогичным характеристикам института залога и благодаря развитию законодательства и судебной практики продолжает расти с каждым годом. Долговые и обеспечительные отношения, основанные на предоставлении кредитору права собственности на служащий обеспечением актив, перестают быть terra incognita
181См.: п. 49 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013 № 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан».
182В деле и в норме, на которую ссылается суд (п. 1 ст. 965 ГК РФ), речь идет не о регрессе, а о суброгации.
183См.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 30.03.2015 № 305-ЭС14-3075.
184См.: ст. 965 ГК РФ.
185См.: п. 2 ст. 833 проекта главы 43¹ ГК РФ.
86

Свободная трибуна
и последовательно наносятся на весьма подробную карту гражданско-правовых просторов.
Кроме того, вот уже более 10 лет в коммерческих обязательствах закон допускает такой вариант поведения залогового кредитора, как оставление предмета залога за собой (включая поступление предмета залога в собственность кредитора)186. Иными словами, при неисправности должника залоговый кредитор получает право обратить предмет залога в свою собственность, т.е. добиться того же вещного эффекта, который изначально имеется в титульном обеспечении187. При наличии в регулировании залоговых отношений такой возможности бороться против титульного обеспечения представляется вовсе не логичным188.
В значительном количестве случаев существо отношений лизингополучателя и лизингодателя, с одной стороны, а также покупателя и продавца, удерживающего за собой право собственности на товар до его оплаты, с другой стороны, настолько сходно, что позволяет в порядке аналогии закона применять правила о лизинге к купле-продажи товаров в кредит с удержанием титула продавцом.
Помимо прочего, если вынести за скобки способ кредитования должника, т.е. обязательство лизингодателя предоставить финансирование путем оплаты актива и обязательство продавца передать вещь покупателю (с атрибутами их надлежащего исполнения), то после передачи актива должнику невооруженным взглядом вообще будет сложно увидеть различия между этими двумя конструкциями.
Вместе с тем ряд освещенных выше сюжетов демонстрирует дискуссионность принципиальных характеристик обеспечительного права собственности как вещного права.
Представления о содержании права собственности лизингодателя как вещного права находятся лишь в начальной стадии разработки, а состояние изучения этого аспекта требует накопления позитивного материала с его последующим доктринальным анализом.
Догматическое объяснение вещноправового эффекта, наблюдаемого при закреплении за обеспеченным кредитором права собственности на актив, вполне воз-
186См.: абз. 2 п. 2 ст. 350¹ ГК РФ. Такая возможность в российском праве изначально появилась благодаря Федеральному закону от 30.12.2008 № 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное имущество», которым внесены изменения в абз. 1 п. 1 ст. 334 ГК РФ и подп. 1 п. 3 ст. 28¹ Закона о залоге.
187Подробнее об институте lex commissoria см.: Дождев Д.В. Комиссорная оговорка при залоге: проблема совместимости правовых конструкций // Частное право и финансовый рынок: сб. ст. Вып. 2 / отв. ред. М.Л. Башкатов. М., 2014. С. 84–122; Рыбалов А.О. Lex commissoria в современном праве // Вестник ВАС РФ. 2013. № 3. С. 6–13; Он же. Присвоение предмета залога залогодержателем в современном российском праве // Закон. 2013. № 3. С. 44–50.
188См.: Карапетов А.Г. Титульное обеспечение vs залог: введение в проблемное поле: справка к научнопрактическому круглому столу юридического института «М-Логос» (24 окт. 2018 г.). С. 6. URL: https:// www.m-logos.ru/img/Spravka_titylnoe_obespechenie_i_zaloga(Karapetov%20A.G.).pdf.
87

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
можно без моделирования лишней сущности «обеспечительной собственности» (как некоего субъективного права, отличного по своему содержанию от полноценного права собственности) — происходящее вполне укладывается в модель возникновения в имущественной сфере должника многокомпонентного ограниченного вещного права на имущество, обременяющего право собственности кредитора.
Правомерный интерес должника во владении и пользовании имуществом, извлечении из него плодов и доходов и последующем получении его в собственность охраняется за счет абсолютного характера и абсолютной защиты этого ограниченного вещного права (при соблюдении должником условий предоставления данного права), а также присущего ему свойства следования.
Кроме того, возможность извлечь из операции сверхдоход в ущерб интересам должника даже при его неисправности исключается для кредитора благодаря правилам об определении завершающей обязанности и уплате сальдо встречных предоставлений, совершенных и полученных сторонами в ходе исполнения договора и реализации мер, связанных с его прекращением.
Следует продолжать следить за пополнением прецедентной базы высшей судебной инстанции решениями, в которых с позиций обеспечительной функции права собственности рассматривались бы те или иные частные аспекты и благодаря которым абстрактный тезис об обеспечительной функции получал бы более конкретное содержание. По мере появления таких прецедентных актов и их осмысления в научных публикациях, а также их интерпретации в практике нижестоящих судов появится возможность схематично очертить остов конструкции обеспечительной собственности, если вообще появятся убедительные, основанные не только на умозрительных рассуждениях, но и на анализе действительных потребностей оборота доводы в пользу ее радикального отличия от классической собственности и практической необходимости их дифференциации.
До выполнения этой важной и нужной работы закрепление в тексте закона правила об обеспечительном характере права собственности лизингодателя на лизинговое имущество представляется преждевременным. Включение этой нормы, устанавливающей очень абстрактный (не наполненный пока никаким содержанием) принцип, порождает риск ее произвольного толкования, что несовместимо с требованием определенности права.
References
Belov V.A. European Contract Code: General and Comparative Legal Comments [Kodeks Evropeiskogo dogovornogo prava — European Contract Code: obschiy i sravnitelno-pravovoi kommentariy].
2 Books. Book 1. Мoscow, Yurait, 2015. 308 p.
Belov V.A. What Has Changed in the Civil Code? [Chto izmenilos’ v Grazhdanskom kodekse?]. Мoscow, Yurait, 2014. 183 p.
Bevzenko R.S. Accessority of Security Obligations: European Legal Tradition and Russian Practice [Aktsessornost’ obespechitelnykh obyazatelstv: evropeiskaya pravovaya traditsiya i rossiiskaya praktika]. Civil Law Review [Vestnik grazhdanskogo prava]. 2012. No. 5. P. 5–48.
88

Свободная трибуна
Braginskiy M.I., Vitryanskiy V.V. Contract Law. Book 2: Property Transfer Agreements [Dogovornoe pravo. Kn. 2: Dogovory o peredache imuschestva]. Мoscow, Statut, 2002. 780 p.
Burkova A.Yu. Default and Cross-Default: International Practice [Defolt i kross-defolt: mezhdunarodnaya praktika]. International Public and Private Law [Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo]. 2016. № 5. P. 5–7.
Cherepakhin B.B. Succession in Soviet Civil Law [Pravopreemstvo po sovetskomu grazhdanskomu pravu], in: Cherepakhin B.B. Works on Civil Law [Trudy po grazhdanskomu pravu]. Мoscow, Statut, 2001. P. 307–442.
Dernburg H. Pandectae. Vol. 2: Law of Obligation [Pandekty. T. 2: Obyazatelstvennoe pravo]. 3rd ed. Мoscow, Pech. A.I. Snegirevoi, 1911. 412 p.
Dozhdev D.V. The Commission Clause in Pledge Cases: The Problem of Legal Concept Compatibility [Komissornaya ogovorka pri zaloge: problema sovmestimosti pravovykh konstruktsiy], in: Bashkatov M.L., ed. Private Law and Financial Market: A Collection of Articles [Chastnoe pravo i finansovyi rynok: sb. st.]. Iss. 2. Moscow, Statut, 2014. P. 84–122.
Dozhdev D.V. Roman Private Law [Rimskoe chastnoe pravo]. 3rd ed. Мoscow, Norma, 2008. 784 p.
Egorov A.V. Leasing: Current Problems in the Balance Method [Lizing: tekuschie problem metoda saldo]. Available at: http://www.privlaw-journal.com/lizing-tekushhie-problemy-metoda-saldo (Accessed 6 March 2019).
Egorov A.V. Pledge vs Security Right Transfer: Does Foreclosure Need Competition? [Zalog vs obespechitelnaya peredacha prava: nuzhna li oborotu konkurentsiya?], in: Gongalo B.M., Em V.S., eds. Current Problems in Private Law: A Collection of Articles Coinciding with P.V. Krasheninnikov’s Birthday: Moscow-Yekaterinburg, June 21, 2014 [Aktualnye problemy
chastnogo prava: sb. st. k yubileyu P.V. Krasheninnikova: Moskva — Ekaterinburg, 21.06.2014]. Moscow, Statut, 2014. P. 78–127.
Egorov A.V. Leasing: Rent or Financing? [Lizing: arenda ili finansirovanie?]. The Herald of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation [Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiiskoi Federatsii]. 2012. No. 3. P. 36–60.
Enneccerus L. Course on German Civil Law. Vol. 1. Half-Vol. 2: Introduction and General Part [Kurs germanskogo chastnogo prava. T. 1. Polut. 2: Vvedenie i Obschaya chast’]. Мoscow, Inostrannaya literatura, 1950. 483 p.
Gromov S.A. The Security Function of the Lessor’s Ownership Right to the Leased Item [Obespechitelnaya funktsiya prava sobstvennosti lizingodatelya na predmet lizinga], in:
Rozhkova M.A., ed. Security and Liability Measures: A Collection of Articles [Mery obespecheniya i mery otvetstvennosti: sb. st.]. Moscow, Statut, 2010. P. 248–292.
Honoré A.M. Ownership, in: Smith P., ed. The Nature and Process of Law: An Introduction to Legal Philosophy. Oxford, OUP, 1993. P. 370–375.
Ivanov A.A. Property Law: Discussion of Issues in Civil Law: A Round Table of Pravovedenie Magazine [Veschnoe pravo: obsuzhdenie Osnov grazhdanskogo zakonodatelstva: kruglyi stol zhurnala «Pravovedenie»]. Jurisprudence [Pravovedenie]. 1992. No. 1. P. 115–120.
Ivanov A.A. Finance Lease Contracts in New Conditions [Dogovor finansovoi arendy (lizinga) v novykh usloviyakh]. Yurisprudence [Pravovedenie]. 2002. No. 2. P. 222–231.
Kapelyushnikov R.I. Property Right: An Essay on Modern Theory [Pravo sobstvennosti: ocherk sovremennoi istorii]. Domestic Remarks [Otechestvennye zapiski]. 2004. No. 6. P. 65–81.
Karapetov A.G. Title Security vs Pledge: An Introduction to the Scope of Issues: A Statement to the Science-and-Practice Round Table of M-Logos Legal Institute (October 24, 2018) [Titulnoe obespechenie vs zalog: vvedenie v problemnoe pole: spravka k nauchno-prakticheskomu kruglomu stolu Yuridicheskogo institute «M-Logos» (24 okt. 2018 g.)]. Available at: https://www.m- logos.ru/img/Spravka_titylnoe_obespechenie_i_zaloga(Karapetov%20A.G.).pdf (Accessed
18 March 2019).
89

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Krasheninnikov E.A. Condition Resolution [Razreshenie usloviya], in: Krasheninnikov E.A., ed. Essays on Commercial Law. Issue 11: A Collection of Academic Papers [Ocherko po torgovomu pravu. Vyp. 11: sb. nauch. tr.]. Yaroslavl’, Izdatelstvo Yaroslavskogo gosudarstvennogo universiteta, 2004. P. 28–36.
Krasheninnikov P.V., ed. Article-by-Article Commentary to the Part Two of the Civil Code of the Russian Federation [Postateinyi kommentariy k Grazhdanskomu kodeksu Rossiiskoi federatsii, chasti vtoroi]. 3 Vols. Vol. 1. Мoscow, Statut, 2011. 533 p.
Kronke H. Financial Leasing and its Unification by UNIDROIT. Uniform Law Review. 2011. Vol. 16. P. 321–333.
Latyev A.N. On Possession Based on the Civil Law Development Concept [O vladenii po kontseptsii razvitiya grazhdanskogo zakonodatelstva], in: Rozhkova M.A., ed. Property Rights: Problem Statement and Resolution: A Collection of Articles [Veschnye prava: postanovka problem i ee reshenie: sb. st.]. Moscow, Statut, 2011. P. 54–69.
Lenin V.I. On the Objectives of the People’s Commissariat for Justice within the New Economic Policy: A Letter to D.I. Kursky [O zadachakh Narkomyusta v usloviyakh novoi ekonomicheskoi politiki:
pismo D.I. Kurskomu], in: Lenin V.I. Complete Works [Polnoe sobranie sochineniy]. 5th ed. Vol. 44. Moscow, Izdatelstvo politicheskoi literatury, 1970. P. 396–400.
Makovskaya A.A. Integrity of the Participants of Pledge Relationships and the Distribution of Risks Among Them [Dobrosovestnost’ uchastnikov zalogovogo pravootnosheniya i raspredelenie riskov mezhdu nimi], in: Vitryanskiy V.V., Sukhanov E.A., eds. Main Problems in Private Law:
A Collection of Articles Coinciding with the Birthday of Professor A.L. Makovsky, LL.D. [Osnovnye problemy chastnogo prava: sb. st. k yubilety d-ra yurid. nauk, prof. A.L. Makovskogo]. Мoscow, Statut, 2010. P. 130–150.
Naumova L.N. Commentary to the Federal Law «On Mortgage (Pledge of Real Estate)» (by clause) [Kommentariy k federalnomu zakonu «Ob ipoteke (zaloge nedvizhimosti)» (postateinyi)]. Мoscow, Wolters Kluwer, 2008. 1044 p.
Nikitin A.V. Redemption Leasing: Seven Problems in Judicial Practice [Vykupnoi lizing: sem’ problem sudebnoi praktiki]. Arbitrazh Practice for Lawyers [Arbitrazhnaya praktika dlya yuristov]. 2017. No. 11. P. 26–34.
Nikitin A.V. Four Types of Redemption Leasing Requests: How to Qualify Them [Chetyre vida trebovaniy iz vykupnogo lizinga: kak ikh kvalifitsirovat’]. Arbitrazh Practice for Lawyers [Arbitrazhnaya praktika dlya yuristov]. 2018. No. 4. P. 26–34.
Novitskiy I.B., Pereterskiy I.S., eds. Roman Private Law: A Textbook [Rimskoe chastnoe pravo: uchebnik]. Мoscow, Yurist, 2004. 314 p.
Ostanina E.A. Condition Precedent and Suspensive Condition of Donation Agreements [Otmenitelnoe i otlagatelnoe usloviye dogovora dareniya]. Problems of Law [Problemy prava]. 2005. No. 1.
P. 113–116.
Penner G.I. The Concept of Property as a «Bundle of Rights» [Kartina sobstvennosti kak «puchka prav»]. Russian Comparative Law Yearbook [Rossiiskiy ezhegodnik sravnitelnogo prava]. 2007. № 1.
P. 103–209.
Romanets Yu.V. The Contract System in Russian Civil Law [Sistema dogovorov v grazhdanskom prave Rossii]. Мoscow, Yurist, 2001. 496 p.
Rybalov А.О. Lex Commissoria in Modern Law [Lex commissoria v sovremennom prave]. The Herald of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation [Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiiskoi Federatsii]. 2013. No. 3. P. 6–13.
Rybalov А.О. Acquisition of the Pledged Item by the Pledgee in Modern Russian Law [Prisvoenie predmeta zaloga zalogoderzhatelem v sovremennom rossiiskom prave]. Statute [Zakon]. 2013. No. 3. P. 44–50.
Sarbash S.V. Security Transfer of a Legal Title [Obespechitelnaya peredacha pravovogo titula]. Civil Law Review [Vestnik grazhdanskogo prava]. 2008. No. 1. P. 7–93.
90

Свободная трибуна
Sarbash S.V. Retention of a Legal Title by the Creditor [Uderzhanie pravovogo titula kreditorom]. Мoscow, Statut, 2007. 159 p.
Schroth P.W. Financial Leasing of Equipment in the Law of the United States. American Journal of Comparative Law. 2010. Vol. 58. P. 323–351.
Sergeev A.P., Tolstoy Yu.K., eds. Civil Law [Grazhdanskoe pravo]. 3 Vols. Vol. 1. Мoscow, Prospekt, 2003. 848 p.
Shershenevich G.F. Commercial Law Course: 4 Volumes. Vol. 4: The Commerce Process. Bankruptcy Procedure [Kurs torgovogo prava: v 4 t. T. 4: Torgovyi protsess. Konkursnyi protsess]. Мoscow, Statut, 2003. 550 p.
Sklovskiy K.I. Deals and Deal Invalidity: The Main Provisions of the Updated Chapter of the Code [Sdelka i nedeistvitelnost’ sdelki: osnovnye polozheniya obnovlennoi glavy Kodeksa]. Economy and Law [Khozyaistvo i pravo]. 2014. No. 2. P. 28–53.
Sohm R. Institutions: The History and System of Roman Civil Law. Part 2: The System. Issue 1: General and Property Law [Institutsii: Istoriya i sistema rimskogo grazhdanskogo prava. Ch. 2: Sistema. Vyp. 1: Obschaya chast’ i veschnoe pravo]. Sergiev Posad, Tipografiya I.I. Ivanova, 1916. 375 p.
Stepanov S.A., ed. Comments on the Civil Code of the Russian Federation (Educational Comments): On Parts One, Two, Three, and Four [Kommentariy k Grazhdanskomu kodeksu Rossiiskoi
Federatsii (ucheb.-prakt.): k chastyam pervoi, vtoroi, tret’ei i chetvertoi]. 4th ed. Moscow, Prospekt, 2015. 1648 p.
Sukhanov E.A., ed. Civil Law: 4 Volumes. Vol. 2: Property Law. Inheritance Law. Exclusive Rights. Personal Non-Property Rights [Grazhdanskoe pravo: v 4 t. T. 2: Veschnoe pravo. Nasledstvennoe pravo. Isklyuchitelnye prava. Lichnye neimuschestvennye prava]. Мoscow, Wolters Kluwer, 2005. 496 p.
Teplov N.V. The Future of Leasing: Is There Light at the End of the Tunnel? [Buduschee lizinga: est’ li svet v kontse tonnelya?]. Available at: http://www.privlaw-journal.com/budushhee-lizinga-est-li- svet-v-konce-tonnelya (Accessed 6 March 2019).
Tserkovnikov M.A. On Certain Problems in Leasing Contracts [O nekotorykh problemakh lizingovykh dogovorov], in: Bashkatov M.L., ed. Private Law and the Finance Market: A Collection of Articles [Chastnoe pravo i finansovyi rynok: sb. st.]. Iss. 2. Moscow, Statut, 2014. P. 345–360.
Usacheva K.A. Negative Claims in Historical and Comparative Legal Perspectives [Negatornyi isk v istoricheskoi i sravnitelno-pravovoi perspektive]. Civil Law Review [Vestnik grazhdanskogo prava]. 2013. No. 6. P. 87–119.
Usmanova E.R. The Title Security of Civil Liabilities: A PhD Thesis in Law [Titulnoe obespechenie grazhdansko-pravovykh obyazatelstv: dis. … kand. yurid. nauk]. Moscow, 2017. 152 p.
Нellwig К. Wesen und subjektive Begrenzung der Rechtskraft. Leipzig, A. Deichert, 1901. 527 s.
Information about the author
Sergey Gromov — Associate Professor at the Civil Law Department of the Law Faculty of Saint Petersburg State University, PhD in Law (e-mail: serjgromov@mail.ru).
91

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Антон Владимирович Томсинов
начальник юридического отдела Scania (Россия), кандидат юридических наук
Убытки производителя при нарушении договора поставщиком
Комментарий к определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 16.05.2018 № 307-ЭС17-22975
Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 установило ряд принципов взыскания убытков, которые должны были улучшить негативную судебную практику. Новые правила стали широко использоваться нижестоящими судами, однако в настоящее время сам ВС РФ в конкретных делах нередко занимает противоположную позицию и направляет практику в ином направлении. Например, в комментируемом споре о взыскании убытков, связанных с тем, что нарушение одного договора поставки повлекло нарушение последующих договоров, суды апелляционной и кассационной инстанций точнее следовали разъяснениям Верховного Суда, в то время как Судебная коллегия по экономическим спорам игнорировала их и завысила стандарт доказывания убытков. Самый негативный эффект таких дел проявляется в направлении нижестоящих судов на спор с истцом и защиту пассивного поведения ответчиков в процессе. На основе данного дела и практики по иным схожим делам рассмотрены возможные подходы к доказыванию убытков, связанных с расторжением последующих договоров, в частности упущенной выгоды и ущерба в размере выплаченных третьим лицам неустоек.
Ключевые слова: убытки, упущенная выгода, неустойка
92

Свободная трибуна
Anton Tomsinov
Head of Legal Department at Scania-Rus, PhD in Law
A Manufacturer’s Losses as a Result of Violation of a Contract by the Supplier
Case Comment on the Judgment of the Chamber for Commercial Disputes of the RF SC No. 307-ЭС17-22975, 16 May 2018
The Plenary Resolution of the Supreme Court of the RF No. 7, dated 24 March 2016 has established a set of principles for claiming damages which were meant to improve unfavourable court practice. The new rules have become widespread in the lower courts, but now the Supreme Court itself is taking the opposite position in certain cases and steering practice in a different direction with its decisions. The article covers one such case. The dispute was spawned by the breach of a sales contract which, in turn, led to the breach of subsequent contracts. The appellate and cassation courts followed the spirit of the Plenary Resolution, but the Supreme Court’s Judicial Chamber on Economic Disputes has ignored the earlier interpretations and raised the standard of proof of damages. The most negative consequence of such cases lies in steering the lower courts towards argument with the plaintiff and protection of passive defendants. This case and other similar decisions serve as the basis for examining different possible methods for evaluating proof of damages caused by the termination of subsequent contracts, including lost profits and losses in the amount of the penalties paid to third parties.
Keywords: damages, lost profit, penalty
Суть дела
Комментируемое дело на первый взгляд связано со спором о конкретных фактах и зависит от того, доказаны они или нет. Однако доказывание в нем полностью зависит от того, как мы понимаем такие базовые для убытков вопросы, как при- чинно-следственная связь, упущенная выгода и достоверность доказательств. Факты дела помогают на наглядном примере проанализировать, как в текущей практике учитываются новеллы закона и прежние толкования Верховного Суда РФ.
Данный спор связан с договором поставки янтаря, заключенным между поставщиком и ювелирным заводом. В день его подписания завод заключил с третьим лицом (покупателем) договор поставки готовых ювелирных изделий с предоплатой 20%. Поставщик получил полную предоплату, но в срок поставил лишь часть янтаря (стоимостью около 35% от общей цены договора). После истечения срока поставки поставщик фактически отказался исполнять договор без изменений, так как сообщил ювелирному заводу о своем желании продать янтарь дороже. Он предложил заводу сделать дополнительный платеж либо уменьшить количество заказанного товара путем пересчета аванса по новой цене. Завод направил аналогичное предложение третьему лицу. Третье лицо отказалось изменять их договор, поэтому завод потребовал от поставщика возврата оставшейся предоплаты, что и было сделано (частично уже в ходе судебного процесса).
93

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
В результате завод не исполнил договор с третьим лицом и после переговоров расторг его по соглашению сторон с условием возврата аванса и уплаты штрафных санкций. Далее завод обратился к своему поставщику с требованием о возмещении убытков в размере выплаченных третьему лицу санкций, а также своей упущенной выгоды. Таким образом, поскольку истец и ответчик, судя по всему, не спорили о факте нарушения, основными в процессе стали два вопроса: являются ли убытками санкции, выплаченные третьим лицам, а также доказана ли упущенная выгода.
Исследуемое дело интересно тем, что его обстоятельства довольно типичны для оборота. Ситуации, когда нарушение договора срывает сделки пострадавшей стороны с третьими лицами, распространены, пожалуй, даже больше, чем случаи наличия лишь прямых убытков у самого покупателя. В таких делах возникает вопрос: какие факты нужно установить, чтобы была признана либо отвергнута причинноследственная связь одного нарушения с другим?
В отечественной практике в последние годы появился и второй вопрос: кто должен доказывать эти факты? Попытка изменения бремени доказывания по делам об убытках была предпринята в постановлении Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее — постановление № 7). Тем не менее данные разъяснения носили слишком общий характер, а потому в судебной практике в настоящее время еще не сложились единообразные принципы, по которым нужно рассматривать такие споры. Это отразилось и на комментируемом процессе. Суды разных инстанций сформулировали три разные позиции, основанные на оценке одних и тех же фактов.
Позиция суда первой инстанции
Суд первой инстанции в иске отказал. По его мнению, у завода не было реальной возможности исполнить договор с третьим лицом, а сам этот договор был мнимой сделкой без намерения изготовить и передать покупателю ювелирные изделия, поскольку:
–оба договора были заключены в один день, но в договоре поставки янтаря неустойка за просрочку поставки отсутствует, а в договоре поставки готовых изделий установлена штрафная неустойка в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки и дополнительный штраф в размере 10% стоимости товара в случае просрочки более чем на месяц;
–дополнительное соглашение к договору поставки готовых изделий, конкретизирующее объем и срок, было подписано заводом и третьим лицом уже после нарушения срока поставки янтаря, хотя и до отказа поставщика поставлять янтарь по прежней цене;
–завод ждал более двух месяцев, прежде чем потребовал возврата предоплаты и стал расторгать договор с третьим лицом;
94

Свободная трибуна
–не было объяснено, почему из частично поставленного янтаря не были изготовлены и поставлены третьему лицу ювелирные изделия;
–не были представлены счета-фактуры, по которым третье лицо вносило предоплату заводу.
Исходя из этого, суд первой инстанции решил, что между выплаченными третьему лицу санкциями и нарушением договора поставщиком причинной связи не было, а в отношении упущенной выгоды не доказано наличие достаточных мер и приготовлений к ее извлечению, т.е. реальной возможности изготовления ювелирных изделий.
Можно видеть, что решение суда первой инстанции было довольно странным. Все названные им признаки мнимости таковыми не являлись и отражали обычный договорный процесс. Интересным был лишь вопрос о судьбе частично поставленного янтаря: покупатель, конечно, вправе отказаться от частичной поставки (ст. 466 ГК РФ), но, учитывая объем договора, вряд ли для третьего лица интерес представляла обязательно вся заказанная партия ювелирных изделий. Но почему тогда завод не поставил некую часть, если получил более трети янтаря по стоимости? В последующих инстанциях этот момент был опущен.
Позиция судов апелляционной инстанции и кассационной инстанции округа
Позиция апелляционной инстанции — самая подробная в деле. Суд описал, почему отвергаются выводы первой инстанции, какие доказательства приняты, какие факты не опровергнуты ответчиком, какие нормы закона и толкования судебной практики применимы. Суд апелляционной инстанции вывод о мнимой сделке не поддержал. Он указал следующее:
–вывод о мнимости сделки нельзя делать из факта непропорциональности ответственности в двух договорах, поскольку распределение рисков может зависеть от разных обстоятельств: в материалах дела есть подтверждение рыночной цены второго договора и того, что поставщик был единственным лицом на рынке, кто может продать такое количество янтаря;
–схожие сделки в прошлом уже заключались и исполнялись между заводом и тем же третьим лицом;
–истец доказал наличие необходимого персонала, ресурсов и оборудования;
–вывод о невозможности исполнения договора завода с третьим лицом за короткий срок опровергается сведениями об особенностях производственного процесса: сначала изготавливается металлическая основа изделий, а затем янтарь устанавливается в эту основу;
95

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
–вывод о недобросовестном промедлении завода после срыва поставки опровергается тем, что он сразу же вступил в переговоры со своим покупателем, по итогам которых согласовал условия расторжения и уменьшение неустойки;
–факт получения заводом предоплаты третьего лица подтвержден, несмотря на ошибки в назначении двух платежей, исправленные перепиской сторон, в том числе по причине значительного размера платежей и трудности создания формального документооборота между субъектами оборота драгоценных металлов, банковские операции которых подконтрольны Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Поскольку суд первой инстанции отклонил саму возможность наличия упущенной выгоды у завода и в деталях не рассматривал, расчет ее был проверен судом апелляционной инстанции. Суд признал его верным на основании письменных пояснений завода, который объяснил необходимые затраты на производство и операционные расходы.
Суд кассационной инстанции округа согласился с апелляционной инстанцией.
Позиция ВС РФ
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ (далее — Коллегия) отменила постановления судов апелляционной и кассационной инстанций и направила дело на новое рассмотрение. Позиция Коллегии состоит из четырех частей.
По мнению Коллегии, во-первых, не были выяснены обстоятельства перечисления предоплаты по договору завода с третьим лицом, так как на бóльшую часть аванса счета-фактуры и счет не представлены, основания выставления этих счетов и их взаимосвязь с договором поставки ювелирных изделий не установлены.
Во-вторых, суд апелляционной инстанции не выяснил, какое количество янтаря было необходимо для изготовления ювелирных изделий, указанных в спецификации к договору завода с третьим лицом (в которой значится лишь общее наименование изделий и говорится о наличии в них вставок из янтаря), и как это количество соотносится с объемом поставки янтаря по договору поставки сырья. Исходя из этого, Коллегия назвала преждевременными выводы суда о принятии заводом всех необходимых мер, которые в отсутствие нарушений со стороны поставщика сырья должны были привести к получению выгоды. Коллегия сослалась на то, что нет доказательств, подтверждающих сделанные заводом конкретные приготовления к изготовлению подлежащих поставке ювелирных изделий (с учетом их количества, времени и цикла изготовления, срока поставки).
В-третьих, Коллегия не согласилась с тем, что апелляционный суд признал подтвержденным размер упущенной выгоды, исходя из письменных пояснений завода в отсутствие экономического обоснования размера не полученного от реализации ювелирных изделий дохода.
96

Свободная трибуна
В-четвертых, Коллегия сочла необоснованным вывод, что повышенный риск завода (высокие неустойки в его договоре с третьим лицом) должен быть в полном объеме переложен на поставщика.
При новом рассмотрении Коллегия указала провести дополнительную проверку и оценку доводов и доказательств, чтобы установить все условия, которые дают право на взыскание убытков (нарушение обязательства, наличие и размер убытков, причинную связь, принятие мер для получения упущенной выгоды и реальная возможность выполнить свои обязательства перед третьим лицом, принятие мер по уменьшению размера убытков). Иными словами, при новом рассмотрении предлагается заново изучить вообще все обстоятельства дела, и практически ни одно обстоятельство не будет считаться уже установленным в ходе первого круга процесса.
Определением ВС РФ от 08.08.2018 № 167-ПЭК18 заводу было отказано в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ. Было указано, что, вопреки доводам надзорной жалобы, Коллегия не переоценивала доказательства по делу, оцененные судами первой и апелляционной инстанций, а пришла к выводу о неполном исследовании представленных доказательств, доводов и возражений участвующих в деле лиц. При новом рассмотрении Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 24.09.2018 решение от 25.04.2017 оставил без изменения, Арбитражный суд Северо-Западного округа постановлением от 18.12.2018 это подтвердил, сделав окончательным поражение покупателя. Итоговое мнение судов, таким образом, свелось к тому, что покупатель и его контрагент создали формальный документооборот без намерения и возможности исполнять договор поставки ювелирных изделий.
Определение Коллегии написано очень кратко. В нем практически отсутствуют теоретическая мотивировка и изложение логики размышлений судей. Есть лишь дежурные ссылки на ст. 15 и 393 ГК РФ, описание обстоятельств дела и приведенные выше краткие выводы. Таким образом, содержательная часть определения заняла чуть меньше страницы. Поэтому непонятно, например, какие еще приготовления к извлечению прибыли должен доказать истец. Судя по постановлению апелляционной инстанции, истец предоставил информацию о применимых способах предварительного определения стоимости изделий, о наличии специалистов необходимой квалификации (штатное расписание, среднесписочную численность сотрудников), производственных мощностей (перечень основных средств, инвентарные карточки основных средств, фотографии оборудования), материалов (выписку из программы учета складских запасов). Непонятно и то, какие иные меры по уменьшению ущерба мог и должен был принять завод, но не принял. В итоге совершенно неясно, как иначе надо строить свою позицию истцу. Коллегии следовало бы не отвергать всю позицию истца, а указать точно, какие данные надо дополнительно доказать.
Эта краткость определения тем более странна, что комментируемое дело является типичным примером тех споров, рассмотрение которых ВС РФ хотел улучшить постановлением № 7. Показательно и то, что суды первой и апелляционной инстанций, в отличие от Коллегии, ссылались на это постановление, но применяли его по-разному. Более того, постановление апелляционной инстанции имело под-
97

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
робную мотивировку по каждому вопросу. Поэтому как раз можно было бы воспользоваться случаем, чтобы на примере показать, как нужно конкретизировать общие принципы доказывания убытков.
Для того чтобы оценить определение Коллегии, будет удобным разделить его на отдельные вопросы, а именно: о распределении бремени доказывания, о стандарте доказывания упущенной выгоды и о взыскании в качестве убытков санкций, уплаченных третьему лицу.
Вопрос о бремени доказывания
При анализе судебных актов возникает ощущение, что ответчик занял совершенно пассивную позицию. Во всех инстанциях она сводилась к утверждению, что между заводом и третьим лицом не было реального договора, на котором можно было бы основывать требование об убытках. Возможно, суд первой инстанции переписывал отзыв ответчика на иск, но из доступных нам текстов не видно, чтобы, помимо общего тезиса, у поставщика были доказательства и аргументы. Во всех случаях, когда суды упоминали представленные судами доказательства и пояснения, они говорили о доказательствах и пояснениях, которые дал завод-истец. В постановлении суда апелляционной инстанции неоднократно указывалось, что ответчик не оспаривал многие обстоятельства дела и не опровергал доказательства истца. Во многом это повлияло на признание определенных фактов доказанными истцом.
Например, ответчик не представил доказательств того, что в случае исполнения им обязательств по поставке янтаря завод все равно не смог бы исполнить обязательства перед третьим лицом, что завод способствовал увеличению убытков или мог уменьшить их, но не принял для этого разумных мер, не доказал признаки мнимой сделки, отсутствие у завода убытков или несение их в ином размере, не оспаривал расчет убытков.
В определении Коллегии тоже нет ни слова о том, что доказательства поставщика опровергают какие-либо из доводов завода. Коллегия исходила из того, что суд апелляционной инстанции должен был сам исследовать детали совершения платежей по договору завода с третьим лицом, изучить подробно процесс производства ювелирных изделий и истребовать у завода дополнительные экономические обоснования размера неполученной упущенной выгоды. Коллегия также потребовала доказать принятие истцом мер по уменьшению убытков. Правило об освобождении от доказывания обстоятельств, не оспоренных ответчиком (ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ), использованное судом апелляционной инстанции, Коллегией было проигнорировано. Между тем раз оно было применено, то прежде, чем делать вывод о недостаточном исследовании обстоятельств дела, Коллегия должна была указать, почему эту норму применять было неправильно и обстоятельства остаются недоказанными.
Конечно, можно возразить, что отсутствие мотивировки встречается во многих определениях Коллегии, и тому есть свои причины. Однако мы все равно долж-
98

Свободная трибуна
ны рассматривать текст сам по себе как законченную позицию. По сути, Коллегия указала нижестоящим судам, что процесс по делам о взыскании убытков должен иметь вид активного судебного следствия, в ходе которого суд займет деятельную позицию по установлению объективной истины и будет требовать от истцов детальных доказательств, а не признавать какие-то утверждения только на основании того, что они не опровергнуты ответчиком. В ходе такого процесса к отказу во взыскании убытков может привести отсутствие убежденности суда в том, что истец представил ему все необходимые доказательства для бесспорного обоснования причинно-следственной связи и расчетов убытков. Это сильно поднимает стандарт достоверности позиции истцов по сравнению с подходом, согласно которому не всегда возможно объективно представить исчерпывающие доказательства, и задача суда состоит в сравнении позиций сторон и определении наиболее аргументированной из них.
В результате комментируемое определение не развивает один из лейтмотивов постановления № 7 — частичное перераспределение бремени доказывания с истца на ответчика. В частности, традиционный подход судов ранее состоял в том, что истец должен доказать всю совокупность обстоятельств, дающих право на возмещение убытков1, а именно: 1) наличие нарушенного права; 2) факт нарушения; 3) наличие ущерба и его размер; 4) причинно-следственную связь между нарушением и ущербом; 5) принятие мер к уменьшению ущерба (причем ранее данный элемент встречался в практике относительно редко, в то время как в текущей практике этот вопрос к истцу стал появляться в большом количестве дел). Недоказанность любого из них приводила к отказу во взыскании убытков (разве что позже стало признаваться право суда самостоятельно определить размер убытков, если он не может быть установлен).
Постановление № 7 должно было помочь истцам. Например, оно исходило из того, что принятие мер по уменьшению ущерба следует презюмировать, поэтому должник должен был доказывать обратное (абз. 1 п. 5). Еще одной подобной новеллой было упоминание убытков, которые являются обычным последствием допущенного нарушения, — в их отношении наличие причинно-следственной связи предполагалось, а должник должен был представить доказательства существования иной причины их возникновения (абз. 2 и 3 п. 5). Постановление № 7 в совокупности его толкований, новых или повторяющих прежнюю практику, могло иметь и неписаное значение: изменение отношения судов к спорам о взыскании убытков, уход от ситуации, когда суды считают истца мошенником, который хочет обогатиться за счет ответчика.
К сожалению, формулировка абз. 2 п. 5 постановления № 7 не позволяет точно понять, что именно является обычным последствием нарушения обязательства. Должен ли быть обычным только вид ущерба или и вид и размер? Понимается ли обычность по сравнению со всеми такими сделками или же с учетом особенностей сферы бизнеса, с которой связан договор, либо же последствия могут быть обычными для конкретного истца? Например, насколько обычно нарушение потерпевшим лицом договоров с третьими лицами? Это распространенное,
1См., напр.: определения ВАС РФ от 25.12.2009 № ВАС-17396/09 по делу № А41-23586/08; от 14.09.2012 № ВАС-10565/12 по делу № А32-22094/10; постановление ФАС Центрального округа от 06.08.2013 по делу № А35-5009/2012.
99

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
но не обязательное последствие. Скорее всего, комментируемое дело нельзя отнести к описанному в постановлении № 7 случаю, когда причинно-следственная связь должна предполагаться, однако и полной пассивности ответчика в нем быть не должно было.
Если же мы говорим об обычных последствиях в значении неизбежных, то презумпция причинно-следственной связи для них и не нужна, так как их связь с нарушением договора обычно очевидна (например, если оборудование имеет недостатки, то расходы на его монтаж и демонтаж обосновать легко). Для того чтобы иметь практическое значение в этой части, постановление № 7 должно было точнее описать степень вероятности связи нарушения и ущерба, которой мало для признания причинно-следственной связи доказанной, но достаточно, чтобы считать ее доказанной при отсутствии доказательств иного, данных ответчиком.
Потенциально эти изменения могли серьезно помочь взысканию договорных убытков. Предмет доказывания на практике более важен, чем указания на степень достоверности, которую субъективно должен ожидать судья (например, разумная степень, как в п. 5 постановления № 7). Если перечисленные выше обстоятельства доказывает истец, то его задача оказывается очень широкой по объему доказывания. Практически ничто не ограничивает суд в требовании новых и новых доказательств, пока у него не будет уверенности, что все иные возможные причины обоснованно исключены (признаны менее вероятными), а все возможные разумные меры приняты (например, отсутствовали резервные средства производства, которые можно было использовать взамен непоставленных, или же возможность взять их в аренду)2. Так, если иск об упущенной выгоде связан с незаконным отказом уполномоченного органа, то может встретиться позиция суда, что незаконность отказа с упущенной выгодой не связана, поскольку возможно, что без такого отказа был бы отказ по иной, законной причине3.
Если же бремя начала обсуждения этих вопросов ложится на ответчика, то для него задача выглядит более узко: ему достаточно доказать хотя бы один пример разумной, но непринятой меры по уменьшению убытков, а также хотя бы одну иную причину ущерба. Кроме того, тогда истцу противостоит не абстрактное сомнение суда («а может быть, можно было поступить лучше?»), а конкретные доказательства, представленные ответчиком. С ними уже можно серьезно работать: опровергать их фактами или логикой.
При этом, конечно, нужно признать, что перераспределение бремени доказывания на практике значимо больше, чем в теории. Его последствия заключаются не только в том, что ответчик должен действовать активно, поскольку речь зачастую идет не о каком-то четком наборе фактов, которые будут обсуждать стороны процесса, а о риске неопределенности, который ложится на того, кто должен что-то
2См.: постановления АС Северо-Западного округа от 12.01.2018 № Ф07-14452/17 по делу № А051598/2017; АС Поволжского округа от 13.02.2018 № Ф06-29040/17 по делу № А65-30036/2016; АС Вол- го-Вятского округа от 06.12.2017 № Ф01-5239/2017 по делу № А79-10652/2015.
3См.: постановление АС Северо-Кавказского округа от 13.04.2016 № Ф08-1171/2016 по делу № А3218860/2015 (определением ВС РФ от 06.06.2016 № 308-ЭС16-6410 отказано в передаче дела для пересмотра).
100

Свободная трибуна
доказать. Например, если экспертиза выявит не одну, а несколько равновероятных причин разрушения вещи, проигрыш определится тем, кто должен доказать точную причину, чтобы привлечь другую сторону к ответственности или же, наоборот, снять ответственность с себя. Если право не позволяет в какой-то конкретной ситуации делить ответственность между сторонами пропорционально вероятностям, то бремя доказывания неизбежно означает определенную несправедливость в ряде споров. Поэтому установленные в праве презумпции являются политикоправовым выбором того, в отношении какой стороны более правильно допускать эту несправедливость.
Условность переноса бремени доказывания особенно очевидна в спорах, подобных комментируемому, если в правовой системе отсутствует стандарт обязательного раскрытия всей относящейся к делу информации. Если речь идет о внутренних делах истца, а бремя доказывания отсутствия причинно-следственной связи понесет ответчик, то либо ответчик априори проигрывает, либо процесс превратится в постоянные запросы информации у истца.
Вопрос о бремени доказывания причинно-следственной связи и мер по уменьшению ущерба тем более важен, что у судов сейчас нет возможности отказать во взыскании убытков только на том основании, что размер ущерба не может быть установлен с разумной степенью достоверности, так как в этом случае они должны произвести расчет самостоятельно (п. 5 ст. 393 ГК РФ, п. 4 постановления № 7). Соответственно, для консервативных судов, которые хотят сохранить прежний жесткий подход к взысканию убытков, указание на недоказанность причинноследственной связи либо самого факта ущерба (наличия упущенной выгоды) становится универсальным способом ухода от обсуждения размера убытков4. Снижение стандарта доказывания причинно-следственной связи до разумной степени достоверности не имеет очевидного практического эффекта.
В настоящее время нельзя сказать, что принципы возложения на ответчика бремени доказывания глубоко укоренились в судебной практике. С одной стороны, можно найти немало соответствующих постановлению № 7 примеров указания на невыполнение ответчиком обязанности доказательств существования иной причины возникновения убытков5 и необоснованности возложения этого бремени на истца6. С другой стороны, распространены и дела, где об ответчике вовсе не упоминается или же формулировка постановления № 7 о случаях, когда наличие причинности предполагается, толкуется как создающая обязанность истца доказать обычный характер таких последствий7 (впрочем, истцы тоже могут исходить из неверного подхода, будто для взыскания упущенной выгоды достаточно доказать
4См., напр.: постановление АС Дальневосточного округа от 25.02.2016 № Ф03-366/2016.
5См.: постановление Третьего ААС от 05.12.2017 по делу № А33-12783/2017; Девятого ААС от 19.07.2018 № 09АП-23056/2018 по делу № А40-241978/2016; Семнадцатого ААС от 13.08.2018 № 17АП-9053/2018- ГК по делу № А60-61635/2017.
6См.: постановления АС Западно-Сибирского округа от 05.07.2018 № Ф04-2462/2018 по делу № А039525/2017; АС Волго-Вятского округа от 24.06.2016 № Ф01-1898/2016 по делу № А17-2148/2015.
7См.: постановления АС Московского округа от 01.08.2018 № Ф05-11318/2018 по делу № А40166935/2017; Тринадцатого ААС от 06.12.2017 № 13АП-28427/2017 по делу № А56-19279/2017.
101

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
лишь факт несвоевременной поставки, и тогда вопрос суда о доказательствах типичности разумен8). Обязанность доказывания обычности последствий расширяет пределы судебного усмотрения, поскольку пока что непонятно, что именно может быть таким доказательством. Скажем, сработают ли примеры из судебной практики о признании наличия причинно-следственной связи в схожих делах?
Комментируемое определение не сделало исключения и для вопроса о доказывании мер, принятых для уменьшения ущерба, хотя это прямо противоречит абз. 1 п. 5 постановления № 7. В итоге определение поощряет правонарушителей занимать пассивную позицию, поскольку предполагается, что суд будет действовать самостоятельно. Если ВС РФ продолжит практику выражения таких позиций и их смысл будет воспринят окружными, а затем и нижестоящими судами, то одну из важнейших новелл постановления № 7 можно будет признать фактически отмененной. Задача ответчика тогда опять сведется к тому, чтобы просто выразить свое несогласие с иском, а истцам придется представлять суду тот объем доказательств, которого в ряде случаев может и не быть.
Доказывание упущенной выгоды
Коллегия указала, что при новом рассмотрении необходимо более тщательно проверить доказательства упущенной выгоды. В частности, договор завода и третьего лица не позволял установить, сколько янтаря должно было быть использовано для изготовления заказанных ювелирных изделий. Само по себе это логичное замечание, так как не обязательно весь объем заказанного сырья предназначался только для одного договора. Однако в данном случае этот аргумент должен был высказать и доказать ответчик.
Также, по мнению Коллегии, нужны были доказательства конкретных приготовлений завода к производству с учетом количества товаров, времени и цикла их изготовления, срока поставки и экономическое обоснование размера упущенной выгоды. Информация о приготовлениях действительно важна для вопроса об упущенной выгоде, ведь могла сложиться ситуация, когда истец не готовился полностью к исполнению договора, и потому в любом случае все равно не смог бы его исполнить, т.е. имели бы место две равносильные причины неисполнения, а не только нехватка сырья.
Это как раз тот самый вопрос о причинно-следственной связи между нарушением и последствиями, но каким способом она должна устанавливаться? Можно признать это бременем доказывания или истца (что не было ни одной иной причины неисполнения), или ответчика (что была хотя бы одна иная причина). Отнесение его к предмету нового рассмотрения в отсутствие аргументов ответчика показывает, что Коллегия заняла очень консервативную позицию, по которой все доказывать должен истец. Кроме того, ни о каком балансе вероятностей тут речи не идет, а потому складывается впечатление, что Коллегии нужна абсолютная уверенность в том, что два нарушения связаны. Получается, что от истца требуется описать во-
8См.: постановление АС Поволжского округа от 24.11.2016 № Ф06-13375/16 по делу № А65-31732/2015.
102

Свободная трибуна
обще все свои производственные процессы за несколько месяцев, показать свои активы, основные средства, результаты инвентаризации и т.д., потому что без такого аудита останется вероятность того, что он не смог бы исполнить договор. Но, как уже отмечено выше, истец многое доказывал в процессе, а Коллегия не конкретизировала, чего именно не хватило.
В данном деле приготовления дополнительно помогут обосновать реальность заключенного договора. Ее Коллегия, по сути, еще не признала доказанным, раз обратила внимание на формальные проблемы соотнесения полученных сумм предоплаты именно с этим заказом (иначе зачем это упоминать, ведь для появления упущенной выгоды не имеет значения условие договора о предоплате или поставке в кредит). Внимание к авансу при этом тоже очень строгое: притом что факт перечисления аванса и его возврата не вызвали у Коллегии вопросов, получается, что какие-то негативные выводы могут быть сделаны из-за одних только недостающих или неточных счетов. Между тем в хозяйственном обороте авансирование не всегда связано с конкретными заказами, и стороны нередко учитывают просто общий кредитный баланс покупателя, поэтому вряд ли стоит придавать значение проблемам не того назначения платежа.
Описанные возражения Коллегии далеки от того, в каком направлении ВС РФ развивал практику ранее. Упущенная выгода по самой своей природе лишь потенциал, а не факт, а потому практика ее взыскания в любой правовой системе больше зависит не от объективных обстоятельств, а от того, каковы применяемые судами презумпции и субъективные стандарты доказывания. Например, может существовать практика применения более высоких или низких стандартов доказывания в определенных делах в зависимости от их категории или же от субъективной стороны нарушения (умысел ответчика). И с точки зрения текущего подхода судов можно сказать, что требование Коллегией активных действий истца находится в рамках того подхода, которому, к сожалению, продолжают следовать суды.
В российской судебной практике по отношению к упущенной выгоде ранее существовало довольно ограничительное формальное толкование п. 4 ст. 393 ГК РФ о предпринятых кредитором для ее получения мерах и сделанных с этой целью приготовлениях. Для доказательства мер и приготовлений обязательно нужны были конкретные документы9, и именно поэтому в постановлении № 7 была сделана попытка изменить ситуацию. Данное в абз. 2 п. 3 разъяснение, что для обоснования упущенной выгоды можно представить не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, но и любые другие доказательства возможности ее извлечения, должно было помочь перевести спор из формальной плоскости в рассмотрение всей совокупности обстоятельств по делу. Для любой судебной практики очень важно, когда нет фактически заранее определенной силы какихлибо видов доказательств и в принципе возможна дискуссия, опирающаяся на самые разные способы доказывания и контраргументы.
Более спорен пример, приведенный в абз. 3 п. 3 постановления № 7: доказывание упущенной выгоды за период прекращения работы магазина может производиться
9Например, нужны были заключенные основные договоры, а не предварительные, см.: постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.08.2003 по делу № Ф04/3825-1232/А27-2003.
103

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
по данным о продаже розничных товаров в предыдущие или последующие периоды. В таких случаях возможно действие внешних факторов (скажем, сезонности или выхода новой модели популярного товара). Возникает вопрос: если ответчик такой способ расчета не оспаривает детально, должен ли это делать суд? Опять же постановление № 7 говорит только о розничных продажах, и тут, скорее всего, можно предложить расширительное толкование. Упущенная выгода может доказываться расчетом по прошлым периодам, если речь идет о реализации покупателям большого количества товаров, когда сведения по конкретным сделкам собрать невозможно, но и сам объем сделок довольно постоянен. У многих предприятий, работающих в сфере B2B, это не так. К сделкам между такими предпринимателями расчет по предшествующим или последующим периодам может допускаться судом только тогда, когда истец покажет некий стабильный объем продаж и их массовость. Но это прямо не выражено в тексте постановления, а потому судьи не всегда анализируют суть бизнеса истца. При этом было бы лучше, если бы в постановлении было прямо сказано о презумпции релевантности расчета по схожим периодам с правом ответчика опровергать ее своими доказательствами — иначе это тоже может превратиться в судебное следствие.
При этом самым большим пробелом постановления № 7 в отношении смягчения стандартов доказывания можно назвать отсутствие запрета судьям отвергать доказательства истца без подробной мотивировки причин их недостаточности. Если судьи так и будут ограничиваться констатацией факта недоказанности, то развитие судебной практики замедлится, поскольку истцам будет неясно, что нужно делать. К сожалению, так поступила и Коллегия в комментируемом определении.
Еще одной проблемой стало то, что постановление № 7 касалось только отхода от формального понимания мер и приготовлений, предпринятых для извлечения дохода. В нем никак не была затронута тема доказывания истцом реальной возможности извлечения прибыли. Такое деление (на меры и приготовления, с одной стороны, и возможность извлечения — с другой) с логической точки зрения довольно странное и не имеет прямой опоры на текст закона, но оно давно и прочно сложилось в российской судебной практике. Скорее всего, категория реальной возможности исполнения обязательства, если бы оно не было нарушено, появилась как истинное понимание мер и приготовлений, раз сами эти слова стали сводиться к формальному признаку заключенных договоров или в лучшем случае коммерческих предложений или переговоров.
Доказывание реальной возможности исполнения обязательства получается широкой категорией. Это часть вопроса о причинно-следственной связи: истец имеет на руках довольно просто доказываемые факты нарушения договора ответчиком и спровоцированного этим фактом нарушения истцом своих обязательств перед третьим лицом, но сложнее определить, было ли одно нарушение необходимой и достаточной причиной второго. Получается, что сегодня действует презумпция недобросовестности истца, который, если не докажет обратного, будет лишен судом права на возмещение упущенной выгоды. Иными словами, по умолчанию предполагается, что все истцы заключают договоры без возможности их исполнить либо утрачивают эту возможность к моменту нарушения со стороны ответчика.
При всей важности вопроса о возможности реального исполнения он почти не проработан в судебной практике. Понятие четко не определено и не поддается от-
104

Свободная трибуна
делению от мер и приготовлений, так что требуемые судом пределы доказывания этой возможности могут быть весьма широкими. Такие ситуации, как наличие двух равнодействующих причин неисполнения договоров с третьими лицами, остаются неурегулированными. Представляется, что реальную возможность исполнения не стоит делать отдельным элементом доказывания, отличным от мер и приготовлений, так как смысл должен быть просто в том, что возможность получения прибыли должна основываться на фактах реального мира, а не на субъективных ощущениях и планах истца.
Положительным изменением в текущей судебной практике стало то, что допускается довольно широкий круг доказательств реальной возможности исполнения.
Внастоящее время можно встретить немало примеров, когда суды стали хорошо изучать обстоятельства и определять разумный размер упущенной выгоды. Например, в одном деле сельскохозяйственные работы ответчика уничтожили насаждения многолетних трав истца, использовавшихся для производства сенажа на корм скоту. В итоге истцу удалось взыскать упущенную выгоду от уменьшения реализации молока и мяса, т.е. доказать несколько этапов причинно-следственной связи. Суд изучил особенности бизнеса, сведения об урожайности, объеме производства, статистику и т.д. и принял обоснованное решение10.
Вделе о последствиях просрочки ремонта автомобиля окружному суду пришлось направить дело на новое рассмотрение11, поскольку суды нижестоящих инстанций требовали от истца невозможного. Истец, как это позволяет п. 3 постановления № 7, рассчитывал свою упущенную выгоду в период простоя по данным о предыдущих и последующих периодах использования автомобиля, предоставил по ним все документы, вычел детально все расходы. Он неоднократно пояснял, что заявки в период простоя он не оформлял во избежание увеличения убытков, связанных с возможным применением штрафных санкций по неисполненным обязательствам, зная, что транспортное средство находится в ремонте. Однако суды решили, что упущенная выгода не доказана, поскольку истец не обосновал, что в период простоя было бы такое же количество заявок и автомобиль использовался бы ежедневно, а также не доказал, что были приняты все меры по уменьшению ущерба. При новом рассмотрении убытки были взысканы. Можно сказать, что к истцу все равно подошли мягко, так как не потребовали доказать, что нельзя было арендовать транспортное средство на время ремонта.
Вдругом схожем деле было отказано во взыскании упущенной выгоды за период простоя неисправного транспортного средства, поскольку суды установили, что в это время автопарк истца не был полностью загружен, так что отсутствие недостатков ни на что бы не повлияло (помимо этого, истец не смог ни рассчитать доход на одну единицу техники, ни вычесть из дохода расходы, чтобы получить норму прибыли, а также суды поставили вопрос о возможности аренды как меры по уменьшению ущерба)12.
10См.: постановление АС Северо-Кавказского округа от 14.06.2017 № Ф08-3836/2017 по делу № А538283/2016.
11См.: постановление АС Центрального округа от 02.02.2017 № Ф10-5816/2016 по делу № А08-2917/2016.
12См.: постановление АС Поволжского округа от 13.02.2018 № Ф06-29040/17 по делу № А65-30036/2016.
105

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Вделе об убытках, причиненных производству аварией, произошедшей по вине подрядчика, суды уменьшили размер упущенной выгоды из-за того, что она была обоснована лишь отчетом оценщика, без документов, подтверждающих себестоимость реализации и коммерческие расходы (ранее в таких обстоятельствах в иске могло быть отказано, но в текущих условиях суд самостоятельно рассчитал упущенную выгоду на основе финансовых показателей за прошлые периоды)13.
Вделе, где ответчик препятствовал доступу в помещения истца и их нельзя было сдать в аренду, истец смог взыскать убытки, доказав размер упущенной выгоды с помощью договоров аренды, заключенных истцом с арендаторами до момента начала создания ответчиком препятствий к использованию14.
Еще одно дело касалось простоя камер изготовления продукции, и типичная недельная стоимость выпускаемой продукции была подтверждена налоговой декларацией по НДС и книгами продаж15. Для подтверждения суммы, на которую предприятие за неделю в среднем выпускает продукцию 11 911 000 руб., истец представил налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость и книги продаж за II и III кварталы 2014 г.
Таким образом, презумпция верности ретроспективной статистики не является инструментом прямого действия. Благодаря постановлению № 7 в практику хорошо проникла сама идея того, что можно использовать данные о прежних или последующих периодах, но во всех случаях требуется их документальное обоснование. Односторонние документы и расчеты не принимаются — в духе этого и определение Коллегии по комментируемому делу, в котором критикуется неподтвержденный расчет дохода.
Также суды в основном правильно конкретизируют предмет доказывания. Они, например, отказывают во взыскании убытков только за простой производства, если истец полагает, будто ему достаточно доказать лишь факт несвоевременной поставки сырья со стороны ответчика. Сам по себе простой, вызванный недопоставкой сырья, автоматически не является необходимой и достаточной причиной возникновения убытков. Убытки будут вызваны лишь тем, что вследствие простоя не будут исполнены какие-либо договоры, причем неисполнение в один период не будет компенсировано увеличением продаж в последующие периоды после получения сырья16. Поэтому по таким делам важно изучать все обстоятельства комплексно: например, существуют ли прежние запасы сырья (топлива или иных необходимых материалов)17. Скажем, в одном деле ОАО «ГАЗ» не удалось взыскать убытки, используя некую внутреннюю методику определения стоимости каждой минуты про-
13См.: постановление АС Волго-Вятского округа от 11.01.2018 № Ф01-6128/17 по делу № А28-513/2017.
14См.: определение ВС РФ от 27.07.2016 № 306-ЭС16-8389 по делу № А65-30386/2014.
15См.: постановление АС Московского округа от 20.04.2016 № Ф05-4218/2016 по делу № А4084828/2015.
16См.: постановление АС Поволжского округа от 24.11.2016 № Ф06-13375/16 по делу № А65-31732/2015.
17См.: постановление АС Дальневосточного округа от 09.06.2017 № Ф03-1893/17 по делу № А7311467/2016.
106

Свободная трибуна
стоя, вычисленной по данным годового бюджета, зарплат и иных расходов18. Суд не принял ни внутренние односторонние документы о простое, ни методику саму по себе, так как она тоже была лишь внутренним документом предприятия, не подтвержденным документально. Суд справедливо указал, что сам факт невыполнения истцом суточного плана не свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между поставкой компонентов ненадлежащего качества, невыполнением суточного плана их поставки, простоем и убытками — все это нужно доказывать отдельно.
Сложность подхода к доказыванию реальной возможности исполнения договора связана с тем, что суды ищут все возможные причины неисполнения. Это требует солидных трудозатрат на полное документирование жизни предприятия. При этом истцу, по сути, приходится объяснять суду все нюансы работы его предприятия, а многие подтверждающие документы оказываются внутренними документами и воспринимаются с подозрением. Жаль, что в российском законодательстве и судебной практике ослабление стандарта доказывания произошло пока что лишь в отношении размера (расчета) убытков. Это было сделано двумя путями: во-первых, через указание на необходимость доказывать размер убытков и при- чинно-следственную связь с разумной степенью достоверности19, а во-вторых, через запрет отказывать в иске в случаях, если даже с такой степенью размер убытков установить не получается20. Но размер убытков является только одним из подлежащих доказыванию обстоятельств, поэтому остальные элементы иска о взыскании договорных убытков остаются проблематичными.
При этом достоверность расчета упущенной выгоды не тождественна причин- но-следственной связи, поскольку, кроме того, необходимо обосновать сам факт ущерба, его природу и размер. Достоверность — это качество любых доказательств, которое характеризует степень рациональности их обоснования. Достоверность в отношении упущенной выгоды прежде всего значима там, где ситуации не сводятся к простым и очевидным следствиям нарушения договора. Например, если нарушение состоит в просрочке поставки конкретной вещи, которая должна была быть перепродана без изменений, упущенная выгода обосновывается относительно легко. Если же затронуты более сложные хозяйственные операции, то круг необходимых доказательств сильно расширяется. Требования к качеству и объему этих доказательств неизбежно оказываются субъективными и зависящими от внутренних убеждений и знаний судей. Не существует универсальных правил, которые могли бы четко описать требуемый предел достоверности убытков, поскольку абстрактные правовые нормы не могут полностью определить решение судьи относительно конкретных фактов. Далеко не все презумпции и стандарты доказывания могут быть зафиксированы в законе или толкованиях высших судебных органов. Мы можем судить о них лишь со стороны, изучая тенденции в общей массе подобных дел.
18См.: постановление Первого ААС от 08.10.2014 № 01АП-5966/14 по делу № А43-12657/2014.
19См.: п. 5 постановления № 7; п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
20См.: п. 5 ст. 393 ГК РФ; п. 4 постановления № 7.
107

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Политико-правовой выбор стандарта доказывания не так уж однозначен. Определяя то, что надо признать разумной достоверностью, суды должны, с одной стороны, не пропустить откровенно чрезмерные необоснованные требования, а с другой — не сделать доказывание совсем непосильным для добросовестных истцов. Здесь трудно найти золотую середину. Кроме того, даже строгий стандарт достоверности имеет свои плюсы, так как ограничивает и делает более предсказуемыми договорные риски (особенно по сравнению с ситуацией, когда мягкий стандарт применяется даже к неумышленным нарушениям). Вместе с тем необходимость поднимать документацию обо всех хозяйственных операциях для обоснования упущенной выгоды от одного договора не является нормальной и делает подобные дела стоящими лишь при многомиллионных убытках, как в комментируемом деле.
Конечно, даже самый мягкий стандарт доказывания не должен наделять упущенную выгоду качеством универсального средства защиты. Задачу истца нельзя считать выполненной во всякой ситуации, когда он представил наилучшие возможные в конкретной ситуации доказательства. Вполне нормально, что бывают случаи, когда даже максимум приложенных усилий все равно не позволит приблизиться к необходимому уровню достоверности. Но это должно зависеть от сути самой ситуации как объективно неопределенной, а не нормальной, но представляющей трудности по сбору документов. Например, если арендодатель задержал открытие магазина арендатора, то доказать упущенную выгоду с разумной степенью достоверности можно лишь по данным о прибыли в последующие периоды, а ретроспективные сведения о прибыли не очень применимы к некоторым сферам бизнеса: например, при срыве развлекательного или спортивного мероприятия до продажи билетов не будет релевантной информация о посещаемости в прошлом. Защита прав в подобных ситуациях находится за пределом практического назначения института убытков и может осуществляться лишь иными инструментами.
Подводя итог, можно сказать, что в части требований, предъявленных к доказыванию упущенной выгоды, в комментируемом деле определение Коллегии по степени жесткости подхода к оценке объема и достоверности доказательств, предъявленных истцом, соответствует не постановлению № 7, а сложившейся судебной практике. В отличие от Коллегии, суд апелляционной инстанции как раз применил разумную степень достоверности к данным о возможности исполнить договор, не оспоренным ответчиком. Так что это та ситуация, когда наиболее распространенная судебная практика остается чрезмерно требовательной к истцам и определение баланса вероятностей не производится. И хотя в постановлении № 7 упор делается на то, что истец должен предполагаться добросовестным во многих элементах предмета доказывания (например, в вопросе разумности цены замещающих сделок), в отношении убытков этого пока что нет, что является нелогичным и пагубным для взыскания убытков. Получается, что само по себе указание на разумную степень достоверности не работает, а применительно к упущенной выгоде к тому же не видно устойчивого понимания судами, что по самой своей природе ее расчет, представленный истцом, как правило, является приблизительным и носит вероятностный характер, а потому это не должно быть поводом для отказа в иске.
108

Свободная трибуна
Убытки в размере санкций по договорам с третьим лицом
Третьим вопросом комментируемого определения стало то, вправе ли завод взыскивать в качестве убытков неустойку (отступное), заплаченную третьему лицу. Интересно, что Коллегия прямо не сказала, что такие неустойки не являются убытками, — вопрос как бы сведен к тому, что необоснованно переносить на поставщика риск повышенных санкций, который на себя взял завод. Но в сложившейся практике, описанной ниже, часто эта фраза означает отказ в возмещении всей суммы таких убытков.
Это совершенно отличается от тезиса суда апелляционной инстанции в этом деле. Он в духе постановления № 7 отметил, что обычным для гражданского оборота последствием неисполнения обязательства поставить сырье производителю товара является неисполнение последним обязательств по изготовлению товара и его передаче контрагентам по договорам поставки или подряда, что, в свою очередь, может повлечь применение штрафных санкций, отказ контрагента от договора, предъявление требования о возмещении убытков. Таким образом, было указано на то, что есть основание для применения презумпции наличия причинной связи между нарушением со стороны ответчика и убытками первоначального истца. Доказательств в опровержение презумпции ответчик не представил.
Если вспомнить, что цель убытков — поставить кредитора в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом (абз. 2 п. 2 ст. 393 ГК РФ), то это невозможно сделать без компенсации неустоек за нарушение договоров с третьими лицами. Нужно только доказать причинно-следственную связь между этими нарушениями. Но она сама по себе не может быть единственным пределом возмещения убытков, поскольку ее можно проводить довольно далеко. Требуются иные способы отделения убытков, которые слишком отдалены от нарушения, но подобных институтов в российском гражданском праве нет (например, отсутствует принятая во многих странах доктрина взыскания только предвидимых убытков). В результате суды иногда чувствуют некую несправедливость в переложении на ответчика в полном размере санкций, размер которых был определен в договоре истца с третьими лицами, независимо от того, была ли на то воля истца или же он был в слабой переговорной позиции.
Коллегия уже неоднократно обращалась к этой теме, причем даже тогда, когда ставки уплаченных неустоек соответствовали общепринятым. Например, в одном деле был сделан вывод, что «ответчик, не являясь стороной договоров поставки, не имел возможности повлиять на размер неустоек, предусмотренных истцом и его контрагентами, ставки которых существенны и составляют 0,1% и 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки исполнения обязательства», и в результате такие убытки полностью были отклонены21. Такое же мнение Коллегия повторила и в других делах, т.е. оно уже стало устойчивым подходом. Так, в более позднем деле Коллегия указала не только на отсутствие возможности влиять на условия чужого договора, но и на то, что нужно установить, был ли ответчик осве-
21 |
Определение ВС РФ от 15.12.2015 № 309-ЭС15-10298 по делу № А50-17401/2014. |
|
109

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
домлен о такой ответственности своего контрагента перед третьими лицами и мог ли ее предвидеть22.
Тот же подход использовали и многие нижестоящие суды. Так, было отказано в передаче кассационной жалобы на рассмотрение Коллегии в процессе, где суды апелляционной и кассационной инстанций тоже опирались на невозможность влиять на условия договора истца с третьими лицами. Там же было указано, что пени в размере 0,5% от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки превышают обычный размер неустойки, а истец должен был проявить активную позицию по выдвинутому к нему требованию об уплате санкций (протоколировать свои разногласия при подписании такого договора, своевременно его расторгать в связи с невозможностью его исполнения по вине третьих лиц и т.п.). В итоге судом убытки были рассчитаны по ставке неустойки 0,05%23. В еще одном деле суды установили, что истец в договоре со своим покупателем согласился на условие о неустойке в размере 0,3% в день задолго до заключения договора поставки, но не уведомил о том ответчика, что нарушило принцип предвидимости убытков и увеличило размер ответственности без волеизъявления ответчика. Во взыскании таких убытков было отказано в полном размере24.
На необходимость учета позиций ВС РФ, выраженных в вышеуказанных определениях, в недавнем деле сослался Арбитражный суд Московского округа. Он также дополнил это утверждением, что невыполнение истцом договорных обязательств перед третьими лицами и, как следствие, уплата им санкций — это «риск предпринимательской деятельности, который истец должен осознавать и нести, как хозяйствующий субъект при заключении гражданско-правовых договоров» (дело направлено на новое рассмотрение)25. Еще один пример — дела, где суды, помимо невозможности влиять на условия чужих договоров, назвали слишком существенными (имея в виду чрезмерность) установленные в них неустойки 0,1%26 или 0,2%27 от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Наконец, есть и дело, где в апелляционной инстанции размер взыскиваемых с ответчика убытков от неустоек, уплаченных истцом, был уменьшен путем пересчета ставок неустоек: с 0,15 и 0,2% до 0,1% за каждый день просрочки, однако даже 0,1% суд кассационной инстанции счел слишком большой ставкой, и в иске полностью отказал28.
22См.: определение ВС РФ от 30.11.2017 № 307-ЭС17-9329 по делу № А13-4150/2015.
23См.: определение ВС РФ от 18.12.2017 № 301-ЭС17-19815 по делу № А79-9323/2016.
24См.: постановление АС Московского округа от 29.01.2016 № Ф05-20779/15 по делу № А40-25617/2015.
25Постановление АС Московского округа от 01.08.2018 № Ф05-11318/2018 по делу № А40-166935/2017.
26См.: постановления АС Западно-Сибирского округа от 22.05.2017 № Ф04-878/2017 по делу № А455020/2016; Восемнадцатого ААС от 23.05.2018 № 18АП-4801/2018 по делу № А07-39550/2017; Первого ААС от 30.05.2016 по делу № А43-29812/2015; Двенадцатого ААС от 26.05.2017 № 12АП-5303/2017 по делу № А57-31305/2016.
27См.: постановление Семнадцатого ААС от 08.09.2016 № 17АП-10745/2016-ГК по делу № А6013097/2016.
28См.: постановление АС Северо-Кавказского округа от 14.03.2016 № Ф08-368/2016 по делу № А532541/2015.
110

Свободная трибуна
Подобные отказы во взыскании убытков или их пересчет по усмотрению суда уже стали очень частым явлением судебной практики, причем они стали встречаться даже раньше вынесения тех определений ВС РФ29.
Ранее существовала позиция ВАС РФ, согласно которой в предпринимательской деятельности товар, как правило, приобретается с целью дальнейшей перепродажи и договор на его перепродажу может быть заключен позднее. При таких условиях любой разумный продавец должен предвидеть, что неисполнение им своих обязательств по поставке товара может, в свою очередь, повлечь неисполнение обязательств покупателя перед другим лицом и возникновение у него ущерба30.
На ту же позицию ВАС РФ ссылался другой суд в редком деле, где истец (ООО «СИБУР Тобольск») успешно возместил убытки в размере неустойки, заплаченной своему аффилированному контрагенту (ПАО «СИБУР Холдинг»)31. Там суд, кроме того, выразил две важные позиции: 1) признание и добровольная уплата неустоек и убытков третьим лицам не свидетельствует о недобросовестности истца, так как исполнение обязательства является нормой в гражданском праве и входит в предвидимое поведение; 2) сама по себе аффилированность не имеет установленных законом последствий в виде запретов доказывать убытки или повышенного стандарта доказывания, а влияние ее на условия договоров в данном случае не выявлено. Такой подход представляется обоснованным и разумным.
На эту точку зрения ВАС РФ ссылался в комментируемом деле и суд апелляционной инстанции. Таким образом, отменяя его решение, Коллегия фактически указала на то, что та позиция больше не может использоваться. Пусть в тексте она утверждала, что для компенсации всего размера такого ущерба требуется некое деление на обычный и чрезмерный риск, принятый на себя истцом, но по опыту иных решений видно, что это только слова, и во взыскании таких убытков Коллегия хочет отказывать полностью.
Если попытаться выделить норму из приведенной судебной практики, то, по сути, ВС РФ предложил критерий возможности взыскивать только те убытки, на размер которых ответчик мог повлиять (ведь нет повода для этих целей отличать неустойку от иных расходов истца). Одновременно практика пытается как-то связать это с тем, что такие убытки не были предвидимыми.
Представляется, что критерий волеизъявления нельзя признать рабочим. Он не может быть выведен из основных принципов возмещения убытков. По тому же
29См.: постановления АС Поволжского округа от 20.09.2016 № Ф06-12482/2016 по делу № А55-26646/2015, от 11.04.2018 № Ф06-31077/2018 по делу № А12-19427/2017; АС Московского округа от 14.12.2017 № Ф0518113/2017 по делу № А41-11446/2017, от 19.09.2017 № Ф05-12915/2017 по делу № А40-2566/2017; АС Уральского округа от 25.10.2016 № Ф09-9248/16 по делу № А60-61526/2015, от 04.07.2016 № Ф09-6363/16 по делу № А76-12896/2015; Девятого ААС от 22.09.2017 № 09АП-40405/2017 по делу № А40-235688/16- 91-2136; Седьмого ААС от 06.04.2018 № 07АП-1121/2018 по делу № А27-8391/2017.
30См.: постановления Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 № 15078/12 по делу № А40-36805/12-37-133, от 05.03.2013 № 13491/12 по делу № А40-119164/11-7-1065.
31См.: постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.03.2017 № Ф04-6853/16 по делу № А7014941/2015.
111

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
основанию пришлось бы исключить возмещение очень многих расходов лиц, чье право было нарушено, — например, всех расходов, которые зависят от рыночных цен, а не от воли кредитора и должника. Неверно и то, что суды смешивают этот критерий с принципом предвидимости. Возникает вопрос: смогли бы они принять иные решения, если бы истец доказал, что о размере санкций по договорам с контрагентами он уведомлял ответчика до заключения договора?
Упоминание предвидимости само себе также нельзя признать удачным. Во-первых, его ошибочно связывают с толкованиями из постановления № 7 об обычных последствиях нарушения. Однако обычные последствия нарушения описаны в постановлении как объективные факты, а не вопрос субъективных знаний должника. Кроме того, последствием отсутствия обычного характера таких последствий
втаком случае должно быть оставление бремени доказывания на истце, а не отказ
виске. Во-вторых, предвидимость нельзя вводить в число инструментов судебной практики без целостного объяснения, так как простое упоминание приводит нас к массе вопросов, на которые пока нет ответа. Например, нам потребуется определить, идет ли речь о предвидении конкретного должника или же о предположении поведения абстрактного разумного лица на месте должника, т.е. выделение убытков, которые ответчик (1) мог и должен был предвидеть; (2) мог, но не должен был предвидеть; (3) не мог, но должен был предвидеть. В связи с этим нужно будет решить, каковы значение и сфера распространения специальных знаний ответчика, которыми он должен обладать в силу профессии, в какой момент и каким способом кредитор должен сообщать специальную информацию об обстоятельствах и т.д. Таких практических нюансов в отношении принципа предвидимости очень много.
Еще одно следствие негативного отношения судов к неустойкам в договорах с третьими лицами состоит в том, что они подвергают критике ставки неустоек в духе прежней негативной практики по уменьшению неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами. Ставки критикуются в качестве абстрактных условий договоров, без учета последствий неисполнения, причем даже тогда, когда они имеют нормальные для оборота значения 0,1–0,3% от суммы неисполненного обязательства за день просрочки. Такие размеры неустоек, надо сказать, стали использоваться благодаря тому, что вопрос их снижения был относительно нормализован толкованиями ВАС и ВС РФ32. Здесь же суды при разборе ставок неустоек, взыскиваемых в составе убытков, не чувствуют себя скованными никакими из ограничений применения ст. 333 ГК. В связи с этим, думается, не стоит для решения вопроса о праве истца на такие убытки привлекать категорию обычных условий оборота, иначе она как раз направит суды на критику размеров неустоек.
Итак, как отмечено выше, вопреки фактической позиции Коллегии и многих нижестоящих судов, компенсация неустоек и иных санкций, которые должны быть выплачены кредитором третьим лицам вследствие нарушения должником договора, по сути направлена на помещение кредитора в такое положение, как если бы договор не был нарушен. Следовательно, эти санкции являются убытками по своей природе. Пока что иное прямо судами не утверждается (тем более что полностью в таких убытках не отказывают, а лишь пересчитывают их по усмотрению
32 |
См.: постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81; п. 73 постановления № 7. |
|
112

Свободная трибуна
суда), и этот вопрос обходится через отказ в признании их причинно-следствен- ной связи с нарушением.
Действительно, неустойки не возникают из норм закона, действующих по умолчанию. Они основаны на договорах, заключение которых с третьими лицами было волеизъявлением истца. Однако многие другие убытки тоже являются не необходимыми, а связанными с волеизъявлением истца. Например, заключение большого количества договоров на перепродажу товаров до получения от должника исполнения создает условия для взыскания значительной упущенной выгоды, однако пока суды не критикуют истцов за такое поведение. Не исследуют суды и нормы прибыли по таким договорам. В случаях, когда неисправный товар причинил вред имуществу истца, суды не критикуют истцов за то, что они, например, поместили товар рядом с иным дорогостоящим имуществом (на что ответчик не мог повлиять).
Примеры можно приводить и далее, но общее всегда будет в том, что нелогично обосновывать уменьшение размера убытков, вызванных уплатой неустоек, указанием на простое отсутствие причинно-следственной связи с нарушением договора ответчиком. Такое уменьшение не происходит в схожих категориях ущерба. Причинно-следственная связь показывает роль нарушения ответчика, которая выражается в срыве планов истца, действующего из ожидания того, что договор будет исполнен. Строго говоря, все убытки, понесенные в таком ожидании, должны быть компенсируемыми. Их размер должен ограничиваться на ином основании (тем более что для российской практики в целом полезно уменьшать ссылки судов на недоказанность причинно-следственной связи для отказа во взыскании убытков).
Подобным основанием по умолчанию, как нам кажется, может быть только недобросовестность истца, доказанная ответчиком. В частности, если установлено, что истец и третье лицо имели намерение таким образом искусственно увеличить убытки или же истец согласился на явно чрезмерный размер неустойки (таковым можно считать, например, ставку в размере десятикратного размера ставки рефинансирования, но никак не 0,1–0,5% за день просрочки), то оснований для их взыскания не имеется (в качестве последствия доказанной недобросовестности возможен и отказ в полном размере, а не уменьшение до справедливого размера, иначе попытка намеренно завысить неустойку будет беспроигрышной игрой). При этом суд не должен уменьшать размер таких сумм по ст. 333 ГК РФ, так как их природа уже изменилась, они являются убытками. Не должны ставиться в вину истцу сами по себе и такие признаки, как отсутствие протоколов разногласий к договору с третьими лицами или же добровольная оплата неустоек. Не должно быть основанием для отказа и то, что может возникнуть двойная ответственность, например если за одну и ту же просрочку взыскивается неустойка, установленная в договоре истца и ответчика, а также убытки в размере неустойки, установленной в договоре истца и третьего лица. Если неустойка в договоре истца и ответчика носила зачетный характер, то убытки взыскиваются в части, не покрытой ею. Если же неустойка была штрафной, то двойная ответственность является нормальным свойством этого средства обеспечения исполнения обязательств (для штрафной неустойки плохо подходят и критерии соразмерности последствиям нарушения, данные для применения ст. 333 РФ).
113

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Если взыскание убытков в размере неустоек, подлежащих оплате третьим лицам, станет нормальной ситуацией, это приведет к тому, что в обороте в договорах чаще будет ставиться вопрос о пределах ответственности сторон в случаях неумышленных нарушений. Сегодня можно сказать, что распространены такие варианты: исключение упущенной выгоды; ограничение размера убытков ценой договора или иной суммой; калька с пунктов зарубежных договоров об исключении упущенной выгоды, косвенных, сопутствующих и т.п. убытков, а также молчание по этому поводу (включая бессмысленную фразу о том, что стороны несут ответственность по законодательству РФ). Детализация по видам невозмещаемого реального ущерба встречается редко. Еще одним следствием переноса неустоек будет улучшение положения посредников и производителей, чьи поставщики находятся в более сильной договорной позиции и не позволяют добавлять в договор достаточные санкции за его нарушения. Тем самым возможно и улучшение договорной дисциплины, особенно в сферах, где имеется высокая концентрация капитала и положение крупных компаний, близкое к монополии, из-за чего их контрагенты остаются без возможности установить в договоре одинаковую для обеих сторон разумную ответственность.
При этом перенос неустоек вряд ли может получить широкий размах. Во-первых, его всегда будет ограничивать необходимость доказать, что нарушение договора с третьим лицом в качестве необходимой и достаточной причины вызвано нарушением договора ответчиком, а это не так легко. Во-вторых, станет более значимым вопрос о мерах для уменьшения ущерба, ведь чем выше неустойки, тем выше показатель разумности усилий, которые должен проявить должник для минимизации санкций.
Выводы
В данном деле получилось так, что самый обоснованный и соответствующий постановлению № 7 акт был написан судом апелляционной инстанции. Комментируемое определение Коллегии не содержит явно выраженной правовой позиции по вопросам взыскания упущенной выгоды и перераспределения бремени доказывания. Тем не менее само отсутствие учета деталей этих вопросов при отмене обоснованных актов нижестоящих судов должно оцениваться как ошибочное, поскольку может пагубно воздействовать на судебную практику. В вопросе о возможности взыскания в качестве убытков неустоек, уплаченных истцом третьим лицам, определение также можно оценить негативно, поскольку оно продолжает практику их фактического отрицания.
Information about the author
Anton Tomsinov — Head of Legal Department at Scania-Rus, PhD in Law (e-mail: tomsinov@gmail.com).
114

Свободная трибуна
Сергей Львович Будылин
советник Адвокатского бюро «Бартолиус»
Гонорар успеха по договору на лоббистские услуги: опыт США
В одном известном деле, разрешенном Верховным судом США в 1906 г., обсуждался вопрос о юридической силе договора на оказание лоббистских услуг. Судья Оливер Холмс сформулировал два тезиса на этот счет. Во-первых, цель договора — а именно обеспечение исполнителем принятия нужного клиенту закона — противна публичному порядку, а потому договор в целом недействителен. Кроме того, договор содержит положения, по существу, эквивалентные выплате лоббисту гонорара успеха в случае принятия нужного закона. По мнению судьи Холмса (и это во-вторых), положения о гонораре успеха тем более не подлежат судебной защите, поскольку дополнительно усиливают коррупционные стимулы, свойственные любому договору на оказание платных лоббистских услуг.
За прошедшее столетие в США многое изменилось. Лоббизм сегодня считается респектабельной и хорошо регулируемой профессией. Ввиду этого первый тезис судьи Холмса утратил актуальность. А вот второй, насчет запрета гонорара успеха, пока что остается в силе.
Ключевые слова: лоббизм, гонорар успеха, США, публичный порядок
115

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Sergey Budylin
Legal Advisor at the Bartolius Law Office
Contingent Fee in a Lobbying Contract: US Experience
In a famous case decided by the US Supreme Court in 1906, the issue of the enforceability of a lobbying contract was discussed. Justice Oliver W. Holmes laid down two propositions. First, the purpose of the contract — namely, ensuring the adoption of legislation advantageous for the client — runs counter to public policy, and, therefore, the contract as a whole is void. Besides that, the contract contains provisions in effect equivalent to paying the lobbyist a contingent fee if the legislation is adopted. In the opinion of Justice Holmes (and this is secondly), contingent fee provisions are a fortiori unenforceable because they additionally increase the corrupt incentives characteristic of any contract for paid lobbying services.
During the last century, many things have changed in the US. Today lobbying is regarded as a respectable and well-regulated profession. Accordingly, the first proposition of Justice Holmes is no longer relevant. But the second one, concerning the ban on contingent fees, is still in force.
Keywords: lobbying, contingent fee, US, public policy
Вавгусте 2018 г. внимание российской правовой общественности привлекло1 сообщение газеты «Коммерсантъ»2 о том, что Банк ВТБ заказал Адвокатскому бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» услуги по разработке и продвижению определенных поправок к Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о госзакупках). Согласно статье, в частности, ВТБ хочет ввести институт специальных (подчиненных осо-
бым правилам) банковских гарантий для целей госзакупок.
Поскольку Банк ВТБ на 61% государственный, то информация об этом заказе (включая текст договора) была опубликована3, в результате чего о нем и узнали журналисты.
Если точнее, заказ предусматривает оказание «услуг по сопровождению обсуждения и принятия согласованных с Банком поправок в целях совершенствования законодательства о государственных и муниципальных закупках». Оплата услуг должна производиться в два этапа: фиксированная сумма в 15 млн руб. — после первого чтения поправок в Госдуме, гонорар успеха до 31,5 млн руб. — после подписания закона Президентом. При этом адвокаты обязуются, помимо прочего, «не выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам для оказания
1См., напр., дискуссию в блоге А. Карапетова: https://www.facebook.com/karapetovag/posts/ 2135075380092362.
2См.: Пушкарская А., Сапожков О. Госбанк вышел в лобби // Коммерсантъ. 2018. 23 авг. URL: https:// www.kommersant.ru/doc/3720478.
3Закупка № 31806668279. URL: http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents. html?regNumber=31806668279 (размещено 28.06.2018).
116

Свободная трибуна
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными неправомерными целями».
По сути, речь идет об оказании услуг по лоббированию желаемых банком поправок в Закон о госзакупках. Причем бóльшая часть вознаграждения адвокатов определяется успехом этого предприятия. Дополнительно адвокаты берут на себя договорное обязательство не подкупать депутатов.
Феномен лоббизма (как легального, так и нелегального) известен многим странам мира. Однако в России информация о предоставлении такого рода услуг впервые стала достоянием гласности. Допустимы ли подобные договоры в принципе? И если да, то допустим ли в них гонорар успеха?
Попробуем разобраться в этом вопросе, обратившись к опыту США.
***
Врач оказывает медицинские услуги, адвокат — юридические. А какие услуги оказывает лоббист? Видимо, политические. Ведь его задача — обеспечить принятие нужных клиенту решений структурами политической власти, такими как парламент и правительство.
Сегодня суммарные расходы на услуги лоббистов в США составляют миллиарды долларов в год. По некоторым оценкам, корпорации тратят на лоббирование своих интересов в Конгрессе больше, чем налогоплательщики на его содержание4. Между тем многим, в том числе и в Америке, сама концепция лоббизма представляется глубоко подозрительной.
Как на это может смотреть обыватель? Капиталист (а у кого еще есть такие деньги?) платит лоббисту за то, чтобы тот уговорил законодателей или чиновников принять закон или решение, нужное капиталисту. И лоббист, надо полагать, действительно добивается этой цели, иначе зачем его нанимают? Получается, кто заплатил деньги, в пользу того и принимают закон. И даже если исключить прямой подкуп государственных деятелей, то непонятно, как вся эта мутная деятельность соотносится с идеалами демократии и народного представительства. Ведь лоббист отстаивает в органах власти не ту позицию, которую диктует его гражданское самосознание, а ту, которая оплачена клиентом-капиталистом.
Но можно взглянуть на проблему и с другой стороны.
Каждый гражданин США имеет право обратиться к государственным органам с жалобами или предложениями, и это право даже закреплено в Конституции США (Первая поправка). Несомненно, гражданин может сделать это не только лично, но и через представителя. Что дурного в том, что гражданин заплатит этому представителю за наилучшее представление своих интересов? Ведь эта деятельность требует и высокой квалификации, и личных усилий, и способности налаживать личные контакты в высших кругах (имеется в виду законным образом). Это
4См.: Klein E. Corporations now spend more lobbying Congress than taxpayers spend funding Congress // Vox. 2015. 15 July. URL: https://www.vox.com/2015/4/20/8455235/congress-lobbying-money-statistic.
117

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
не говоря уже о расходах на сбор информации, разработку документов, организацию презентаций и т.п.
По сути, эта деятельность аналогична представлению интересов гражданина в суде, которое осуществляют адвокаты. Адвокаты ведь тоже работают над тем, чтобы наилучшим образом представить позицию клиента государственному органу (суду) и, желательно, добиться принятия им выгодного клиенту решения. Но почему-то деятельность адвокатов никто не считает заведомо мутной. И гонорары успеха у адвокатов в Америке — самое обычное дело.
Безусловно, коррупция — зло. Если лоббист подкупил депутата или чиновника, обоих надо сажать. Но ведь деятельность лоббиста не сводится к раздаче взяток. Лоббист должен подготовить материалы, представляющие позицию клиента, и донести эту информацию до людей, принимающих решения. Кроме того, лоббист зачастую берет на себя и техническую проработку проекта закона или решения. За все это ему и платят. И не очень понятно, почему его гонорар не может зависеть от результата, т.е., в сущности, от степени эффективности работы лоббиста.
Депутаты или чиновники, в свою очередь, должны рассмотреть эти материалы и оценить представленные в них аргументы, а равным образом рассмотреть и оценить материалы и аргументы, представленные другими гражданами или выступающими от их лица лоббистами. После этого государственные мужи должны принять решение, соответствующее общественному благу. Так работает цивилизованная система лоббизма.
Остается открытым вопрос о том, насколько реально существующая в США система лоббизма является цивилизованной или, напротив, коррумпированной. На этот счет есть разные мнения...
***
Лоббизм в США существовал, видимо, всегда. Однако в течение значительной части истории страны деятельность лоббистов оставалась, можно сказать, в серой зоне.
Вряд ли реально запретить лоббисту обращаться к конгрессмену или чиновнику с просьбой рассмотреть возможность и целесообразность принятия того или иного акта. Никто также не может запретить клиенту платить лоббисту деньги, коль скоро клиент сам этого желает. Так что деятельность лоббистов (разумеется, не считая фактов подкупа) по большей части не считалась противоправной сама по себе. В том смысле, что в тюрьму лоббистов не сажали.
Впрочем, были и исключения. Так, в Джорджии лоббизм был признан уголовным правонарушением, причем это даже было зафиксировано в конституции штата от 1877 г. (Ga. Const. art. I, sec. II, par. V (1877)). Правда, после этого законодателю пришлось дать весьма узкое определение понятию «лоббизм».
Так или иначе, и в тех штатах, где лоббизм (в некоторых его формах) признавался публично-правовым нарушением, и в тех, где он таковым не считался, договор об
118

Свободная трибуна
оказании лоббистских услуг за плату суды, как правило, признавали противоречащим публичному порядку, а потому недействительным. На практике это означает, что требования лоббиста об оплате проделанной им работы не подлежат судебной защите. При этом многие суды разграничивали договоры на оказание профессиональных услуг (разработку законопроекта т.п.), которые признавались действительными, и договоры о «продаже личного влияния», которые признавались недействительными.
Ситуация начала меняться в пользу лоббистов к концу века. В 1890 г. штат Массачусетс первым принял закон о регистрации лоббистов. За Массачусетсом последовали и некоторые другие штаты. Это, возможно, создало определенные проблемы для лоббистов, но зато в каком-то смысле вывело их из серой зоны, придав их деятельности вид солидной регулируемой профессии. В связи с этим встал вопрос о том, действительно ли договор на оказание лоббистских услуг противоречит публичному порядку в свете последних правовых веяний.
На этот переходный период в истории лоббизма в США и приходится рассматриваемый нами кейс5. Решение по делу написал знаменитый судья Оливер У. Холмс — пожалуй, самый известный американский судья за всю историю.
***
Договор, обсуждавшийся в этом деле, на первый взгляд выглядел как самый обычный опцион на продажу земельного участка. Собственник участка (некто Миллер) предоставил контрагенту (Хейзелтону) право в течение определенного времени приобрести у него участок за 9 тыс. долл., если контрагент этого пожелает.
Не совсем обычными выглядели лишь два положения договора. Во-первых, срок действия: договор действовал лишь в течение текущей (на момент заключения договора) сессии Конгресса США с возможностью продления на время, необходимое для оформления сделки с участком. Во-вторых, встречное предоставление (consideration). Что должен был предоставить контрагент собственнику участка в обмен на данное ему право покупки участка по фиксированной цене?
По договору таким встречным предоставлением были (частично) некие услуги, оказанные контрагентом собственнику участка «как до, так и после» заключения договора. Они состояли в том, что контрагент должен был «привлечь внимание комитетов Конгресса к данному участку как пригодному и подходящему для строительства архива» (hall of records).
Разумеется, судья Холмс понял, что на самом деле перед ним договор на оказание лоббистских услуг. По сути, речь шла вот о чем. Собственник (Миллер) хотел продать участок, но не находил покупателей. Лоббист (Хейзелтон) взялся организовать выкуп участка для государственных нужд. В случае успеха собственник должен был получить 9 тыс. долл., а лоббист — цену выкупа участка государством за вычетом этой суммы. То есть речь шла не просто о платных лоббистских услугах, но еще и о вознаграждении, зависящем от результата!
5См.: Hazelton v. Sheckells, 202 U.S. 71 (1906).
119

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Лоббист, надо сказать, не обманул надежд собственника. Он (во всяком случае, если верить его исковому заявлению) проделал большую работу по сбору информации, подготовке печатных материалов, распространению их среди членов комитетов и просто конгрессменов. Лоббист проводил презентации и разъяснял конгрессменам свои аргументы. Наконец, он подготовил законопроект, в соответствии с которым государство выкупало под новое здание архива целый квартал (square), содержащий тот самый участок.
В итоге Конгресс действительно принял этот законопроект. Проведя необходимые переговоры, лоббист договорился о выкупе государством спорного участка за 14 тыс. долл. Довольный собой, он приготовился продать участок государству от своего имени, прикарманив 5 тыс. долл.
Однако клиент не исполнил своего обещания. После того как решение о выкупе было принято, собственник решил, что для него гораздо выгоднее будет продать участок напрямую государству. Клиент отказался подписать документы на продажу участка лоббисту, т.е. отказался от исполнения заключенного с последним опционного договора.
Лоббист предъявил собственнику иск об исполнении опционного договора в натуре, т.е. о передаче лоббисту спорного участка на условиях договора. Собственник в ответ заявил, что его договор с лоббистом недействителен, а потому попросил суд отказать в иске без исследования доказательств (general demurrer).
Суды в двух инстанциях поддержали ответчика, после чего дело и дошло до Верховного суда США. Текст решения полностью помещается на одной странице: судья Холмс славился не только глубиной мысли, но и краткостью своих решений.
***
Верховный суд в лице судьи Холмса полностью поддержал сложившуюся к тому времени судебную практику.
Судья указал, что часть встречного предоставления по договору представляли «услуги по обеспечению принятия законодательства по вопросу, относящемуся к публичному интересу». При этом ни одна из сторон не имеет каких-либо индивидуальных требований к государству, относящихся к этому вопросу (в противном случае могли бы оказаться применимыми некоторые признаваемые судебной практикой исключения). Сославшись на прецедент ВС США от 1864 г.6, касающийся договора об обеспечении заключения госконтракта, судья признал договор недействительным.
«Разумеется, нельзя сказать, что [истцом] предъявляются правомерные требования», — уверен судья.
Дополнительно Холмс отмечает, что, по существу, речь в договоре идет о гонораре успеха (contingent fee). «Настоящий стимул, предоставленный ему [лоббисту], состоял в том, что он получит всю сумму, которую он уговорит правительство за-
6См.: Tool Co. v. Norris. 69 U.S. 45 (1864).
120

Свободная трибуна
платить сверх означенной цены», — поясняет судья. Согласно действующему прецеденту соглашения об обеспечении принятия закона за гонорар успеха недействительны7.
Стоит заметить, что в том старом деле ВС США в лице судьи Грайера вообще высказался по поводу гонорара успеха лоббистов необычайно жестко и даже обозвал его взяткой:
«Взятки (bribes) в форме высокого гонорара успеха (high contingent compensation) непременно приведут к использованию ненадлежащих средств и оказанию недолжного влияния. Их неизбежное последствие — деморализация агента, который заключил такой договор; он вскоре начинает верить, что любые средства, ведущие к достижению столь благоприятного для него результата, являются «надлежащими средствами» и что доля этих прибылей может оказать аналогичный эффект улучшения восприятия и подогрева рвения влиятельных или «легкомысленных» законодателей в пользу его законопроекта. Использование таких средств и таких агентов приведет к тому, что на власти штатов будет оказываться давление объединенного капитала богатых корпораций, и это породит всеобщую коррупцию, начиная с депутатов и кончая избирателями. Спекулянты от законотворчества...
узкая группа продажных ходатаев, продающих свое секретное влияние, будут заражать капитал США и каждого штата, пока коррупция не станет нормальным состоянием нашего политического образования [body politic], и тогда о нас останется сказать, как о Риме: omne Romae venale [в Риме все продается]».
После столь апокалиптических предсказаний сама мысль о гонораре успеха лоббиста может повергнуть в ужас.
Однако Хейзелтон, истец в деле об опционе, ссылался на то, что сами по себе совершенные им действия (презентации в Конгрессе и т.п.) являются вполне правомерными. Никаких взяток он не платил. По словам истца, обещание передать ему участок стало обязывающим для собственника лишь после оказания этих услуг. Но коль скоро ответчику были оказаны легитимные услуги, почему же он не должен за них заплатить, как обещал?
Судья Холмс готов признать, что услуги были легитимными, но с выводом истца не согласен. По мнению судьи, исходный договор содержит слишком опасные «тенденции» (tendency). По-видимому, имеются в виду вредные стимулы для исполнителя (на раздачу взяток и т.п.). Это и делает договор недействительным. И даже если исполнитель в реальности взяток не давал (что, кстати, довольно сложно проверить), это не исцеляет исходный договор.
«Мы предполагаем, что они [услуги] были легитимными, но действительность договора зависит от природы исходной оферты, и какова бы ни была их форма, тенденция таких оферт одна и та же. Возражения против них основаны на их тенденции, а не на том, что было сделано в конкретном случае... Суд не будет исследовать вопрос о том, что было сделано. Если бы эти действия были ненадлежащими, то они, вероятно, были бы скрыты и остались невыявленными. С самого начала оферта независимо от намерений [заказчика] неизбежно побуждала и стимули-
7См.: Marshall v. Baltimore & Ohio R. Co. 57 U.S. 314 (1854).
121

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
ровала [исполнителя] на ненадлежащие предложения [законодателям] и дополнительно усиливала эти стимулы при помощи гонорара успеха», — подчеркивает судья Холмс.
Ссылаясь на прецеденты, судья формулирует следующие правовые позиции:
1)не подлежит судебной защите возмездный договор об обеспечении заключения госконтракта, причем независимо от того, предполагалось ли использование ненадлежащих методов для такого обеспечения и использовались ли они на самом деле;
2)в этом отношении нет разницы между договором на обеспечение заключения госконтракта (получение выгод от правительственных департаментов) и договором на обеспечение принятия закона (получение выгод от законодательного органа);
3)любые договоры, предусматривающие гонорар успеха за обеспечение принятия определенного законодательства, ничтожны.
В итоге ВС разрешил дело в пользу собственника участка, а лоббист, обеспечивший выгодный собственнику выкуп участка для госнужд, остался ни с чем.
***
Несмотря ни на что, в течение XX в. официальное отношение к лоббизму в США постепенно продолжало меняться в благоприятную для лоббистов сторону8. Теоретической базой для этого, по-видимому, служили соображения свободы договора9.
Перелом наступил в середине века. В 1946 г. был принят Федеральный закон о регулировании лоббистской деятельности (Federal Regulation of Lobbying Act), предусматривающий регистрацию лоббистов и раскрытие ими определенной информации о своей деятельности. Как и в случае с аналогичными законами штатов, это законодательство, быть может, несколько осложнило жизнь лоббистов, но зато придало им своего рода официальный статус.
Затем в 1950-х гг. возможность нанять лоббиста для представления своих интересов в органах власти была осмыслена как конституционное право, вытекающее из Первой поправки к Конституции США (а именно из положений о свободе слова, свободе ассоциаций и праве обращаться с петициями). Хотя Верховный суд США и не сформулировал явно тезис о конституционной защите лоббизма, но некоторые пассажи в ряде его дел наводят именно на такую мысль10.
8См.: Maskell J. Lobbying Congress: An Overview of Legal Provisions and Congressional Ethics Rules. CRS Report for Congress. 2007. URL: https://fas.org/sgp/crs/misc/RL31126.pdf.
9См.: Teachout Z. The Forgotten Law of Lobbying // 3 Election Law Journal. 2014. Vol. 13. P. 4. URL: https:// ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1621&context=faculty_scholarship. P. 1–65, 43.
10 |
См.: United States v. Rumely. 345 U.S. 41 (1953); United States v. Harriss. 347 U.S. 612 (1954). |
|
122

Свободная трибуна
С тех пор правомерность деятельности лоббистов — включая, по-видимому, и «продажу персонального влияния», столь порицаемую ранее, — в США не подвергается сомнению, во всяком случае на официальном уровне. В одном из недавних дел ВС даже заявил, что «Конгресс не имеет правомочий запретить лоббирование как таковое»11 (хотя и может регулировать детальность лоббистов).
В 1995 г. на смену старому законодательству был принят новый Закон о регулировании лоббистской деятельности (Lobbying Disclosure Act, LDA). Ввиду того, что деятельность лоббистов, как оказалось, защищена Конституцией, Закон не содержит существенных ограничений этой деятельности, а в основном выдвигает требования о регистрации лоббистов и раскрытии ими информации о своей деятельности. Дополнительные требования по ежеквартальному раскрытию информации были добавлены в Закон в 2007 г. (Honest Leadership and Open Government Act).
Подлежащая раскрытию информация включает имена клиентов, цели лоббирования, детали финансирования, а также имена государственных деятелей, которых «обрабатывает» лоббист.
Закон регулирует деятельность лишь профессиональных лоббистов, т.е. лиц, занимающихся лоббизмом за деньги и при этом напрямую контактирующих с чиновниками или законодателями. Есть, впрочем, некоторые пороги по суммам и интенсивности контактов, до достижения которых регистрация не требуется.
Лоббизм в пользу иностранцев или даже иностранных государств также не возбраняется.
Лоббисты, представляющие зарубежные правительства или политические структуры, подлежат регистрации в соответствии с другим законодательством — Законом об иностранных агентах (Foreign Agents Registration Act, FARA), первоначально принятым еще в 1938 г. Изначально Закон мыслился как средство разоблачения нацистской пропаганды, но последующие поправки сместили его фокус именно на раскрытие лоббистской и иной политической деятельности в пользу зарубежных стран.
Иностранные агенты в Законе определяются как лица, ведущие политическую деятельность в США по заказу или под контролем иностранного принципала12. Помимо регистрации по FARA, иностранный агент может подпадать под требование другого закона о регистрации, покрывающего также и неполитическую деятельность (18 U.S.C. § 951). Например, в 2010 г. по этой статье были предъявлены обвинения небезызвестной Анне Чапман и другим предполагаемым российским шпионам13. По той же статье в декабре 2018 г. признала себя
11См.: Citizens United v. FEC. 558 U.S. 310, 369 (2010).
12Замечу, что в российском законодательстве под иностранным агентом понимается любая некоммерческая организация, ведущая политическую деятельность (широко определенную), если она получила хотя бы на рубль пожертвований от иностранцев. Терминологически это довольно абсурдно: разумеется, НКО не становится агентом своего донора ни в каком разумном смысле слова.
13Содержание обвинения см.: https://www.globalsecurity.org/intell/library/reports/2010/062810-spy-com- plaint-1.pdf.
123

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
виновной и российская политическая активистка Мария Бутина, за полгода до этого арестованная в Вашингтоне14.
При этом лоббисты, представляющие зарубежных частных лиц, регистрируются по общему законодательству о лоббизме.
Следует также упомянуть разного рода кодексы этики и профессионального поведения, имеющие отношение к лоббистской деятельности. Так, внутренние правила Конгресса устанавливают ряд стандартов, имеющих отношение к лоббистской деятельности. Например, конгрессменам по общему правилу запрещено получать подарки стоимостью 50 долл. или выше. Что касается лоббиста, то по закону (Honest Leadership and Open Government Act) он может понести ответственность вплоть до уголовной, в том числе и за побуждение конгрессмена к нарушению упомянутых внутренних правил15.
Этические правила, применимые к федеральным чиновникам, устанавливаются президентскими указами16.
Существуют также профессиональные стандарты поведения для лоббистов, разрабатываемые добровольными объединениями лоббистов.
Таким образом, сегодня деятельность лоббистов в США признается вполне законной и довольно плотно регулируется.
***
Поскольку деятельность лоббистов в США сегодня полностью легализована, то и действительность договора о возмездном оказании услуг лоббирования в общем случае больше не вызывает сомнений. А вот вопрос о допустимости гонорара успеха в таких договорах остается не вполне однозначным17.
Что касается федерального уровня, существует ряд законов и подзаконных актов, запрещающих гонорар успеха за обеспечение заключения определенных госконтрактов с федеральными правительственными агентствами.
Гонорары успеха также явно запрещены законом для лоббистов, действующих по поручению иностранных государств и иностранных политических партий (т.е. для иностранных агентов).
Не существует федерального закона, явным образом запрещающего гонорар успеха за лоббирование интересов клиента в Конгрессе. В то же время пока что никто
14Текст соглашения о признании вины см.: https://www.vox.com/2018/12/13/18139191/maria-butina- russia-plea-agreement-read-full-text.
15См.: Maskell J. Op. cit. P. 16–20.
16См.: Executive Order: Ethics Commitments by Executive Branch Appointees. Jan. 28, 2017. URL: https://www. whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-ethics-commitments-executive-branch-appointees/ (указ президента Д. Трампа).
17См.: Maskell J. Op cit. P. 11.
124

Свободная трибуна
не отменял общий запрет на гонорар успеха, сформулированный судебной практикой еще в XIX в. и артикулированный судьей Холмсом в рассмотренном нами деле. Вопрос о том, сохраняет ли в отношении лоббирования в Конгрессе данный прецедент силу в части, касающейся гонорара успеха, или он целиком дезавуирован федеральным законодательством, легализовавшим лоббистские услуги, до сих пор не вполне прояснен.
Следует также упомянуть регулирование лоббизма на уровне штатов. В большинстве штатов явным образом запрещены гонорары успеха лоббистов в связи с принятием нужного клиенту закона (39 штатов по состоянию на 2007 г.)18. Однако возникает вопрос: соответствуют ли такие запреты сегодняшнему прочтению Конституции США? Ведь платная лоббистская деятельность теперь считается выражением конституционных прав и свобод. Пока что суды противоречия здесь не выявили.
Так, в одном из дел, рассмотренных Апелляционным судом США по Одиннадцатому округу в 1996 г.19, рассматривался вопрос о конституционности закона Флориды, запрещающего гонорары успеха для лоббистов.
Представители Флориды в обоснование запрета ссылались, в частности, на мнение судьи Холмса. Лоббисты возражали в том смысле, что с тех пор прошла эпоха и все изменилось. Сегодня лоббистская деятельность считается вполне добропорядочной и защищена Конституцией. Договоры на платное оказание услуг лоббирования теперь действительны, невзирая на Холмса. Так что и запрет на гонорар успеха лоббистов должен уйти в прошлое. По мнению лоббистов, и сам Верховный суд США, если бы до него дошло дело, несомненно, отменил бы этот архаичный запрет. На эту мысль наводят некоторые формулировки в его более поздних решениях.
В ответ окружной судья Эдмондсон заявил: «Это предсказание, может быть, и верно, но мы не вольны игнорировать действующие прецеденты, которые столь прямо относятся к делу и которые были лишь ослаблены, но не отменены Верховным судом».
Сам ВС в одном из дел (на другую тему) велел апелляционным судам «оставить этому Суду [т.е. ВС] прерогативу отменять свои собственные решения». Приняв это наставление близко к сердцу, Апелляционный суд признал действующим старинный прецедент ВС.
Соответственно, несмотря на явно имеющиеся у суда сомнения, запрет штата на гонорар успеха для лоббистов был признан конституционным.
***
Существующая в США лоббистская система находится в фокусе общественной дискуссии.
Так, подвергается критике феномен «вращающейся двери» (revolving door): чиновники или конгрессмены, покинув свой пост, тут же возвращаются в государ-
18Ibid.
19См.: Florida League of Professional Lobbyists, Inc. v. Meggs, 87 F.3d 457 (11th Cir. 1996).
125

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
ственный орган через метафорическую вращающуюся дверь, но уже в качестве лоббистов. Или наоборот, лоббист избирается или назначается в госорган. Это, по мнению критиков, ведет к недопустимому сращиванию большого бизнеса и власти.
Президент Трамп, много ругавший в свое время эту систему, придя к власти, с помпой принял указ о запрете на лоббирование (lobbying ban). Впрочем, пожизненный запрет введен лишь на лоббирование бывшими федеральными чиновниками интересов иностранных государств. В остальном речь не идет о полном запрете: указ лишь запрещает бывшим чиновникам администрации заниматься лоббированием в тех агентствах, где они раньше работали, в течение пяти лет после увольнения. Заниматься лоббированием в других госорганах им не возбраняется.
Этот указ отменил аналогичный указ президента Обамы от 2009 г., предусматривавший срок запрета лишь в два года. Однако следует отметить, что указ Обамы также запрещал лоббистам поступать на работу в администрации в течение следующего года после прекращения деятельности лоббиста. А вот указ Трампа это разрешает, если только чиновник в течение двух лет после приема работу не работает именно над тем, что он ранее лоббировал20.
Впрочем, следует отметить, что сам президент Трамп (как в прошлом и некоторые другие президенты США) является членом Национальной стрелковой ассоциации (National Rifle Association, NRA)21. Она считается одной из самых могущественных лоббистских групп в США. По-видимому, во многом благодаря ей Вторая поправка к Конституции США (право на хранение и ношение оружия) до сих пор толкуется и применяется в США почти буквально, т.е. в пользу мало чем ограниченного права на оружие. За свою деятельность Ассоциация подвергается резкой критике со стороны противников свободного обращения оружия. На выборах NRA обычно поддерживает республиканцев: так, на президентских выборах 2016 г. ассоциация потратила 11 млн долл. на поддержку Дональда Трампа и еще 19 млн на противостояние Хиллари Клинтон22.
В последнее время особое беспокойство у американцев вызывает секретный лоббизм в пользу иностранных государств.
Известный американский лоббист (и бывший руководитель избирательной кампании Трампа) Пол Манафорт угодил под следствие, помимо прочего, именно за отсутствие регистрации по закону FARA. Как сообщает пресса, в 2012–2014 гг. он на платной основе оказывал политические услуги в США правительству Украины (при президенте Януковиче), не уведомив об этом власти США. Лишь в 2017 г. Манафорт задним числом зарегистрировался в качестве иностранного агента, сообщив, что он в свое время получил (на счет контролируемой им компании)
20См., напр.: Trump lobbying ban weakens Obama rules // Politico. 2017. 29 Jan. URL: https://www.politico. com/story/2017/01/trump-lobbying-ban-weakens-obama-ethics-rules-234318.
21См.: The 9 US presidents who have been NRA members // Business Insider. 2017. 5 Oct. URL: http://uk.busi- nessinsider.com/which-presidents-nra-members-trump-bush-2017-10.
22См.: NRA Contributions // Fortune. 2018. 15 Feb. URL: http://fortune.com/2018/02/15/nra-contribu- tions-politicians-senators/.
126

Свободная трибуна
17 млн долл. от украинской Партии регионов23. За нарушение Закона об иностранных агентах лоббисту грозило до 20 лет тюрьмы. Впрочем, за сопутствующие банковские и налоговые махинации Манафорт мог получить, если бы был признан виновным по всем пунктам, еще 270 лет24.
Что касается финансовых преступлений, то часть из них присяжные признали недоказанными, но оставшихся, согласно представленному в суд меморандуму специального прокурора Роберта Мюллера, достаточно, чтобы осудить бывшего лоббиста на срок от 20 до 24 лет25. Однако судья, к удивлению многих наблюдателей, дал лоббисту всего 47 месяцев и штраф26.
В параллельном процессе Манафорту удалось достичь соглашения с обвинением, по которому он признал обвинения в попытке обмана правительства и давлении на свидетелей, но с него были сняты другие обвинения, в том числе в деятельности в качестве иностранного агента без регистрации. Однако поскольку впоследствии Манафорта уличили в том, что он лгал следствию27, судьба этой сделки оказалась под вопросом.
Но в итоге и в этом деле все завершилось относительно благополучно для 69-летнего лоббиста. В марте 2019 г. судья приговорил его к 73 месяцам тюрьмы, но 30 из их текут одновременно с приговором по предыдущему делу. Итого к сроку добавляется «всего» 43 месяца тюрьмы, т.е. общий срок составит 7,5 лет28. (Ну, это, конечно, если еще чего-нибудь не найдут или если президент не помилует.)
Громкое уголовное преследование столь высокопоставленного лоббиста — весьма недвусмысленный сигнал, посылаемый правоохранительной системой США всем коллегам Манафорта. Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), в свое время принятый для борьбы с нацистской пропагандой в США, после нескольких десятилетий пребывания в относительном забвении обрел новое дыхание в свете новых вызовов американской политической системе. Теперь он активно применяется для противостояния секретному лоббизму, т.е. тайным попыткам повлиять на политику США по заказу иностранных держав.
23См.: What’s Actually in the Manafort FARA Filing? // Lawfare. 2017. 28 June. URL: https://www.lawfareblog. com/whats-actually-manafort-fara-filing.
24См.: Paul Manafort faces 305 years // CNN. 2018. 14 March. URL: https://edition.cnn.com/2018/03/13/poli- tics/paul-manafort-faces-305-years/index.html.
25См.: текст меморандума Мюллера касательно приговора Манафорту. URL: https://ru.scribd.com/docu- ment/ 399748198/Government-sentencing-memo-on-Manafort-v-US-Virginia.
26U.S. judge gives Trump ex-aide Manafort leniency: under four years in prison // Reuters. 2019. 7 March. URL: https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-russia-manafort/u-s-judge-gives-trump-ex-aide-manafort- leniency-under-four-years-in-prison-idUSKCN1QO17N.
27См.: судебный акт, установивший факт сообщения ложных сведений Манафортом. URL: https://games- cdn.washingtonpost.com/notes/prod/default/documents/6e32121b-54b2-49d6-8142-f59a8f152e19/note/ b93e978d-83ba-41a6-ba29-9be1ed18a735.pdf.
28См.: Paul Manafort to serve over 7 years in prison // CBS News. 2019. 13 March. URL: https://www.cbsnews. com/live-news/paul-manafort-sentencing-today-live-stream-today-dc-court-recommendations-2019-03-13/.
127

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
***
Но вернемся к теме гонорара успеха за лоббистские услуги.
Если правопорядок в принципе отказывается признавать договор о возмездном оказании лоббистских услуг, то понятно, что гонорар успеха тем более должен быть лишен правовой защиты. Ведь он дополнительно усиливает те коррупционные стимулы, из-за которых правопорядок признает договор лоббирования противоречащим публичному порядку. Чем выше ставки вознаграждения лоббиста за успех, тем больше его искушение дать взятку государственному деятелю. Именно на этой логике, столь блестяще изложенной судьей Грайером в 1854 г., основал свое решение судья Холмс в обсуждавшемся нами деле.
Но если правопорядок признает принципиальную правомерность лоббистской деятельности, эта логика в значительной степени теряет почву под ногами.
Сегодня лоббизм считается в США вполне почтенной деятельностью, защищенной Конституцией. Лоббизм является неотъемлемой частью политического механизма США, своего рода смазкой, обеспечивающей эффективное доведение до государственных деятелей, принимающих решения, пожеланий заинтересованных лиц.
Нет сомнений, что при регулировании, например, банковской деятельности чиновникам и законодателям очень важно понимать, каково мнение по соответствующим вопросам самих банкиров. И если, допустим, банкиры предлагают на рассмотрение законодателей качественно проработанный законопроект, регулирующий те или иные вопросы банковской деятельности, то это хорошо и правильно. Надо лишь понимать, что при принятии решения должно учитываться мнение не только банкиров, но и любых других заинтересованных лиц.
Гонорар успеха создает для лоббиста стимулы совершения как правомерных, так и неправомерных действий для достижения своей цели. Однако во многом то же относится и к обычному (фиксированному или почасовому) вознаграждению. Ведь вряд ли можно сказать, что получающий обычное вознаграждение лоббист вообще никак не заинтересован в успехе продвигаемого им проекта.
Если правопорядок допускает лоббистскую деятельность в принципе, это, видимо, означает, что он (правопорядок) нашел способ минимизации и контроля тех коррупционных рисков, которые имманентно присущи этой деятельности. В США таким способом считается информационная прозрачность (прежде всего требование о регистрации лоббистов) в сочетании с жесткими санкциями за секретный лоббизм, а также с эффективной системой выявления и наказания нарушителей. Плюс к этому — жесткие «этические» (а по сути правовые) нормы, регулирующие деятельность законодателей и чиновников.
Однако если риск коррупции минимизирован, то в чем смысл сохранения традиционного запрета на гонорар успеха? Ведь он уменьшает эффективность правомерной деятельности лоббистов, снижая их стимулы к выполнению своих задач. Что касается стимулирования неправомерной деятельности, то при серьезном ри-
128

Свободная трибуна
ске уголовного преследования за коррупцию вряд ли можно предположить, что лоббист, ведущий себя законопослушно при обычном вознаграждении, после обещания гонорара успеха начнет раздавать взятки.
Пользуясь аналогией между деятельностью лоббистов и адвокатов, можно заметить, что широкое применение гонорара успеха адвокатов в США не привело, кажется, к повальному взяточничеству среди американских судей. Видимо, это аргумент в пользу того, что и гонорар успеха лоббистов не обязательно приведет к тотальной коррупции среди законодателей и чиновников.
Так что можно предположить, что местами сохраняющийся в США общий запрет на гонорар успеха лоббистов — это лишь реликт XIX в., который рано или поздно уйдет в историю.
Что касается других правопорядков, в которых коррупционные риски не так хорошо контролируемы, то им (этим правопорядкам) есть над чем подумать по части регулирования лоббистской деятельности и допущения гонораров успеха по таким договорам...
References
Klein E. Corporations Now Spend More Lobbying Congress Than Taxpayers Spend Funding Congress. Vox. 2015. 15 July. Available at: https://www.vox.com/2015/4/20/8455235/congress-lobbying- money-statistic (Accessed 18 February 2019).
Maskell J. Lobbying Congress: An Overview of Legal Provisions and Congressional Ethics Rules. CRS Report for Congress. 2007. Available at: https://fas.org/sgp/crs/misc/RL31126.pdf (Accessed 18 February 2019).
Pushkarskaya A., Sapozhkov O. The State Bank Goes to the Lobby [Gosbank vyshel v lobbi]. Available at: https://www.kommersant.ru/doc/3720478 (Accessed 18 February 2019).
Teachout Z. The Forgotten Law of Lobbying. 3 Election Law Journal. 2014. Vol. 13. P. 1–65.
Information about the author
Sergey Budylin — Legal Advisor at the Bartolius Law Office (115054 Russia, Moscow, Stremyanniy Lane, 38, Bartolius; e-mail: sergey.budylin@gmail.com).
129
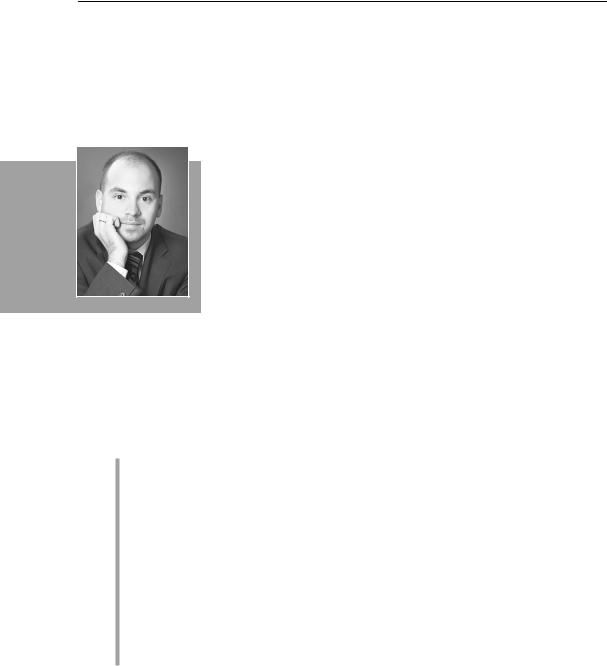
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Евгений Дмитриевич Суворов
старший преподаватель Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат, партнер Московского адвокатского бюро «Синум АДВ», магистр частного права, кандидат юридических наук
Требования связанных с должником лиц в деле о его банкротстве: от объективного к субъективному вменению
Статья посвящена особенностям исполнения требований связанных с должником лиц в деле о его банкротстве и состоит из двух частей: описательной и аналитической. В первой части, публикующейся в настоящем номере, автор анализирует складывающуюся судебную практику, опыт решения соответствующих правовых проблем в иностранных правопорядках (США, Великобритания, Германия), а также рекомендации Комиссии ЮНСИТРАЛ по названной проблематике. Автор приходит к выводу о двух возможных моделях, основанных на объективном или субъективном вменении. Первая представлена немецким опытом и предполагает особое отношение к требованиям связанных лиц в силу самого факта связанности, вторая — англосаксонским подходом, когда для изменения режима соответствующего требования необходимы основания (злоупотребление правом, злоупотребление принципом ограниченной ответственности и т.д.).
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), связанные лица, бремя доказывания, субординация требований, злоупотребление правом
130

Свободная трибуна
Evgeniy Suvorov
Senior Lecturer at Kutafin Moscow State Law University (Moscow State Law Academy), Lawyer, Partner at the Moscow Law Office Sinum ADV, Master of Private Law, PhD in Law
Claims of Parties Connected with the Debtor within a Case on His Bankruptcy: From Objective to Subjective Imputation
The article covers the specifics of the fulfillment of claims of parties connected with the debtor, within a debtor’s bankruptcy case, and consists of two parts: description and analysis. The first part published in this issue is dedicated to the analysis of existing judicial practice, the experience of the resolution of legal problems in foreign jurisdictions (USA, UK, Germany), and the recommendations of the UNCITRAL relating to the said issues. The author arrives at the conclusion that there are two possible models based on objective and subjective imputation. The first one is illustrated by German experience and provides for a special attitude towards the requirements of connected parties based on the mere fact of such connection. The second one is illustrated by the Anglo-Saxon approach, in which certain grounds are required (abuse of rights, abuse of the limited liability principle, etc.) in order to change the treatment of a claim.
Keywords: insolvency (bankruptcy), connected parties, burden of proof, claim subordination, abuse of right
Банкротство можно рассматривать с нескольких точек зрения: как экономическое состояние, как юридический факт, как специальное основание и порядок ликвидации должника — юридического лица, как производство по делу о банкротстве, как управленческую модель, как режим разрешения несостоятельности и,
наконец, как особый режим удовлетворения требований кредиторов.
Этот режим заключается в общем виде в удовлетворении таких требований в соответствии с принципом равенства кредиторов (pari passu)1. Обеспечивается он за счет ряда инструментов: введения публичной процедуры разрешения несостоятельности, закрепления моратория на индивидуальное удовлетворение реестровых требований, обеспечение расчетов с кредиторами коллективным образом на условиях очередности и, главное, пропорциональности.
В рамках восприятия банкротства как особого режима удовлетворения требований кредиторов ключевое значение придается самому требованию кредитора к должнику: оно может защищаться путем подачи заявления о банкротстве, подлежит установлению в реестре требований кредиторов, предоставляет своему
1См.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV: Торговый процесс. Конкурсный процесс. М., 2003. С. 449; Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М., 2008; Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве. М., 2010; Шишмарева Т.П. Институт несостоятельности в России и Германии. М., 2015; Goode R. Principles of Corporate Insolvency Law. 4th ed. London, 2011. P. 89, 99; McBryde W.W., Flessner A., Kortmann S.C.J.J. Principles of European Insolvency Law // Series Law of Business and Finance. 2003. Vol. 4. P. 81; Finch V. Corporate Insolvency Law Perspective. Cambridge, 2002. P. 421 («A fundamental rule of corporate insolvancy law is said to be enshrined in the pari passu principle»).
131

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
владельцу право на участие в принятии решений собранием кредиторов и на выдвижение кандидатуры в комитет кредиторов, подлежит удовлетворению, может быть изменено в связи с заключением мирового соглашения, может погашаться отступным и т.п.
Настоящая статья посвящена особенностям исполнения требований лиц, связанных с должником. Актуальность вопроса предопределена появлением целой серии правовых позиций ВС РФ в названной области, высказанных Судом по итогам рассмотрения кассационных жалоб по конкретным делам2.
Структура статьи предопределена ее предметом и построена следующим образом.
Прежде всего мы уделим внимание описанию сложившейся к настоящему моменту ситуации в этой сфере, что необходимо для последующих аналитических рассуждений. В рамках описательной части мы кратко и без детальной критической оценки приведем релевантную судебную практику ВС РФ, после чего остановимся на отдельных примерах регулирования сходных правовых проблем в иностранных правопорядках (США, Великобритания, Германия), затронем также Руководство для законодательных органов по вопросам несостоятельности Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).
Далее мы перейдем к аналитической части, результаты которой изложим в следующей последовательности.
В первую очередь полагаем необходимым определиться с понятиями, в частности с понятиями связанного с должником лица и, соответственно, требования связанного лица, а также иных используемых категорий. После внесения определенности в части используемых понятий возможно будет перейти к примерной классификации связанных с должником лиц, выделив особенности каждой из групп. Далее надлежит установить, что именно выделяет требования этих лиц из массы всех требований в целях предоставления им особого режима. После выявления оснований для специального подхода своевременно будет раскрыть особенности реализации требований связанных с должником лиц в деле о его банкротстве, т.е., собственно, тот самый особый режим этих требований. В завершение вместо итогов обсуждения мы внесем предложения в части совершенствования законодательства и правоприменительной практики.
Практика ВС РФ по проблеме требований связанных лиц по состоянию на весну 2019 г.
Определения рассматриваются в хронологической последовательности: от ранних к поздним.
2Соответствующие дела приведены в нижерасположенном разделе настоящей работы.
132

Свободная трибуна
Определение ВС РФ от 06.08.2015 № 302-ЭС15-3973 по делу о банкротстве
ООО «Агентство Норильск Авиа Сервис»
Правовая проблема
Подлежат ли включению в реестр требований кредиторов требования о возврате займа, предъявленные к должнику-заемщику его учредителем — заимодавцем.
Правовая позиция
Самого по себе факта, что заимодавцем выступает участник должника, недостаточно для вывода об отсутствии заемных отношений и направленности на реализацию внутрикорпоративных отношений, если не доказано, что целью договора займа было пополнение оборотных средств общества.
Комментарий
Данное дело было первым, когда ВС РФ разрешал проблему займов участников. Следует обратить внимание на то, что уже здесь был выработан критерий для изменения квалификации отношения: цель предоставления средств. Если такой целью являлось бы пополнение оборотных средств, то требование не подлежало бы включению в реестр требований кредиторов должника. При этом, как видно из фактических обстоятельств, одного лишь обстоятельства выдачи беспроцентных займов не было достаточно для изменения режима заемного требования участника.
Определение ВС РФ от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475 по делу о банкротстве
ООО «Роговское ХПП»
Правовая проблема
Может ли выдача поручительства объясняться мотивами фактической аффилированности должника (поручителя) и должника по основному обязательству.
Правовая позиция
Аффилированность поручителя и основного должника в подтверждение мотивов выдачи поручительства может быть фактической.
Комментарий
Хотя это дело напрямую не касается вопросов установления требований связанных лиц, в обсуждаемой проблематике оно часто приводится в подтверждение того, что связь между отдельными участниками оборота может быть фактической. Это имеет значение для разрешения поставленных в настоящей статье вопросов. Кроме
133

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
того, в этом деле важны фактические обстоятельства, подтверждающие свободное перемещение средств между связанными лицами.
Определение ВС РФ от 30.03.2017 № 306-ЭС16-17647 (1) по делу о банкротстве Михеева О.Л.
Правовые проблемы:
1)имеются ли основания для понижения очередности удовлетворения требований аффилированных (связанных) кредиторов, если они не являются корпоративными;
2)каковы последствия исполнения обязательства за должника третьим лицом;
3)из чего (суброгации или наличия соглашения) следует исходить при исполнении обязательства родственником должника, ведущим с должником общий бизнес;
4)может ли исполнение обязательства третьим лицом за должника основываться на безвозмездной сделке (дарении);
5)какие обстоятельства могут свидетельствовать о безвозмездности сделки, в силу которой третье лицо исполняет обязательство за должника;
6)каковы последствия вывода о безвозмездности сделки, в силу которой исполняется обязательство за должника, применительно к включению требования из соответствующего обязательства в реестр требований кредиторов должника?
Правовая позиция:
1)нет;
2)в случае, когда исполнение обязательства было возложено должником на третье лицо, последствия такого исполнения в отношениях между третьим лицом и должником регулируются соглашением между ними, а не правилами о суброгации (абз. 1 п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»; далее — постановление № 54). Упомянутое соглашение может опосредовать разные предоставления третьим лицом в пользу должника: заем, дарение, отступное и т.д.;
3)в ситуации, когда родственник бенефициара группы компаний, ведущий с ним общий бизнес, систематически производит платежи за этого бенефициара его кредитору, предполагается, что в основе операций по погашению чужого долга лежит договоренность между бенефициаром и его родственником — заключенная ими сделка, определяющая условия взаиморасчетов;
4)да;
134

Свободная трибуна
5)периодическое исполнение обязательства должника таким третьим лицом в течение продолжительного времени, наличие между третьим лицом и должником родственных связей, участие в подобных операциях ранее матери третьего лица и сестры должника, длительное непредъявление плательщиками финансовых претензий должнику (вплоть до возбуждения дела о банкротстве последнего), нераскрытие информации о каком-либо возмездном соглашении, заключенном ими;
6)отказ во включении требования в реестр требований кредиторов.
Комментарий
Это первое дело ВС РФ, когда решался вопрос о возможности включения суброгационного требования, полученного связанным с должником лицом в связи с исполнением им обязательства должника. Хотя ВС РФ поставил под сомнение само суброгационное требование (в силу того, что презюмировано было возложение исполнения обязательства, п. 22 постановления № 54), представляется, что это не более чем один из приемов разрешения проблемы требования связанного лица и его конкуренции с независимыми кредиторами. В частности, ВС РФ пришлось не только презюмировать возложение, но и предположить безвозмездность исполнения обязательства за должника связанным с ним лицом. Здесь уже заходит речь о таком критерии связанности лиц, как ведение общего бизнеса; с ним мы еще встретимся ниже.
Определения ВС РФ от 30.03.2017 № 306-ЭС16-17647 (2) и № 306-ЭС16-17647 (6) по делу о банкротстве Михеева О.Л.
Правовые проблемы:
1)каким образом квалифицируются поручительства (залоги), выданные членами группы компаний за другого члена, если все они контролируются одним бенефициаром, предоставляют обеспечение в момент получения финансирования, зная об обеспечительных обязательствах друг друга;
2)каковы последствия исполнения обязательства одним из лиц, предоставивших обеспение (залог, поручительство);
3)кто из солидарных должников и в каком объеме имеет право регресса к другим солидарным должникам, предоставившим совместное обеспечение;
4)каковы последствия исполнения обязательства одним из совместных обеспечителей (поручителей, залогодателей) не в полном объеме перед конкретным кредитором применительно к включению требования такого обеспечителя в реестр требований кредиторов другого обеспечителя в части соответствующей доли от превышения, если в реестр требований кредиторов включено также остающееся неисполненным требование основного кредитора?
135

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Правовые позиции:
1)в ситуации, когда одно лицо, входящее в группу компаний, получает кредитные средства, а другие лица, входящие в ту же группу, объединенные с заемщиком общими экономическими интересами, контролируемые одним и тем же конечным бенефициаром, предоставляют обеспечение в момент получения финансирования, зная об обеспечительных обязательствах внутри группы, предполагается, что соответствующее обеспечение направлено на пропорциональное распределение риска дефолта заемщика между всеми членами такой группы компаний вне зависимости от того, как оформлено обеспечение (одним документом либо разными), что позволяет квалифицировать подобное обеспечение как совместное обеспечение. Иное может быть оговорено в соглашении между лицами, предоставившими обеспечение, или вытекать из существа отношений между ними;
2)предоставившие совместное обеспечение лица являются солидарными должниками по отношению к кредитору. При исполнении одним из таких должников обязательства перед кредитором к нему в порядке суброгации переходит требование к основному должнику (абз. 4 ст. 387 ГК РФ). Однако его отношения с другими выдавшими обеспечение членами группы по общему правилу регулируются положениями п. 2 ст. 325 ГК о регрессе: он вправе предъявить регрессные требования к каждому из лиц, выдавших обеспечение, в сумме, соответствующей их доле в обеспечении обязательства, за вычетом доли, падающей на него самого;
3)по смыслу п. 2 ст. 325 ГК РФ, если иное не установлено соглашением между солидарными должниками, предоставившими совместное обеспечение, и не вытекает из отношений между ними, право регрессного требования к остальным должникам в обеспечительном обязательстве имеет не любой исполнивший обязательство, а лишь тот, кто исполнил его в размере, превышающем свою долю, и только в приходящейся на каждого из остальных должников части;
4)должник в обеспечительном обязательстве, частично исполнивший обязательство перед кредитором, не имеет права на удовлетворение своего требования к другому солидарному должнику до полного удовлетворения последним требований кредитора по основному обязательству.
Комментарий
Как и в предыдущем деле, в этих делах не шла напрямую речь о вменении связанности как основании для понижения очередности или отказа во включении требования в реестр требований кредиторов. Однако это дело все так же является примером решения проблемы противопоставления требований связанных лиц требованиям независимых кредиторов. Здесь ВС РФ презюмировал совместное поручительство (в определении № 306-ЭС16-17647 (6)) или обеспечения в целом, включая залог (в определении № 306-ЭС16-17647 (2)), для того, чтобы не пустить требование в реестр.
Следует также обратить внимание на критерии связанности: общие экономические интересы, а также контроль со стороны одного общего бенефициара.
136

Свободная трибуна
Определение ВС РФ от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056 (6) по делу о банкротстве Михеевой Т.Е.
Правовые проблемы:
1)может ли быть отказано во включении в реестр требований кредиторов требования арендодателя к арендатору о выплате задолженности по арендной плате на том основании, что арендатор не пользовался и не планировал пользоваться объектами аренды, а передавал их в субаренду иным лицам, входящим в одну группу лиц с арендодателем и арендатором;
2)может ли аффилированность лиц быть фактической;
3)может ли выбор структуры внутригрупповых юридических связей, позволяющей создать подконтрольную фиктивную кредиторскую задолженность для последующего уменьшения процента требований независимых кредиторов при банкротстве каждого из арендаторов (субарендаторов), служить основанием для отказа во включении требования в реестр требований кредиторов?
Правовые позиции:
1)да;
2)да;
3)да.
Комментарий
Данное дело было практически первым случаем, когда было диагностировано создание структуры внутригрупповых связей, позволяющей сформировать подконтрольную фиктивную кредиторскую задолженность для последующего уменьшения процента требований независимых кредиторов при банкротстве каждого из арендаторов (субарендаторов).
Интерес представляет постановка вопроса: именно внутригрупповые отношения позволяют по факту создать нужный объем необходимой кредиторской задолженности. С этим обстоятельством мы встретимся в аналитической части настоящей статьи.
Определение ВС РФ от 06.07.2017 № 308-ЭС17-1556 (2) по делу о банкротстве
ООО «Нефтегазмаш-Технологии»
Правовая проблема
Может ли быть отказано во включении в реестр требований кредиторов требования участника должника из договора займа?
137

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Правовая позиция
Да. При функционировании должника в отсутствие кризисных факторов его участник как член высшего органа управления объективно влияет на хозяйственную деятельность должника (в том числе посредством заключения с ним сделок, условия которых недоступны обычному субъекту гражданского оборота, принятия стратегических управленческих решений и т.д.).
Поэтому в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности имущества) должника исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости на такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, вызванного косвенным влиянием на неэффективное управление последним, посредством запрета в деле о несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов. При оценке допустимости включения основанных на договорах займа требований участников следует детально исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между должником и заимодавцем, а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий банкротству. В частности, предоставление должнику денежных средств в форме займа (в том числе на льготных условиях) может при определенных обстоятельствах свидетельствовать о намерении заимодавца временно компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность должника. В такой ситуации заем может использоваться вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается обязанность действовать в интересах кредиторов и должника.
При таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам п. 2 ст. 170 ГК РФ либо при установлении противоправной цели — по правилам об обходе закона (п. 1 ст. 10 ГК РФ, абз. 8 ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; далее — Закон о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус корпоративного, что является основанием для отказа во включении его в реестр.
Комментарий
Это первое дело, где была предпринята попытка сформулировать концепцию, исходя из которой обсуждаются требования связанных лиц (в данном случае — участников). Речь идет об использовании таких категорий, как кризисные факторы, распределение риска несостоятельности, компенсация негативных результатов воздействия на должника, заем вместо увеличения уставного капитала. Кроме того, предложена правовая реакция — переквалификация заемных отношений в корпоративные по ст. 10 или 170 ГК РФ в зависимости от обстоятельств.
138

Свободная трибуна
Определение ВС РФ от 11.07.2017 № 305-ЭС17-2110 по делу о банкротстве
ООО «Дискурс»
Правовая проблема
Может ли быть отказано во включении в реестр требований кредиторов должника требования его участника из договора займа по тому мотиву, что заемные средства использовались должником на создание объекта в интересах своего бенефициара, контролирующего также и участника должника?
Правовая позиция
Да.
Комментарий
Особенностью данного дела является то, что юридическое значение приобрели обстоятельства использования должником денежных средств, полученных от участника. По существу, речь идет о противопоставлении интересов должника интересам всех иных лиц. Сам по себе факт использования средств вне связи с целями должника должен вводить презумпцию отсутствия свободного волеизъявления автономного субъекта обязательства, как это предполагается при обсуждении обязательственных отношений и оснований их возникновения (ниже об этом будет сказано более подробно).
Определение ВС РФ от 12.02.2018 № 305-ЭС15-5734 (4, 5) по делу о банкротстве ООО «Транспортная компания «Ямалтранссервис»
Правовая проблема
Может ли быть признан недействительным как сделка в ущерб кредиторов возврат займа должником своему участнику, если заем предоставлялся ему в условиях неудовлетворительной структуры баланса, причем возврат происходил после возникновения требований перед иными кредиторами, а дело о банкротстве возбуждено спустя непродолжительное время после возврата займа?
Правовая позиция
Да. Действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность удовлетворения требований аффилированных (связанных) с должником кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, понижается. При этом сама по себе выдача займа участником
должника не свидетельствует о корпоративном характере требования по возврату полученной суммы для целей банкротства. Вместе с тем, исходя из конкретных об-
139

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
стоятельств дела, суд вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам п. 2 ст. 170 ГК РФ либо по правилам об обходе закона (п. 1 ст. 10 ГК РФ, абз. 8 ст. 2 Закона о банкротстве), признав за спорным требованием статус корпоративного. В ситуации, когда одобренный мажоритарным участником (акционером) план выхода из кризиса, не раскрытый публично, не удалось реализовать, на таких участников (акционеров) относятся убытки, связанные с санационной деятельностью в отношении контролируемого хозяйственного общества, в пределах капиталозамещающего финансирования, внесенного ими при исполнении упомянутого плана. Именно эти участники (акционеры), чьи голоса формировали решения высшего органа управления хозяйственным обществом (общего собрания участников (акционеров)), под контролем которых находился и единоличный исполнительный орган, ответственны за деятельность самого общества в кризисной ситуации и, соответственно, несут риск неэффективности избранного плана непубличного дофинансирования. Изъятие вложенного названным мажоритарным участником (акционером) не может быть приравнено к исполнению обязательств перед независимыми кредиторами (п. 4 ст. 1 ГК РФ). Возврат приобретшего корпоративную природу капиталозамещающего финансирования не за счет чистой прибыли, а за счет текущей выручки должника необходимо рассматривать как злоупотребление правом со стороны мажоритарного участника (акционера). Соответствующие действия, оформленные в качестве возврата займов, подлежат признанию недействительными по правилам ст. 10 и 168 ГК РФ как совершенные со злоупотреблением правом.
Комментарий
Интерес к настоящему делу предопределен тем, что здесь впервые использована категория капиталозамещающего финансирования. Кроме того, здесь же юридическое значение приобрело наличие плана выхода из кризиса (такое наличие презюмировано) в случае кризисной ситуации у должника (этот критерий уже встречался ранее). После констатации наличия такого плана участникам вменена его непубличность. Наконец, для отказа в признании требования должника (в широком смысле, так как здесь шла речь об оспаривании сделок возврата финансирования) вменена необходимость нести риск неэффективности избранного плана спасения. Эти обстоятельства будут обсуждены более подробно в аналитической части настоящей статьи.
Определение ВС РФ от 15.02.2018 № 305-ЭС17-17208 по делу о банкротстве
ООО «Лилу Продакшн»
Правовая проблема
Может ли быть отказано во включении в реестр требований кредиторов должника требования, предъявленного участником должника по основанию выдачи должнику займа и ранее зачтенного с обязательством участника перед должником по внесению вклада в уставный капитал должника, если сделка по увеличению уставного капитала признана недействительной?
140

Свободная трибуна
Правовая позиция
Да, последствия недействительности сделки по увеличению уставного капитала, хотя и носят реституционный характер (п. 2 ст. 167 ГК РФ), по сути, направлены на уменьшение уставного капитала путем снижения номинальной стоимости долей всех участников общества, и поэтому не могут конкурировать с требованиями независимых кредиторов.
Комментарий
Это дело примечательно тем, что требования о возврате вклада в капитал при несостоявшемся увеличении уставного капитала квалифицировано как корпоративное. В условиях неясности области понятия «корпоративное требование» (за пределами требований о выплате дивидендов и выплате действительной стоимости доли) такая квалификация представляет ценность, поскольку именно корпоративный характер требования в ряде случаев усматривается и по отношению к требованиям, на первый взгляд имеющим обязательственную природу (займы). Также в деле интересно то, что требования из займов тех же участников, составляющие вторую группу требований наряду с реституционными, не квалифицированы как корпоративные. Это, в свою очередь, подтверждает тезис о возможности заемных отношений с участниками, требования из которых конкурсоспособны (в отличие от немецкого опыта, о котором ниже).
Определение ВС РФ от 21.02.2018 № 310-ЭС17-17994 (1, 2) по делу о банкротстве ООО «Кинг Лион Тула»
Правовые проблемы:
1)может ли быть отказано во включении в реестр требований кредиторов требования участника должника из договора займа, если будет доказано, что такой участник фактически осуществлял докапитализацию должника путем предоставления соответствующего займа;
2)какие обстоятельства могут лечь в основу отказа во включении в реестр требований кредиторов требования участника должника из предоставления займа?
Правовые позиции:
1)да, в деле о банкротстве общества требование мажоритарного участника, фактически осуществлявшего докапитализацию, о возврате финансирования не может быть уравнено с требованиями независимых кредиторов (противопоставлено им), поскольку вне зависимости от того, каким образом оформлено финансирование, оно, по существу, опосредует увеличение уставного капитала. Иной вывод противоречил бы самому понятию конкурсного кредитора (абз. 8 ст. 2 Закона о банкротстве, определение ВС РФ от 15.02.2018 № 305-ЭС17-17208);
141

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
2)установление цели предоставления займа в виде пополнения оборотных средств, предоставление займа на нерыночных условиях, увеличение перед банкротством ставки процента за пользование капиталом, неистребование займа при просрочке, предоставление займа в целях избежания банкротства, общее фактическое руководство должника и участника, вхождение в одну группу компаний, расположение участника и должника на одной производственной площадке, связь общими производственными коммуникациями, предоставление займа
для пополнения оборотных средств дочернего общества в связи с отсутствием у последнего достаточного имущества для расчета с иными (гражданско-право- выми) контрагентами (в частности, для исполнения обязательств), в целях обеспечения непрерывного технологического процесса, стабильной работы группы компаний и т.д.
Комментарий
В настоящем деле, в отличие от предыдущих, используется термин «докапитализация», которая становится основанием для отказа во включении требования в реестр требований кредиторов. Здесь мы видим также обстоятельства, свидетельствующие о докапитализации: пополнение оборотных средств, предоставление средств в целях избежания банкротства. Отсюда уже вытекает проблематика требований из финансирования для спасения должника: достаточно ли этого для того, чтобы отказать спасавшему участнику в признании его требования не имеющим общей обязательственной природы? По мнению ВС РФ — да, но мы придерживаемся альтернативной точки зрения.
Здесь, кажется, использованы в качестве подтверждающих докапитализацию обстоятельства, на самом деле свидетельствующие о другом, — речь идет о ссылке на общее фактическое руководство, единый технологический процесс. На наш взгляд, они могли подтверждать не цель — докапитализацию, а то, что между сторонами нет стандартных обязательственных отношений (с автономией воли и самостоятельностью в принятии решений). Забегая вперед, скажем, что, по нашему мнению, это и должно служить основанием для исключения защиты соответствующих требований в качестве обязательственных.
Определение ВС РФ от 04.06.2018 № 305-ЭС18-413 по делу о банкротстве
ООО коммерческий банк «БФГ-Кредит»
Правовые проблемы:
1)каковы особенности рассмотрения требований кредиторов в деле о банкротстве по сравнению с обычным исковым производством;
2)каковы особенности рассмотрения гражданско-правовых требований участников должника при их включении в реестр требований кредиторов?
142

Свободная трибуна
Правовые позиции:
1)при рассмотрении заявлений о включении рядовых гражданско-правовых кредиторов суд осуществляет более тщательную проверку обоснованности требований по сравнению с общеисковым гражданским процессом, т.е. основанием к включению выступают ясные и убедительные доказательства наличия и размера задолженности;
2)при рассмотрении же требований о включении неминоритарных акционеров (участников) применяется более строгий стандарт доказывания: такие акционеры должны не только представить ясные и убедительные доказательства наличия и размера задолженности, но и опровергнуть наличие у такой задолженности корпоративной природы, в частности подтвердить, что при возникновении долга они не пользовались преимуществами своего корпоративного положения (например, в виде наличия недоступной иным лицам информации о финансовом состоянии должника, возможности осуществлять финансирование в условиях кризиса в обход корпоративных процедур по увеличению уставного капитала и т.д.). Целью судебной проверки таких требований является исключение у суда любых разумных сомнений в наличии и размере долга, а также в его гражданско-правовой характеристике.
Комментарий
В данном деле впервые используется аргумент об информационной асимметрии, а также о возможности использования своего положения в целях обоснования отказа во включении требования в реестр. Вновь придавая юридическое значение «кризису» в обществе, ВС РФ, видимо, и усматривает в знании о кризисе основу для вменения участнику. На наш взгляд, чтобы принять этот подход, необходимо согласиться с тем, что помощь своему должнику в условиях кризиса априори не позволяет квалифицировать требование в качестве обязательственного. Однако эта аргументация не кажется нам полной, а выбранный критерий — основным.
Определение ВС РФ от 07.06.2018 № 305-ЭС16-20992 (3) по делу о банкротстве Одинцова А.Н.
Правовые проблемы:
1)может ли быть установлено в реестре требований кредиторов учредителя требование его общества о возврате выданного (новированного) учредителю займа;
2)какой стандарт доказывания применяется в таком случае;
3)что нужно доказать для включения требования общества в реестр требований кредиторов его учредителя;
143

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
4)что может свидетельствовать о злоупотреблении правом для отказа во включении требования общества в реестр требований кредиторов его учредителя;
5)имеет ли значение при разрешении подобных обособленных споров то обстоятельство, что срок возврата займа неоднократно продлевается, а также то, что сумма займа не истребовалась кредитором до возбуждения дела о банкротстве должника;
6)может ли возврат займов учредителю прикрывать распределение прибыли;
7)каковы последствия установления того обстоятельства, что распределение прибыли прикрывается возвратом займов?
Правовые позиции:
1)да. Заключение сделки между заинтересованными лицами не может служить самостоятельным признаком злоупотребления правом в их поведении. Равным образом отсутствуют основания полагать, что этот факт безусловно указывает на необходимость отказа во включении в реестр заявленного требования или понижения очередности при его удовлетворении;
2)если степень аффилированности между кредитором, заявляющим требование, и должником является существенной, то такой кредитор обязан опровергнуть обоснованные доводы заинтересованных лиц о признаках недобросовестности в их действиях, в первую очередь по отношению к независимым кредиторам должника. Проверка таких требований осуществляется судом более тщательно;
3)несмотря на то, что заемные отношения между обществом и его участником законодательством допускаются, общество-заимодавец, заявляя о включении задолженности по займу в реестр, обязано, помимо прочего, обосновать экономическую целесообразность предоставления денежных средств своему участнику на возвратной основе;
4)намерение должника путем манипулирования денежными средствами подконтрольного ему общества искусственно нарастить кредиторскую задолженность на случай своего банкротства с целью последующего уменьшения количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов;
5)да;
6)да. Нормальным способом изъятия участниками и акционерами денежных средств от успешной коммерческой деятельности принадлежащих им организаций является распределение прибыли либо выплата дивидендов. Вместе с тем возможны ситуации, когда прибыль изымается участником общества или выплачивается ему под прикрытием иной сделки, например займа;
7)установив признаки притворности такой сделки, суд с учетом конкретных обстоятельств дела вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения, свя-
144

Свободная трибуна
занные с распределением прибыли по правилам п. 2 ст. 170 ГК РФ, признав за прикрываемым требованием статус корпоративного, не подлежащего включению в реестр.
Комментарий
Интерес к этому делу предопределен его «оборотным» характером: не участник включается в реестр своего общества, а наоборот — общество в реестр своего участника. На наш взгляд, это дело подтверждает, что основа для отказа во включении требования связанного лица лежит не в самом факте использования займа вместо капитализации, а в ином. Забегая вперед, заметим, что мы видим ее в отсутствии обязательственной природы требований в ситуации, когда связанные лица действуют не автономно в собственном интересе и своей волей, а оформляют волю одного лица (одного из них или общего для них). В отсутствии свободных волеизъявлений автономно действующих субъектов мы и усматриваем основу для отказа в квалификации требования в качестве обязательственного.
Определение ВС РФ от 23.07.2018 № 310-ЭС17-20671 по делу о банкротстве ОАО «Арсеньевский мясокомбинат»
Правовые проблемы:
1)может ли быть включено в реестр требований кредиторов должника требование связанного с ним лица (руководителя, учредителя), перешедшее к этому лицу от кредитора должника в связи с исполнением таким лицом обязательства должника перед кредитором в качестве поручителя;
2)может ли быть отказано во включении в реестр требований кредиторов в подобных случаях связанному лицу, если доказано, что оно, используя свое влияние на должника и иных лиц, выводило средства из должника в пользу иных подконтрольных ему лиц?
Правовые позиции:
1)да;
2)да.
Комментарий
В данном деле требование, которое ранее было бы включено в реестр и противопоставлялось всем остальным кредиторам, перестало быть таковым, потому что
145

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
перешло к участнику должника, создавшему, в свою очередь, систему хозяйствования, при которой должник хронически испытывал дефицит денежных средств. На наш взгляд, основания для отказа здесь лежат не столько в статусе кредитора, сколько в наличии оснований для привлечения его к субсидиарной ответственности за доведение до банкротства — если они имеются, то требование субсидиарного должника не могло быть установлено (о чем пойдет речь ниже).
Определение ВС РФ от 23.08.2018 № 305-ЭС18-3533 по делу о банкротстве
ООО «ТВ-Альянс»
Правовые проблемы:
1)какие обстоятельства могут свидетельствовать о нереальности предъявленного к включению в реестр требований кредиторов долга из поставки, предъявленного лицом, которому такой долг был уступлен;
2)достаточно ли наличия товаросопроводительных документов для опровержения довода о нереальности долга из соответствующей поставки;
3)меняется ли стандарт доказывания при установлении требования аффилированного с должником кредитора?
Правовые позиции:
1)регистрация поставщика по адресу массовой регистрации; образование поставщика за несколько месяцев до осуществления поставок в значительных масштабах при наличии небольшого уставного капитала; отсутствие доказательств, подтверждающих возможность или факт приобретения товаров поставщиком (не являющимся производителем); прекращение деятельности поставщика с предварительной уступкой долга при наличии значительной дебиторской задолженности; неоплата требования цессионарием; признание цессионария банкротом; отсутствие сведений о судьбе поставленного должнику имущества и др.;
2)нет;
3)да. Такой кредитор должен исключить любые разумные сомнения в реальности долга, поскольку общность экономических интересов в том числе повышает вероятность представления кредитором внешне безупречных доказательств исполнения по существу фиктивной сделки с противоправной целью последующего распределения конкурсной массы в пользу дружественного кредитора и уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю кредиторов независимых (определения ВС РФ от 26.05.2017 № 306- ЭС16-20056 (6), от 11.09.2017 № 301-ЭС17-4784), что не отвечает стандартам добросовестного осуществления прав.
146

Свободная трибуна
Комментарий
Это дело подтверждает, что особое отношение к требованиям связанных с должником лиц не в последнюю очередь вызвано особенностями формирования ими доказательственной базы. Кроме того, этот случай показывает, что в отношении требований связанных лиц наряду со ссылкой на допущенное злоупотребление правом может быть выдвинуто возражение о симуляции (притворстве, мнимости), что, конечно же, также нуждается в анализе. Представляется, что именно подозрения в симуляции являются альтернативным мотивом для специального рассмотрения таких требований (об этом речь пойдет ниже).
Определение ВС РФ от 04.10.2018 № 305-ЭС18-9321 по делу о банкротстве
ООО «Пассим»
Правовые проблемы:
1)может ли размещение в средствах массовой информации сведений о бенефициаре группы компаний свидетельствовать об их общедоступном характере (для признания их доказанными);
2)каковы последствия исполнения обязательства одним из совместных поручителей не в полном объеме перед конкретным кредитором применительно к включению требования такого совместного поручителя в реестр требований кредиторов другого поручителя в части доли от соответствующего превышения, если в реестр требований кредиторов включено также остающееся неисполненным требование основного кредитора;
3)что должен указать суд при установлении требования в такой ситуации?
Правовые позиции:
1)да;
2)должник в обеспечительном обязательстве, частично исполнивший обязательство перед кредитором, не имеет права на удовлетворение своего требования к другому солидарному должнику до полного удовлетворения последним требований кредитора по основному обязательству;
3)то, что исполнивший совместный поручитель (содолжник в солидарном поручительстве) не может получить исполнение ранее кредитора, требование которого было обеспечено совместным поручительством.
Комментарий
Данное дело в целом продолжает линию подходов, выработанных в деле о банкротстве О.Л. Михеева. Здесь, однако, есть одна особенность: интерес вызывает
147

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
подтверждение факта бенефициарного владения в отношении группы компаний ссылкой на данные, содержащиеся в средствах массовой информации. Как представляется, это не что иное, как применение повышенного стандарта к связанному лицу: оно должно опровергнуть разумные предположения о том, кто является бенефициаром.
Определение ВС РФ от 15.10.2018 № 305-ЭС18-6771 по делу о банкротстве
ООО «Техсервис»
Правовая проблема
Подлежит ли отмене судом кассационной инстанции определение об утверждении между должником и его кредитором мирового соглашения, если обжалующий его конкурирующий кредитор по делу о банкротстве должника приводит доказательства связанности соответствующих лиц, а также указывает на отчуждение должником единственного актива по заниженной цене в счет исполнения обязательства за дружественного кредитора — стороны мирового соглашения?
Правовая позиция
Да, если указанные обстоятельства не были известны суду первой инстанции и не оценивались им.
Комментарий
Данное дело примечательно тем, что сама по себе связанность лиц стала обстоятельством, которое подлежит учету при рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения. На наш взгляд, это означает не что иное, как проявление процессуальных последствий связанности. По существу, связанным участникам необходимо будет опровергнуть потенциальные презумпции использования института мирового соглашения со злоупотреблением правом. Для целей настоящей статьи и ее последующего тезиса, согласно которому связанность сама по себе влечет только процессуальные, а не материальные последствия, приведенное дело иллюстрирует это утверждение.
Определение ВС РФ от 03.12.2018 № 303-ЭС18-11878 (1, 2) по делу о банкротстве Дроздова О.В.
Правовые проблемы:
1)свидетельствует ли само по себе совершение сделки между заинтересованными лицами о злоупотреблении правом и может ли оно привести к отказу во включении требования одного такого лица в реестр требований кредиторов другого;
148

Свободная трибуна
2)каковы последствия установления существенной заинтересованности между кредитором и должником;
3)что может свидетельствовать о притворности отношений между заинтересованными лицами и влечь отказ во включении требования реестр требований кредиторов?
Правовые позиции:
1)нет;
2)сделки подлежат проверке на предмет притворности;
3)в ситуации, когда контролирующий участник компании — заимодавца фактически не обособляет имущество последней и рассматривает его как собственное, изымает из оборота подконтрольной организации прибыль под видом получения займов с тем, чтобы в дальнейшем противопоставить требование аффилированного лица требованиям независимых кредиторов, заемных отношений между участником и компанией не возникает, так как суммы займов участник предоставляет фактически сам себе.
Комментарий
С выводами по данному делу мы полностью согласны, наше обоснование мы приводим ниже. Здесь зафиксируем следующее: связанность лиц влечет только процессуальные последствия, которые заключаются в повышенном стандарте доказывания и возможности введения презумпций недобросовестности (нереальности); смешение имущества и единоличное принятие решений «должником» свидетельствует об отсутствии обязательственных отношений между этими лицами (основанных на принципе автономии воли и имущественной самостоятельности).
Определение ВС РФ от 24.12.2018 № 305-ЭС18-15086 (3) по делу о банкротстве ИП Алякина А.А.
Правовые проблемы:
1)в условиях аффилированности заемщика, кредитора и поручителя опровергает ли предположение о совершении договора поручительства в целях создания фиктивной задолженности для противопоставления независимым кредиторам то обстоятельство, что их экономические интересы не совпадают;
2)свидетельствует ли о совпадении экономических интересов сторон то, что их действия координируются одним лицом, обладающим полномочиями давать обязательные для исполнения указания, свободно перемещать активы из одного лица в другое в собственных целях без учета прав кредиторов подконтрольных организаций;
149

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
3)свидетельствует ли о несовпадении таких интересов то, что капитал кредитора распределен между несколькими лицами, в отношении которых не доказано, что их интересы как самостоятельных субъектов оборота (а не как акционеров, связанных по признаку группы лиц с самим кредитором) совпадают;
4)имеет ли значение для рассмотрения подобных споров (противопоставление связанности при оспаривании сделок) то, что требование было уступлено не связанному с должником лицу?
Правовые позиции:
1)да;
2)да, наличие такого контроля может быть использовано и при выстраивании внутригрупповых связей, например для создания мнимого долга поручителя перед контролируемым им заимодавцем (фактически долг перед самим собой) в целях причинения вреда иным кредиторам поручителя на случай банкротства;
3)да;
4)да.
Комментарий
Мы вновь согласимся с выводами по делу. Нам кажется правильным направление отрицания обязательственной природы отношений там, где нет автономных и самостоятельных в имущественном плане кредитора и должника. Мы считаем полезным вывод о том, что предположение отсутствия автономности и имущественной самостоятельности может опровергаться невозможностью отрицания личности «должника» со стороны соответствующего кредитора (в силу распределения капитала, не позволяющего кредитору проводить собственную волю в отношении должника). Важным нам представляется и вывод о невозможности противопоставления статуса связанности правопреемнику аффилированного с должником лица, который такой связанностью не обладает.
Определение ВС РФ от 04.02.2019 № 304-ЭС18-14031 по делу о банкротстве
ООО «Анкор Девелопмент»
Правовые проблемы:
1)влечет ли связанность кредитора с должником сама по себе понижение очередности удовлетворения требования такого кредитора, если это требование не является корпоративным;
2)свидетельствует ли то, что заимодавцем должника выступает его участник, само по себе о корпоративном характере требования;
150

Свободная трибуна
3)что подлежит исследованию при рассмотрении требования связанного с должником лица;
4)является ли аргументом в пользу включения такого требования в одну очередь с независимыми кредиторами то, что механизм финансирования связанным с должником кредитором был раскрыт перед независимыми кредиторами;
5)что может служить основанием для отказа во включении требования связанного лица в одну очередь с независимыми кредиторами;
6)может ли независимый кредитор (правопреемник) возражать против установления требования связанного с должником кредитора, ссылаясь на такую связанность, если этот независимый кредитор ранее был осведомлен о механизме финансирования должника связанным лицом и согласился на отсутствие оснований для субординации требований связанного лица по отношению к своим требованиям;
7)является ли аргументом в пользу включения требования участника-заимодавца в одну очередь с независимыми кредиторами то обстоятельство, что докапитализация общества через увеличение уставного капитала была невозможной по причине корпоративного конфликта в обществе?
Правовые позиции:
1)нет;
2)нет;
3)правовая природа отношений между аффилированным (связанным) лицом и должником, цели и источники предоставления денежных средств, экономическая целесообразность и необходимость привлечения путем выдачи займа, дальнейшее движение полученных заемщиком денежных средств;
4)да;
5)выдача займа с целью компенсации негативных результатов воздействия связанного лица на хозяйственную деятельность должника, сокрытие кризисной ситуации от кредиторов, транзитный характер перечислений с целью создания искусственной задолженности;
6)нет;
7)да.
Комментарий
Данное дело вновь подтверждает основной вывод статьи: сама по себе связанность не может влечь материальные последствия, а процессуальные последствия заключаются в расширении предмета доказывания (приведенные характеристики состоявшегося
151

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
финансирования). Верным нам представляется и вывод о недопустимости возражения о связанности в случаях, когда независимому кредитору было известно о финансировании и условиях финансирования. По существу, такие кредиторы согласились с конкуренцией за конкурсную массу. Подобное раскрытие информации о финансировании косвенно подтверждает автономность кредитора и должника. Из приведенных ВС РФ обстоятельств, препятствующих включению требования, мы согласимся с транзитным характером расчетов, а также с нераскрытием сведений о кризисе. Компенсация негативных последствий управления, на наш взгляд, как критерий для отказа во включении требования связана с отрицанием принципа ограниченной ответственности, с чем мы не можем согласиться (подробнее в аналитической части статьи). Считаем, что аргументы о наличии корпоративного конфликта могли бы подтверждать тезис о невозможности отрицания автономности общества от кредитора; здесь же мы видим ссылку на невозможность докапитализации.
Определение ВС РФ от 28.02.2019 № 305-ЭС18-18943 по делу о банкротстве
ООО «СКАН»
Правовые проблемы:
1)может ли быть отказано во включении внутригруппового требования одного члена группы компаний в реестр требований другого члена, имеющего к заявителю свое требование с пропущенным сроком исковой давности и не проявлявшего интереса к получению удовлетворения по нему;
2)может ли опровергать довод о злоупотреблении правом то обстоятельство, что текущее соотношение взаимных обязательств сторон стало результатом операций, значительно отстоящих по времени друг от друга, а также от даты возбуждения дела о банкротстве в отношении должника?
Правовые позиции:
1)да, если не опровергнуто, что причиной бездействия должника (по взысканию встречного долга с заявителя) являлось отношение к внутригрупповым встречным обязательствам как к прекращенным в результате типичной оптимизации внутригрупповых долгов без соответствующего завершающего юридического оформления. Предполагается, что связанные организации, контролируемые одним центром, не имеют разумных причин взыскивать долги друг с друга, в связи с чем презюмируется, что взаимные долги прекращаются в результате внутригрупповой оптимизации и не подлежат взысканию в судебном порядке;
2)нет. В обычном обороте аффилированные юридические лица, действующие добросовестно, как правило, стремятся оптимизировать внутригрупповые долги. Наличие между ними доверительных отношений, подчиненность единому центру позволяют им находиться в процессе оптимизации сколь угодно долго. Поэтому временной разрыв не имеет правового значения для правильной квалификации внутригрупповых сделок.
152

Свободная трибуна
Комментарий
В очередной раз согласимся с процессуальными последствиями установления связанности: в данном деле необходимо было опровергнуть предположение о прекращении взаимных обязательств в процессе оптимизации внутригрупповых долгов. По сути, это не что иное, как опровержение предположения об отсутствии типичных обязательственных отношений между участниками группы; управление из одного центра как аргумент для подобного рода дел нам кажется также симптоматичным: речь идет о возможности смещения волевого центра (об этом во второй части статьи). Сама по себе возможность формирования доказательственной базы (временной разрыв) позволяет критически отнестись в процессуальном смысле к соответствующим возражениям; мы также приходим к схожим выводам.
Кроме того, нам кажется важным использование категории «внутригрупповой долг» (см. также Руководство для законодательных органов по вопросам несостоятельности Комиссии ЮНСИТРАЛ), что выводит круг связанных лиц за пределы пары «участник — общество». Такое расширение является верным, обоснование чему мы приводим в аналитической части статьи.
***
Что касается позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, то в соответствии с п. 15 Обзора судебной практики ВС РФ № 2 за 2018 г., утвержденного Президиумом ВС РФ возврат приобретшего корпоративную природу капиталозамещающего финансирования не за счет чистой прибыли, а за счет текущей выручки должника необходимо рассматривать как злоупотребление правом со стороны мажоритарного участника (акционера). Соответствующие действия, оформленные в качестве возврата займов, подлежат признанию недействительными по правилам ст. 10, 168 ГК РФ как совершенные со злоупотреблением правом.
Зарубежный опыт правового регулирования требований связанных лиц
США
В соответствии с п. «c» ст. 510 Банкротного кодекса США суд может субординировать для целей распределения все или часть требования по отношению к другим требованиям на основании принципа справедливой субординации (equitable subordination). Согласно отчету Сената в рамках реформы 1978 г. (Senate Report (Reform Act of 1978)), этот принцип был определен в судебной практике и показывает, что требование может быть субординировано, только если его владелец виновен в противоправном поведении (guilty of misconduct)3. В отчете Конгресса к этой же реформе (Congressional Record Statements (Reform Act of 1978)) сообщает-
3См.: Norton W.L. Jr., Norton W.L. III. Norton Bankruptcy Law and Practice. Bankruptcy Code and related Legislation, Legislative History, Editorial Commentary, Case Annotations. 2nd ed. Callaghan, 2007–2008. P. 581.
153

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
ся также о таком основании для субординации, как несправедливое поведение (guilty of inequitable conduct)4; кроме того, указывается, что требование может быть субординировано, если оно само по своему статусу подходит для субординации (ответственность или требование об убытках, возникшее из продажи (покупки) имущества должника)5. В этом же отчете сообщается, что невозможно совмещение статусов обеспеченного требования и требования, подлежащего субординации6.
Интересно, что иллюстрирование вопросов субординации примерами из судебной практики перемежается примерами как собственно субординации, так и переквалификации требований из обязательственных в корпоративные. На наш взгляд, такое смешение показательно: оно подтверждает, что названные инструменты хотя и используются в сходных обстоятельствах, но являются различными по своей природе и, следовательно, по предпосылкам применения.
В качестве примеров субординации (subordination) и переквалификации (recharacterization), в частности, приводятся:
–решение, где субординировано требование связанного с должником лица (insider), которое являлось членом комитета кредиторов и приобрело требование с дисконтом без раскрытия факта приобретения7;
–решение, где сделан вывод о том, что справедливая субординация допускается и тогда, когда ненадлежащее поведение кредитора не обнаружено8;
–решение, где переквалификация обязательственного требования (claim) в право на капитал (equity) (т.е. в российской терминологии переквалификация требования из обязательственного в корпоративное) была обусловлена инсайдерским статусом кредитора по отношению к должнику, отсутствием срока исполнения требования по займу, неистребованием суммы займа до момента, пока должник не станет прибыльным, историей убыточности должника, историей несения кредитором убытков должника. Само по себе обстоятельство, что отношения кредитора и должника включали продажу оборотных средств, а не основных фондов, не препятствовало переквалификации9;
–решение, где суд указал на возможность субординации только в трех случаях: а) когда бенефициар должника недобросовестно использует свое положение в ущерб другим кредиторам; б) когда третье лицо контролирует должника
4
5
6
См.: Norton W.L. Jr., Norton W.L. III. Op. cit.
Ibid.
Ibid.
7См.: Citicorp Venture Capital, Ltd v. Committee of Creditors Holding Unsecured Claims. 160 F. 3d 982, 33 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 647, Bankr. L. Rep. (CCH) 77846 (3rd Cir. 1998).
8См.: Burden v. U.S. 917 F. 2d 115, 20 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 1937, 24 Collier Bankr. Cas. 2d (MB) 187, 90-2 U.S. Tax Cas. (CCH) 50598, 66 A.F.T. R.2d 90-5792 (3rd Cir. 1990.
9См.: In re O cial Committee of Unsecured For Dornier Aviation (North America), Inc. 453 F. 3d 225, 46 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 189, Bankr. L. Rep. (CCH) P 80636 (4th Cir 2006).
154
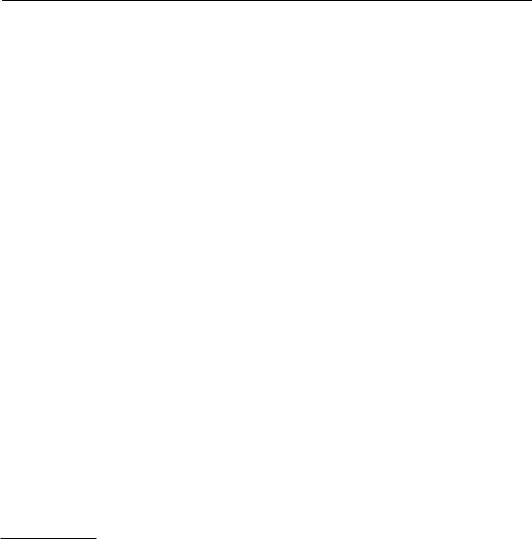
Свободная трибуна
вущерб другим кредиторам; в) когда третье лицо причиняет ущерб другим кредиторам10;
–решение, согласно которому удержание вещей в соответствии с условиями договора не является несправедливым поведением кредитора для целей субординации11;
–решение, согласно которому заем инсайдера должнику в недостаточно капитализированной компании не обязательно является несправедливым поведением и влечет субординацию12;
–решение, в котором уменьшение кредитором объема доступного должнику кредита, приводящее к ликвидации оборотных средств, не расценено как достойное основание для субординации требования этого кредитора. По мнению суда, у кредитора нет фидуциарной обязанности по отношению к другим кредиторам или должнику, в связи с чем субординация возможна только при недобросовестном взыскании задолженности13;
–решение, согласно которому субординация не может быть применена к невиновному правопреемнику по требованию; она возможна, только когда фидуциарное лицо злоупотребляет своим положением, кредитор контролирует должника
вущерб другим кредиторам и причиняет им вред14;
–решение, согласно которому для субординации требования суд должен установить специальные основания, например вовлеченность кредитора в несправедливое поведение, причинение таким поведением вреда другим кредиторам или предоставление заявителю несправедливого преимущества, соответствие субординации другим положениям Банкротного кодекса США15;
–решение, согласно которому недостаточная капитализация должника сама по себе не является достаточным основанием для субординации требования инсайдера, если не имело место неправомерное или несправедливое поведение инсайдера16;
10См.: Matter of Cajun Elec. Power Co-op., Inc. 119 F. 3d 349, 31 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 333, Bankr. L. Rep. (CCH) 77486 (5th Cir. 1997).
11См.: Matter of U.S. Abatement Corp. 39 F. 3d 556, 26 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 360, 32 Collier Bankr. Cas. 2 d (MB) 761, Bankr. L. Rep. (CCH) 76208 (5th Cir. 1994).
12См.: Matter of Herby’s Foods, Inc. 2 F. 3d 128, 24 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 1116, 29 Collier Bankr. Cas. 2d (MB) 1375, Bankr. L. Rep. (CCH) 75446 (5th Cir. 1993).
13См.: Matter of Clark Pipe and Supply Co., Inc. 893 F. 2d 693, 20 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 68 22 Collier Bankr. Cas. 2d (MB) 500 (5th Cir. 1990).
14См.: Matter of CTS Truss, Inc., 859 F. 2d 357, 18 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 859, 19 Collier Bankr. Cas. 2d (MB) 1163 (5th Cir. 1988).
15См.: Matter of Missionary Baptist Foundation of America, Inc. 712 F. 2d 206, 11 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 144, 9 Collier Bankr. Cas. 2d (MB) 160, Bankr. L. Rep. (CCH) 69394, 13 Fed. R. Evid. Serv. 1146, 71 A.L.R. Fed. 186 (5th Cir. 1983).
16См.: Matter of Lifschultz Fast Freight. 132 F. 3d 339, 31 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 1103, 32 Collier Bankr. Cas. 2d (MB) 97, Bankr. L. Rep. (CCH) 77584 (7th Cir. 1997).
155

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
–решение, в соответствии с которым бывшие акционеры должника, которым не удалось предложить свои акции в ходе поглощения, согласно праву штата Делавэр становятся кредиторами, чьи требования субординируются и в том случае, когда держатели названных акций невиновны в каком-либо несправедливом поведении17;
–решение, в соответствии с которым субординации одного административного расхода по отношению к другому не может быть, пока не установлено, что кредитор был вовлечен в несправедливое поведение, которое причинило вред кредиторам или привело к извлечению несправедливого преимущества соответствующим кредитором18;
–решение, согласно которому фокус при субординации требования инсайдера направлен на установление того, привело ли его поведение к несправедливому причинению вреда отдельным кредиторам или предоставило ли оно инсайдеру несправедливое преимущество, а не только на то, привело ли поведение инсайдера к вреду для кредиторов в целом. Субординация при этом может быть допущена только в отношении кредиторов, которые пострадали от такого поведения19;
–решение, в соответствии с которым субординация требует, чтобы кредитор был вовлечен в несправедливое поведение, такое поведение привело ко вреду для кредиторов, а субординация соответствует банкротному праву20;
–решение, согласно которому без подтверждения обстоятельств несправедливого поведения одних кредиторов, являющегося основой для субординации, другие кредиторы не вправе требовать от должников удовлетворения реестровых требований в порядке погашения текущих платежей в целях продолжения получения существенных поставок и услуг21.
Обратим внимание также на определение понятия «инсайдер» согласно п. 31 ст. 101 Банкротного кодекса США, поскольку в некоторых решениях американских судов юридическое значение для субординации придается именно этому статусу. Это особенно важно, если принять во внимание предмет настоящей статьи — обсуждение статуса связанных лиц и его последствий для определения способов защиты (реализации) требований связанных с должником лиц в деле о его банкротстве.
17См.: Matter of Envirodyne Industries p, Inc. 79 F. 3d 579, 28 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 1073, 35 Collier Bankr. Cas. 2d (MB) 691, Bankr. L. Rep. (CCH) 76836 (Uth Cir. 1996).
18См.: In re Lazar, 83 F. 3d 306, 35 Collier Bankr. Cas. 2d (MB) 1259, Bankr. L. Rep. (CCH) 76967 (9th Cir. 1996).
19См.: Stoumbos v. Kilimnik. 988 F. 2d 949, Bankr. L. Rep. (CCH) P 75183, 20 U.C.C. Rep. Serv. 2d 333 (9th Cir. 1993).
20In re Universal Farming Industries. 873 F. 2d 1334, 19 Bankr. Ct. Dec. (CRR) 1078, Bankr. L. Rep. (CCH) 72883 (9th Cir. 1989).
21См.: Matter of B & W Enterprises, Inc. 713 F. 2d 534, 11 Bankr. Ct. Dec (CRR) 141, 9 Collier Bankr. Cas. 2d (MB) 302, Bankr. L. Rep. (CCH) 69397 (9th Cir. 1983).
156

Свободная трибуна
Итак, квалификация кредитора в качестве инсайдера в банкротной практике США имеет значение для применения доктрины справедливой субординации. Согласно
п. 31 ст. 101 Банкротного кодекса США к инсайдерам относятся:
–директор (director) должника;
–служащий (officer) должника;
–лицо, контролирующее должника (person in control of the debtor);
–товарищество (partnership), в котором должник является генеральным (управляющим) партнером;
–управляющий партнер должника;
–лицо, связанное (relative of) с управляющим партнером, директором, служащим, контролирующим лицом должника.
В свою очередь, в соответствии с п. 45 ст. 101 Банкротного кодекса США связанным лицом является физическое лицо, находящееся в родстве или кровном родстве третьей степени в соответствии с общим правом (common law) или усыновленное физическое лицо.
Великобритания
В соответствии со ст. 215 британского Закона о несостоятельности суд может указать на удовлетворение после всех других требований тех требований, которые принадлежат лицам, виновным в неправомерном ведении дел (fraudulent trading; ст. 213 названного Закона) или мошенническом ведении дел (wrongful trading; ст. 214 названного Закона).
Кроме того, этот Закон отклоняет суммы (deffered claims), которые должник должен членам компании (дивиденды, прибыль или иное) (ст. 74)22. Эти требования удовлетворяются после всех других требований кредиторов.
В то же время из дела Soden23 выводится то, что такое отклонение возможно только в отношении требований, принадлежащих участникам компании в качестве именно участников (as a member), и не касается иных требований (сумм), даже если они предъявляются участниками (бывшими или потенциальными). В частности, это правило не применяется к суммам, причитающимся участнику (потенциальному) в связи с введением компанией его в заблуждение24. Р. Гуд, правда,
22См.: Goode R. Principles of Corporate Insolvency Law. 4th ed. London, 2011. P. 253; Finch V. Corporate Insolvency Law Perspective. Cambridge, 2002. P. 446.
23См.: Soden v.British & Commonwealth Holdings plc (in administration) [1997] BCC 952.
24Ibid.
157

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
добавляет, что такое требование будет допустимым, если участник откажется от договора на приобретение акций25. Примечательно, что указанное ограничение (отклонение до момента отказа от приобретения акций), по свидетельству Р. Гуда, не распространяется на правопреемника. Это тем более важно, учитывая необходимость обсудить правовое положение правопреемников в части требований связанных лиц.
По мнению Р. Гуда, в отличие от США, где доктрина справедливой субординации была развита для решения проблематики займов материнских фирм по отношению к своим недокапитализированным дочерним компаниям, в Англии в такой доктрине нет необходимости. Объясняется это тем, что у суда имеются достаточные полномочия для решения соответствующих проблем на основании правила об отклонении требований директоров, виновных в fraudulent trading (ст. 213 британского Закона о несостоятельности) и wrongful trading (ст. 214 британского Закона о несостоятельности)26.
Германия
ФРГ является ключевым правопорядком, где обсуждаемая проблематика нашла решение на законодательном уровне, причем оно подвергалось уточнению.
В соответствии с подп. 5 п. 1 § 39 немецкого Положения о несостоятельности в действующей редакции требования о возврате займа, предоставленного акционером (участником), или требования, вытекающие из правовых актов, экономически соответствующих такому займу, субординируются и удовлетворяются после удовлетворения требований иных кредиторов.
Исключения для такой субординации предусмотрены:
–для случаев предоставления финансирования в целях санации должника при угрожающей или наступившей неплатежеспособности должника (п. 4 § 39 Положения о несостоятельности);
–для не ведущих бизнес акционеров с долей в капитале должника менее 10%.
Текущая редакция § 39 Положения о несостоятельности является результатом предшествующих изменений: ранее субординировались требования о возврате займа, предоставленного в погашение взносов участника общества для образования капитала, и приравненные к ним требования. Отсюда следует, что если прежде в ФРГ субординация основывалась на изучении цели финансирования, где к ней вело предоставление займа в целях замещения капитала (капиталозамещающее финансирование), то сейчас такая субординация производится автоматически.
По существу, в ФРГ перешли от субъективного к объективному вменению, что вызывает возражения. В частности, при объективном вменении кажется несоразмерным и в ряде случаев произвольным ограничение конституционного права
25См.: Goode R. Op. cit. P. 254.
26Ibid. P. 254–255.
158

Свободная трибуна
собственности участников в тех случаях, когда они предоставляют финансирование в качестве обычных гражданско-правовых кредиторов. Сама по себе сложность доказывания целей и обстоятельств предоставления не может приводить к отказу в праве соответствующим кредиторам защитить свое требование. Забегая вперед, заметим, что, на наш взгляд, не будет оснований для дискриминации требования связанного лица в том случае, когда предоставление финансирования не сопровождалось опровержением самостоятельности участников заемных отношений, а связанное лицо не являлось виновным в изначальной недостаточной капитализации должника и не нарушало информационной обязанности перед кредиторами.
По нашему мнению, не случайно, что и в ФРГ субординация требований участников вызывает возражения среди ученых. В частности, А. Шайдуллин27 ссылается на критическую оценку субординации со стороны К. Бука28 и В. Мейлике29.
Комиссия ЮНСИТРАЛ
Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам несостоятельности (далее — Руководство) содержит ряд существенных положений, касающихся требований связанных лиц в деле о банкротстве.
Прежде всего в нем обсуждается само понятие связанного лица. Так, в соответствии с п. 183 главы II части второй Руководства «лица, связанные с должником, определяются, как правило, по различным уровням связей с должником. В большинстве правовых систем лицами, связанными с должником, считаются лица, имеющие в той или иной форме корпоративные или семейные связи с должником… Что касается лиц, находящихся в той или иной форме коммерческих отношений с должником, то в рамках узкого подхода под эту категорию подпадают директора или руководство предприятия должника, а под более широкое определение могут подпадать не только лица, осуществляющие фактический контроль над его предприятием, но и, возможно, все служащие должника и гаранты любых долгов любого лица, имеющего коммерческую связь с должником».
Далее в Руководстве уделяется внимание проблематике требований лиц, связанных с должником. Так, согласно его п. 48 главы V части второй «одна из категорий кредиторов, которая может потребовать особого внимания, — это лица, связанные с должником как в семейном, так и в коммерческом качестве. Введение специального режима для требований таких лиц зачастую представляется оправданным на том основании, что они имеют больше шансов оказаться в более благоприятном положении по сравнению с другими кредиторами и раньше других узнать о финансовых трудностях должника. Хотя требования
27См.: Шайдуллин А. Субординация требований контролирующих лиц в Германии и Австрии: компаративная справка к научно-практическому круглому столу Юридического института «М-Логос» на тему «Судьба договорных требований контролирующих компанию лиц и иных аффилированных кредиторов при банкротстве компании» (Москва, 27 апреля 2018 г.). URL: https://m-logos.ru/img/M-Logos_ Shaidullin_27042018.pdf.
28См.: Buck Ch. Die Kritik am Eigenkapitalersatzgedanken. Baden-Baden, 2006.
29См.: Meilicke W. Das Eigenkapitalersatzrecht — eine deutsche Fehlentwicklung // GmbHR. 2007. S. 225–236.
159

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
этих лиц формально не относятся к категориям исключаемых требований, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о том, следует ли признавать эти требования и предоставлять им тот же режим, что и требованиям других кредиторов, или же их следует признавать при условии применения специального режима. Однако только факта существования особых взаимоотношений с должником может не быть достаточно во всех случаях для обоснования специального режима в отношении требования кредитора. В некоторых случаях такие требования могут быть абсолютно прозрачными и должны рассматриваться в том же порядке, что и аналогичные требования, представленные кредиторами, которые не являются лицами, связанными с должником; в других случаях они могут давать основания для подозрений и заслуживать особого внимания. В законодательстве о несостоятельности, возможно, следует предусмотреть механизм для идентификации таких видов поведения или ситуаций, при которых требования будут заслуживать дополнительного внимания, например когда коммерческое предприятие должника чрезвычайно слабо капитализировано (в частности, если должностное лицо предприятия должника предоставило компании средства в форме ссуды, когда компания недостаточно капитализирована и продолжает осуществлять свою деятельность, не имея достаточных средств для платежей кредиторам), или когда существуют доказательства осуществления внутренних сделок (т.е. связанные с должником лица воспользовались преимуществом своего положения для получения прибыли, например когда за шесть месяцев до ликвидации принципал соглашается на компенсационный пакет, который компания не может оплатить, и предъявляет требование в отношении него при ликвидации). В таких случаях может признаваться требование на ограниченную сумму или требование может быть субординировано по отношению к требованиям других категорий кредиторов… или же права голоса кредитора, связанного с должником, могут быть ограничены в отношении некоторых вопросов (например, при выборе управляющего в деле о несостоятельности, если законодательство позволяет кредиторам сделать такой выбор)».
В продолжение темы документ содержит описание оснований субординации требований по решению суда (именуемой субординацией на основе права справедливости). В силу п. 60–61 главы V части второй Руководства «этот вид субординации имеет место тогда, когда суд обладает полномочиями изменить очередность платежей по требованиям с целью не допустить, например, того, чтобы какой-либо кредитор, совершивший мошенничество или иное противоправное действие или поступивший ненадлежащим образом с целью получения преимущества перед другими кредиторами, смог воспользоваться этим преимуществом. Первоначально эта концепция возникла с целью не допустить того, чтобы связанные с должником лица использовали правовые механизмы для получения преимуществ при установлении очередности. Для того чтобы применялся этот вид субординации, указанные действия должны на самом деле привести к нанесению ущерба другим кредиторам, такого как изменение обычной схемы распределения и обеспечение ка- кому-либо кредитору несправедливого положения в порядке очередности. Тогда суд может прибегнуть к субординации с целью восстановления системы приоритетов, чтобы обеспечить справедливое распределение. Если указанное действие совершено, но не привело к возникновению несправедливого преимущества, такой вид субординации, как правило, не может быть применен».
В Руководстве отдельно обсуждаются требования собственников и держателей обыкновенных акций, а также лиц, связанных с должником. Так, в соответствии с его п. 76 главы V части второй «собственники и держатели обыкновенных акций могут иметь требования, возникающие из кредитов, предоставленных должнику, и требования, связанные с их участием в акционерном капитале или с долей в собственности должника.
160

Свободная трибуна
Во многих законах о несостоятельности проводится различие между этими разными требованиями. В отношении требований, связанных с участием в акционерном капитале, во многих законах о несостоятельности содержится общее правило, согласно которому собственники и держатели акций коммерческого предприятия не имеют права на распределение поступлений от активов, пока не будут полностью погашены все другие требования, стоящие выше по порядку очередности (включая требования по процентам, причитающимся с момента открытия производства). Эти стороны в своем качестве редко участвуют в ка- ком-либо распределении в связи с их имущественными правами в предприятии-должнике. Когда распределение проводится, оно осуществляется, как правило, в соответствии со статусом акций, как он указан в законодательстве, регулирующем деятельность компаний, и в уставе самой компании. Вместе с тем долговые требования, например те, которые относятся к кредитам, не всегда являются субординированными».
При этом в силу п. 77 главы V части второй Руководства «еще одна категория кредиторов, которая может потребовать особого внимания, — это лица, связанные с должником либо семейными, либо коммерческими отношениями… Согласно некоторым законам о несостоятельности эти требования всегда являются субординированными, а по законодательству других стран они субординируются, только если имеет место ненадлежащее, или мошенническое, или квазимошенническое поведение. Если эти требования субординированы, они могут стоять после обычных необеспеченных требований. Другие подходы к режиму этих требований касаются не порядка очередности, а предусматривают ограничение прав на участие в голосовании либо суммы или процентной доли требований, которые могут быть признаны при производстве».
Наконец, применительно к режиму корпоративных групп в делах о несостоятельности уделяется внимание проблематике внутригрупповых долгов. В соответствии с п. 92 главы V части второй Руководства «внутригрупповые долги могут регулироваться различными режимами. Согласно некоторым законам о несостоятельности внутригрупповые сделки могут подлежать расторжению. Согласно законодательству о несостоятельности других государств, где предусматривается консолидация, вынесение постановления о консолидации прекращает внутригрупповые обязательства. Другие подходы предусматривают иную классификацию внутригрупповых сделок по сравнению с аналогичными сделками, совершенными не связанными между собой сторонами (например, долг может рассматриваться как вклад в акционерный капитал, а не как внутригрупповая ссуда), в результате чего внутригрупповое обязательство будет пользоваться более низкой очередностью по сравнению с аналогичным обязательством в отношениях между не связанными между собой сторонами».
Продолжение читайте в следующем номере
161

Обзор
практики
Айгуль Ильдаровна Шайхутдинова
студент НИУ «Высшая школа экономики»
Анастасия Евгеньевна Самотоина
слушатель РШЧП
Роман Юрьевич Матюшенков
студент НИУ «Высшая школа экономики»
Практика применения ст. 179 ГК РФ: угроза, обман, кабальность
Авторы анализируют судебную практику применения ст. 179 ГК РФ и по итогам делают вывод, что по закрепленным в ней основаниям сделки почти не оспариваются. По первому (угроза) и третьему (кабальность) основаниям суды крайне редко удовлетворяют требование о признании сделки недействительной; второе основание (обман) довольно часто используется в случае активного и пассивного обмана, чего нельзя сказать об обмане со стороны третьего лица. Важным для данной категории споров является наличие приговора по уголовному делу, так как это имеет преюдициальное значение. Однако при таком взаимодействии уголовного и гражданского законодательства суды по-разному отсчитывают начало течения срока исковой давности, а потому была бы полезной выработка единой позиции по этому вопросу Верховным Судом.
Ключевые слова: обман, угроза, кабальность, недействительность сделки
162

Обзор практики
Aigul Shaikhutdinova
Student at the Higher School of Economics
Anastasia Samotoina
Student at the Russian School of Private Law
Roman Matyushenkov
Student at the Higher School of Economics
Practical Application of Article 179 of the Civil Code
of the Russian Federation: Threats, Deceit, Oppression
The authors analyze the practical application of Art. 179 of the Civil Code of the Russian Federation and conclude that transactions are rarely disputed on the grounds established in the article. Courts very rarely satisfy claims to annul transactions on the first (threat) and third (oppression) grounds; the second ground (deceit) is frequently used in case of active and passive deceit, which is not the case for deceit by a third party. For this category of disputes, it is important to have a criminal sentence passed by the court, since it has prejudicial significance in the civil dispute. However, in case of such interaction between civil and criminal laws, courts do not consistently determine when the limitation period starts to run, and in this connection it would be useful for the Supreme Court to develop a definitive position on this matter.
Keywords: deceit, threat, oppression, transaction invalidity
Введение
Вроссийской правовой системе сделки, заключенные под влиянием насилия, угрозы или обмана, по общему правилу оспоримы и действительны до того момента, пока суд не установит обратное.
Вст. 179 ГК РФ закреплены три состава недействительности сделок:
–сделки, совершенные под влиянием насилия или угрозы;
–сделки, совершенные под влиянием обмана;
–кабальные сделки.
Несмотря на то, что суды редко применяют эту статью, накопившейся практики достаточно, чтобы сделать некоторые обобщения и показать проблемы применения вышеупомянутых составов. Также из-за связанности ст. 179 ГК РФ с уголовным судопроизводством мы сочли нужным проанализировать уголовно-правовые вопросы. Для исследования взяты акты исключительно арбитражных судов ввиду их доступности, поэтому следует учитывать коммерческую специфику приведенных споров. В ходе работы было рассмотрено 143 судебных акта за период с 2014 по 2018 г. (39 по угрозе, 74 по обману, 30 по кабальности).
163

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
1. Сделки, совершенные под влиянием насилия или угрозы
Для оспаривания сделки как совершенной под влиянием угрозы истцу необходимо доказать несколько условий:
–угроза должна быть непосредственной причиной совершения сделки;
–угроза должна быть реальна, т.е. практически осуществима;
–угроза должна быть существенной, т.е. субъект действительно должен опасаться наступления определенных последствий1;
–угроза должна представлять собой предупреждение о возможном посягательстве на права и законные интересы потерпевшего2.
Пункт 1 ст. 179 ГК РФ также допускает признание недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия. Однако нами не обнаружено судебной практики, раскрывающей предмет доказывания применительно к данной категории, поэтому мы не будем ее здесь затрагивать.
1.1. Сложности при доказывании угрозы
Суды в большинстве случаев отказывают в удовлетворении требования о признании сделки недействительной по п. 1 ст. 179 ГК РФ из-за отсутствия доказательств, подтверждающих порок воли. Чаще всего требования удовлетворяют, если факт применения угрозы подтвержден приговором, и арбитражный суд следует принципу res judicata3. При этом в п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и в п. 12 информационного письма Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 162 (далее — письмо № 162) говорится, что закон не связывает оспаривание сделки на основании п. 1 и 2 ст. 179 ГК РФ с наличием уголовного производства по фактам применения насилия, угрозы или обмана.
В то же время есть и иные средства доказывания. Так, Арбитражный суд Московского округа4 поддержал позицию нижестоящих судов и признал недействительным заявление о выходе из состава участников общества как сделку, заключенную под влиянием угрозы. В качестве доказательств применения угрозы суду были
1См.: постановление Семнадцатого ААС от 04.08.2017 № 17АП-8920/2017-ГК по делу № А60-57363/2016.
2См.: постановление ФАС Уральского округа от 11.07.2014 № Ф09-13447/13 по делу № А60-59776/2009.
3См.: постановления АС Московского округа от 19.07.2016 № Ф05-9986/2016 по делу № А40-25760/14; АС Поволжского округа от 29.06.2016 № Ф06-10396/2016 по делу № А12-45021/2015; ФАС Уральского округа от 11.07.2014 № Ф09-13447/13 по делу № А60-59776/2009; Семнадцатого ААС от 04.08.2017 № 17АП-8920/2017-ГК по делу № А60-57363/2016.
4См.: постановление АС Московского округа от 27.04.2017 № Ф05-4464/2017 по делу № А40-160149/16.
164

Обзор практики
представлены заявления в правоохранительные органы, письма ГУ МВД России, повестки, письменные объяснения бывшего генерального директора, а также свидетельские показания5. В другом деле в качестве доказательств выступали телеграммы об отмене сделки купли-продажи, направленные нотариусу, удостоверившему сделку, заявление о принятии соответствующих обеспечительных мер; факт угрозы при продаже 100% доли в обществе истец подтверждал объяснениями лиц, участвующих в деле, заявлением в правоохранительные органы, возражениями относительно предстоящей государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ6.
1.2. Угроза со стороны третьего лица
ГК РФ не устанавливает, что угроза должна исходить именно от контрагента по сделке. В связи с этим ВС РФ в постановлении Пленума от 23.06.2015 № 25 указал, что сторона сделки может ее оспорить, если насилие или угроза исходили от третьего лица, при условии что другая сторона знала об этом (п. 98). Это одна из моделей оспаривания сделки. Возможны и другие, в том числе и такие, в которых не имеет значения знание контрагента о пороке воли. В различных странах действуют разные подходы к решению этого вопроса.
Позиция ВС РФ применяется нижестоящими судами. Так, в одном из дел третье лицо путем угроз понудило двух действующих участников общества продать свои доли другому участнику для приобретения последним полного корпоративного контроля. При этом соразмерного встречного предоставления за свои доли они не получили7. Суд указал, что у участников отсутствовала действительная воля выйти из общества, она была сформулирована под влиянием третьего лица, факт связанности которого с покупателем был установлен.
1.3. Угроза совершения правомерных действий
Угроза со стороны контрагента может выражаться в различных формах. В большинстве случаев это угроза совершения неправомерных действий. Например, в одном из дел парк культуры склонил индивидуального предпринимателя к заключению агентского договора, несмотря на то что между сторонами был заключен договор об оказании услуг. Выгода парка состояла в том, что договором была предусмотрена плата за различные услуги, взносы и другие обременительные для предпринимателя условия. Предприниматель не имел намерения заключать договор, но парк пригрозил, что создаст ему препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности, запретив вывозить принадлежащее ему имущество с территории парка в случае неподписания нового договора. Суд установил, что предприниматель был вынужден
5См.: решение АС г. Москвы от 15.11.2017 по делу № А40-160149/16-45-1391.
6См.: постановление АС Северо-Западного округа от 24.01.2018 по делу № А13-17440/2016.
7См.: определение ВС РФ от 16.08.2017 № 305-ЭС17-10830 по делу № А40-160149/2016.
165

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
подписать договор на предложенных условиях, так как он был намерен продолжать предпринимательскую деятельность на территории парка. Кроме того, он фактически не имел возможности участвовать в переговорном процессе по выбору вида договора и определению его условий, которые мог диктовать лишь ответчик8.
В качестве иной формы угрозы выступает угроза совершения правомерных действий, т.е. тех, которые не выходят за пределы договора или закона. Например, угроза правомерного расторжения договора, обращения в суд или государственный орган. Будет ли в этом случае сделка признана недействительной?
Президиум ВАС РФ допустил такую возможность и, в частности, в п. 14 письма № 162 указал, что, поскольку одна из сторон угрожала сообщить в органы прокуратуры о неуплате контрагентом налогов, воля другой стороны была искажена, в связи с чем сделку нужно признать недействительной. В этом же пункте на примере другого кейса ВАС РФ отметил, что нельзя воздействовать на волю другого лица по сделке действием, которое не связано напрямую с существом, содержанием или последствиями того договора, который был в результате этой угрозы заключен. Таким образом, Суд ввел формальный критерий неотносимости угроз к оспариваемому договору.
Впрочем, суды не пользуются возможностью отменять сделки при таких обстоятельствах. В исследованной практике таких примеров нет ― только противоположные. Возможно, это связано с тем, что суды сомневаются в обоснованности применения этого основания для оспаривания сделки при угрозе правомерными сделками.
В одном из дел участник общества пытался оспорить назначение генерального директора. Он ссылался на то, что согласился на него под давлением другого участника ― главы поселения. Чиновник угрожал взыскать имущественный ущерб по договору аренды имущества поселения. Арендатором была фирма, возглавляемая первым участником. Суд, однако, не стал удовлетворять требования. Основанием отказа послужило то, что не были представлены доказательства формирования воли истца под влиянием принуждения. Суд указал, что решение о назначении директора общества принималось в присутствии нотариуса, который в случае подозрения на отсутствие действительного волеизъявления лица не стал бы его удостоверять9.
Проблема угроз правомерными действиями проанализирована в постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа10, который посчитал, что угроза обратиться в правоохранительные органы в отношении истца не была реальной. Все стороны корпоративного конфликта, отметил суд, неоднократно говорили о намерениях обратиться с заявлениями о возбуждении уголовных дел в отношении друг друга, поэтому аналогичная угроза в адрес истца не могла восприниматься как реальная. В итоге в удовлетворении требования о признании договора дарения недействительным было отказано.
8См.: постановление Семнадцатого ААС от 04.08.2017 № 17АП-8920/2017-ГК по делу № А60-57363/2016.
9См.: постановление Четвертого ААС от 16.03.2018 № 04АП-776/2018 по делу № А78-5995/2017.
10См.: постановление АС Северо-Западного округа от 15.06.2018 № Ф07-6897/2018 по делу № А5630171/2016.
166
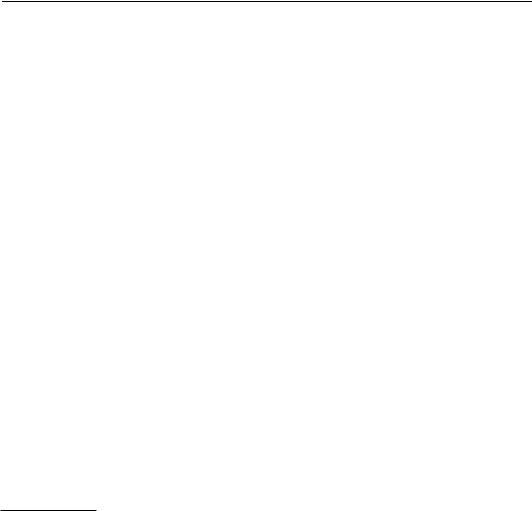
Обзор практики
2. Сделки, совершенные под влиянием обмана
Как и в случае оспаривания сделки под влиянием угрозы, сложность при оспаривании сделки по данному основанию заключается в доказывании наличия обмана со стороны контрагента. Так, истец должен доказать следующие факты11:
–умолчание другой стороны о существенных обстоятельствах сделки либо сообщение ложной информации12;
–умысел совершившего обман лица13;
–причинно-следственную связь между обманом и совершением сделки14 (т.е. то, что если бы истец знал о скрытой информации или ложности предоставленной информации, то он не заключил бы договор).
Проанализируем основные формы обмана и возникающие на практике проблемы.
2.1. Активный обман
Наиболее часто в судебной практике встречается активный обман, когда сторона перед заключением договора сообщает контрагенту ложную информацию с целью подтолкнуть его к совершению сделки. Эти данные могут содержаться не только
всамом договоре, но и в предоставляемых стороной иных документах, например
всправке о задолженности общества15, бухгалтерской отчетности16.
Чаще всего активный обман встречается в страховой сфере. Это связано с тем, что от данных, предоставленных страхователем при заключении договора страхования, зависит размер страховой премии, а потому требования к их объему высоки.
11См.: постановление Восемнадцатого ААС от 06.06.2013 по делу № А47-15677/2012.
12См.: постановления Семнадцатого ААС от 25.12.2018 по делу № А60-32839/2018; АС Северо-Кав- казского округа от 15.01.2018 по делу № А01-2785/2016; решения АС г. Москвы от 26.01.2018 по делу
№А40-125793/2017; АС Московской области от 10.09.2018 по делу № А41-40156/2018.
13См.: решения АС Иркутской области от 22.02.2018 по делу № А19-19309/2016; АС Ставропольского края от 28.11.2018 по делу № А63-17492/2018; АС Ярославской области от 23.08.2018 по делу № А824275/2018; апелляционное определение ВС Республики Татарстан от 24.04.2017 по делу № 336688/2017; постановления Одиннадцатого ААС от 15.11.2018 по делу № А72-2134/2018, от 14.09.2018 по делу № А49-5528/2018.
14См.: решения АС г. Севастополя от 18.10.2018 по делу № А84-2918/18; АС Волгоградской области от 01.02.2018 по делу № А12-40353/2017; определение АС Кемеровской области от 02.11.2018 по делу
№А27-18399/2016.
15См.: постановления АС Северо-Кавказского округа от 20.11.2015 по делу № А61-2982/2013 (ложная информация об отсутствии у общества задолженности перед третьими лицами); АС Западно-Сибирского округа от 09.11.2016 по делу № А70-15870/2015 (ложная информация о полной оплате одним обществом доли другого общества; отменено постановлением Восьмого ААС от 16.08.2016).
16См.: решение АС Московской области от 27.09.2016 по делу № А41-40803/2016 (о наличии налоговой и дебиторской задолженности).
167

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Согласно ст. 944 ГК РФ при заключении договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства неизвестны и не должны быть известны страховщику. Если он сообщает ложные сведения, то страховщик вправе требовать признания сделки недействительной по п. 2 ст. 179 ГК РФ.
При этом критерием для отнесения тех или иных обстоятельств к существенным является не формальный признак (включение вопроса о них в соответствующий письменный запрос страховщика), а сущностный: сообщенная информация либо ее отсутствие должны повлиять на факт заключения договора страхования или отказа от его заключения17. Так, на факт заключения договора страхования, по мнению судов, влияют сведения:
–о наличии застрахованного имущества18;
–наличии охранной сигнализации и собственной охраны при страховании имущества19;
–об отсутствии претензий со стороны третьих лиц и судебного разбирательства в отношении объекта страхования20;
–отсутствии кредитной задолженности перед банками21;
–использовании застрахованного транспортного средства в коммерческих целях22.
Во всех приведенных делах страхователь сообщил ложную информацию касательно вышеуказанных обстоятельств, и суды признали договоры страхования недействительными; в требовании страхователя о взыскании страхового возмещения было отказано.
17См.: решения АС Свердловской области от 13.10.2014 по делу № А60-30374/2014, от 31.10.2013 по делу
№А60-33170/2012.
18См.: решение АС Ивановской области от 29.09.2014 по делу № А17-1960/2013.
19См.: решения АС Ростовской области от 04.06.2014 по делу № А53-2016/2014; АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.07.2017 по делу № А56-17306/2017; АС Тюменской области от 18.07.2017 по делу № А70-3416/2017; АС Свердловской области от 18.07.2017 по делу № А60-9078/2017; постановление АС Уральского округа от 11.07.2017 по делу № А76-3396/2015.
20См.: решение АС Владимирской области от 25.06.2013 по делу № А11-367/2013; постановление Тринадцатого ААС от 28.12.2015 по делу № А21-2861/2015.
21См.: постановления Девятого ААС от 18.01.2018 по делу № А40-138744/2017, от 29.08.2017 по делу
№А40-245769/2016; АС Северо-Кавказского округа от 13.10.2017 по делу № А63-15814/2016.
22См.: решение АС Ханты-Мансийского автономного округа от 17.12.2018 по делу № А75-13858/2018.
168

Обзор практики
2.2. Пассивный обман (обман умолчанием)
Обман считается пассивным, когда лицо намеренно не сообщает информацию, которая имеет существенное значение для контрагента и которую он должен был сообщить, следуя принципу добросовестности. Такой подход был закреплен в п. 2 ст. 179 ГК РФ в ред. от 07.05.2013 и в п. 7 письма № 162. Президиум ВАС РФ также указал на возможность применения нормы к сделкам, заключенным до 01.09.2013.
Данную норму следует признать удачной, так как сторона договора будет понимать, что ей необходимо сообщать важную для контрагента информацию по сделке, чтобы впоследствии сделка не была признана недействительной. При этом сообщать нужно не все сведения, которыми обладает сторона, а только те, которые она должна сообщить в соответствии с принципом добросовестности и условиями делового оборота. Как указано в одном из судебных актов, «обман должен затрагивать ключевые моменты формирования внутренней воли… при достоверном представлении о которых сделка бы не состоялась»23. При этом существенная информация в каждом случае будет разной, а потому добросовестность сторон будет зависеть от обстоятельств дела, устоявшейся практики в конкретной сфере и от иных факторов.
По общему правилу при определении добросовестности учитывается знание обманывающей стороны о невладении данной информацией другой стороной и ее значимости для нее. Так, если умалчивающая сторона об этом не знала, то недобросовестность исключается. Однако если она обладала соответствующим знанием, но намеренно не сообщила информацию, то ее поведение будет признано недобросовестным. Например, страхователь при заключении договора страхования не рассказал страховщику о произведенном ремонте автомобиля. При этом страхователь осознавал, что страховщик не владеет данной информацией, так как у него нет обязанности проводить осмотр застрахованного имущества, а также то, что она важна для страховщика, поскольку от этого зависят страховая стоимость и сумма. Иными словами, страхователь действовал недобросовестно, в связи с чем договор был признан недействительным24. Схожий пример обмана умолчанием был приведен и Президиумом ВАС РФ в письме № 162, когда страхователь при заключении договора страхования воздушного судна не сообщил страховщику о пилотировании самолета иностранным экипажем. В итоге сделка была признана недействительной.
При определении недобросовестности стороны при пассивном обмане суды принимают во внимание также следующие обстоятельства.
Во-первых, это неосмотрительность обманутой стороны. Согласно абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ лицо, будучи хозяйствующим субъектом и действуя в рамках предпринимательской деятельности на свой риск, должно проявлять достаточную осмотрительность в делах и разумность при заключении сделок. При этом согласно позиции
23Решение АС Республики Башкортостан от 21.04.2016 по делу № А07-16754/2015.
24См.: решение АС Архангельской области от 22.11.2017 по делу № А05-8338/2016.
169

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
КС РФ25 суд не должен проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности, которые в сфере бизнеса обладают самостоятельностью и широкой дискрецией, поскольку в силу рискового характера такой деятельности существуют объективные пределы в возможностях судов выявлять наличие в ней деловых просчетов.
Поэтому арбитражные суды при разрешении споров по факту пассивного обмана учитывают то, насколько осмотрительно и осторожно действовала обманутая сторона. Если она могла самостоятельно добыть скрытую информацию, но не сделала этого, такая неосторожность блокирует право оспаривания сделки. Например, при заключении договора уступки прав цессионарий не сообщил цеденту о наличии в отношении него дела о банкротстве. Суды указали, что споры по банкротным делам имеются в открытом доступе, однако истец, не попытавшись найти эту информацию, не проявил должной осмотрительности26. В еще одном деле суд сделал вывод о неосмотрительности обманутой стороны, не изучившей данные об имуществе общества при покупке доли этого общества27. В других аналогичных делах неосторожность проявлялась в непроведении покупателем доли в обществе бухгалтерской проверки для обнаружения финансовых трудностей общества28; неосмотрительность — в отсутствии проверки соответствия поставляемых препаратов требованиям действующего законодательства29, неизучении уникальных свойств земельного участка30, неознакомлении с документами, на которых была ссылка в договоре, неизучении платежеспособности должника31 или финансового состояния эмитента32.
Во всех этих спорах сторона, оспаривающая сделку в связи с пассивным обманом ее другой стороной, при заключении договора не предпринимала необходимые меры для изучения доступной и открытой информации, которая могла существенно повлиять на принятие решения о заключении сделки. Поэтому суд, отказывая в удовлетворении требований о признании сделки недействительной, в том числе учитывал неосмотрительность и неосторожность обманутой стороны.
Во-вторых, суды принимают во внимание профессионализм сторон, так как если одно лицо в силу профессиональных качеств обладает информацией, доступной
25См.: определение КС РФ от 04.07.2007 № 366-О-П.
26См.: постановления АС Кировской области от 28.02.2018 по делу № А28-12424/2016; Четырнадцатого ААС от 17.07.2014 по делу № А66-12174/2013; Пятнадцатого ААС от 23.12.2017 по делу № А5315463/2017.
27См.: постановление АС Восточно-Сибирского округа от 07.12.2017 по делу № А19-3811/2017.
28См.: решения АС Республики Марий Эл от 27.11.2018 по делу № А38-7708/2018, от 30.11.2017 по делу № А38-5200/2017, от 05.12.2017 по делу № А38-8050/2017; постановление АС Приморского края от 07.12.2016 по делу № А51-11136/2016.
29См.: решение АС Белгородской области от 26.12.2018 по делу № А08-6549/2018.
30См.: постановление Пятнадцатого ААС от 22.08.2016 по делу № А53-1999/2016.
31См.: постановление Первого ААС от 02.08.2016 по делу № А38-7309/2015.
32См.: решение АС г. Москвы от 06.12.2018 по делу № А40-175593/2018.
170

Обзор практики
лишь ему, то для него стандарт по ее раскрытию выше, чем для иных лиц. В противном случае такая информационная асимметрия может привести к невыгодности сделки. Например, в одном из дел продавец при продаже семян умолчал об их непригодности в определенном районе. Он, учитывая место проживания покупателя, должен был осознавать, что эти сведения являются существенными для покупателя, а тот, не являясь профессионалом в сельском хозяйстве, не разбирается в видах семян. Следовательно, на продавце семян как обладателе специальной информации лежала обязанность по сообщению ее покупателю33.
Вдругом споре при заключении договора поручительства банк не уведомил поручителя о нарушении заемщиком ранее заключенных кредитных договоров. Суд, признавая данный договор недействительным, указал, что банк знал как о неосведомленности поручителя о кредитной истории должника, так и о том, что эта информация является существенной для поручителя34.
Веще одном деле лизингодатель передал в аренду имущество, не соответствующее целям лизингополучателя. Суд указал, что лизингодатель как представитель производителя транспортных средств в России знал или должен был знать техни- ко-экономические параметры ввезенных в РФ транспортных средств. Однако несмотря на это, он не сообщил лизингополучателю информацию, которая имела бы значение при заключении договора. Хотя в результате договор был признан недействительным по ст. 168 ГК РФ, мы считаем, что данный судебный акт подтверждает обман со стороны профессионального участника рынка35.
Итак, профессионалу вменен более высокий стандарт раскрытия доступной только ему информации, которая может повлиять на заключение договора другой стороной. В противном случае суды делают вывод о недобросовестном поведении этой стороны.
По итогам анализа можно заключить, что институт пассивного обмана (обмана умолчанием) в целом воспринят судебной практикой.
2.3. Обман со стороны третьего лица
По общему правилу сделку можно оспорить, если она была совершена в результате обмана со стороны контрагента.
Однако как быть, если обманщик никак не связан со сторонами сделки, но обманывает одну из них в собственных целях? Должна ли в таком случае страдать от признания сделки недействительной добросовестная сторона, которая не обманывала своего контрагента? Впервые на эту проблему законодатель обратил вни-
33См.: постановление АС Северо-Кавказского округа от 30.10.2015 по делу № А32-38518/2014.
34См.: решение АС Иркутской области от 02.07.2014 по делу № А19-7017/2013.
35См.: решение АС г. Москвы от 11.02.2016 по делу № А40-135349/2014.
171

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
мание в 2013 г. при введении абз. 3 п. 2 ст. 179 ГК РФ, согласно которому сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, может быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или должны были знать об обмане. Считается, в частности, что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо (1) являлось ее представителем или работником либо (2) содействовало ей в совершении сделки. Позднее такое же правило было закреплено в п. 8 письма № 16236.
Следовательно, если обман исходит не от стороны договора и контролируемых ею лиц, а со стороны третьего лица, то потерпевшая сторона сможет оспорить сделку, если докажет осведомленность другой стороны об этом обмане. Ведь если одна сторона знает о том, что ее контрагента обманывают, то как добросовестное лицо она должна сообщить ему об этом, иначе можно говорить об обмане умолчанием.
Суды восприняли это изменение закона как новеллу, а не констатацию существовавшего и ранее подхода. Поэтому иногда отказываются применять новую редакцию ст. 179 ГК РФ к сделке, заключенной до 2013 г. Так, в одном из дел при отчуждении доли воля продавца была сформирована при обмане бывшего генерального директора общества касательно цены продаваемой доли. Несмотря на то, что директор был супругом покупательницы, она не знала о преступных намерениях своего мужа. В связи с тем, что сделка была совершена в 2007 г., факт осведомленности стороны сделки и третьего лица об обмане, по мнению суда, не имел значения при разрешении спора, поэтому истец мог оспорить сделку как недействительную по причине обмана37.
Исследование практики показало, что такое основание, как обман со стороны третьего лица, практически не используется на практике при признании сделки недействительной.
3. Кабальные сделки
Пункт 3 ст. 179 ГК РФ закрепляет, что сделка, совершенная на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено заключить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.
В практике арбитражных судов данный состав используется нечасто, что характерно и для некоторых европейских стран38. Объяснение этому кроется в сочета-
36См.: Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».
37См.: постановление Пятнадцатого ААС от 29.10.2016 № 15АП-14087/2016 по делу № А32-45010/2014.
38См.: Савранская Д.Д. О возможности признания сделки недействительной по причине кабальности в Германии и Франции. Кабальные сделки (часть первая) // Вестник гражданского права. 2016. № 5. С. 354.
172

Обзор практики
нии факторов, подлежащих доказыванию. Как подчеркнул ВС РФ39 в споре между
ООО «Эмерком-Спецстрой» и АО «МОЭК», для признания сделки недействительной в соответствии с п. 3 ст. 179 ГК РФ необходимо доказать совокупность следующих обстоятельств:
–наличие обстоятельств, которые подтверждают ее заключение для истца на крайне невыгодных условиях;
–неожиданность и непредотвратимость тяжелых жизненных обстоятельств;
–знание контрагента об этих обстоятельствах.
Рассмотрим каждый элемент доказывания более подробно.
3.1. Наличие обстоятельств, которые подтверждают заключение сделки для истца на крайне невыгодных условиях
Суды редко признают условия договора крайне невыгодными. Как правило, они указывают, что, заключая тот или иной договор, предприниматель действует на свой риск и должен сам оценивать возможность исполнения принимаемых обязательств40. Для успешного оспаривания сделки требуется доказать именно крайнюю невыгодность, что подчеркивают как нижестоящие суды41, так и ВАС РФ (п. 11 письма № 162). Простая невыгодность сделки, не достигающая некоторого условного порога невыносимости, не может свидетельствовать о ее кабальности. Такие крайне невыгодные условия согласно позиции ВС РФ, сформулированной в вышеназванном определении, должны существенно отличаться от условий аналогичных сделок.
В судебной практике не воспринимаются в качестве крайне невыгодных следующие условия:
–цена ниже среднего предложения по рынку42;
–возможность одностороннего повышения банком процентной ставки43;
–сам по себе факт существенного отличия величины арендной платы, установленной соглашением сторон, от рыночного уровня арендной платы, определенной отчетом оценщика44.
39Cм.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 16.11.2016 № 305-ЭС16- 9313.
40См.: решение АС Архангельской области от 27.12.2017 по делу № А05-13295/2017.
41См.: решение АС Иркутской области от 10.06.2014 по делу № А19-118/2014.
42См.: решение АС г. Москвы от 07.11.2017 по делу № А40-104305/2017.
43См.: решение АС г. Москвы от 07.09.2017 по делу № А40-58291/2017.
44См.: решение АС г. Москвы от 24.06.2016 по делу № А40-36011/2016.
173

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
3.2. Неожиданность и непредотвратимость тяжелых жизненных обстоятельств
Под тяжелыми жизненными обстоятельствами суды понимают такие, которые сторона не смогла бы преодолеть иначе как посредством заключения данного договора45. Примером, по мнению ВАС РФ, может служить покупка нового грузового автомобиля во избежание банкротства (письмо № 162).
Однако большая долговая нагрузка в совокупности с полным уничтожением товара, вызванным пожаром, не была признана Арбитражным судом Республики Татарстан тяжелым жизненным обстоятельством. В этом деле истец просил суд о признании недействительным соглашения об урегулировании убытков и взыскании страхового возмещения с ответчика. Между истцом и ответчиком был заключен договор страхования товара. После наступления страхового случая (пожара), уничтожившего весь товар истца, между истцом и ответчиком было заключено соглашение и ответчик выплатил некоторую сумму страхового возмещения. По мнению истца, данное соглашение является кабальной сделкой, поскольку выплаченная сумма не соответствуют реальному ущербу, причиненному пожаром. Истец также указал на наличие тяжелых жизненных обстоятельств, из-за которых было заключено соглашение, — большая долговая нагрузка в совокупности с полным уничтожением товара. Суд не согласился с доводами истца и указал на правильность подсчета страхового возмещения, свободу воли при заключении соглашения, а также на то, что предприниматель принимает на себя долговые обязательства на свой риск вне зависимости от возможности выплаты страхового возмещения, целью которого является компенсация причиненного в результате пожара ущерба, а не покрытие обязательств страхователя.
При этом суды зачастую отказывают в удовлетворении требования ввиду недоказанности тяжелого финансового положения оспаривающей договор стороны46.
В целом анализ практики показывает, что суды неохотно признают в отношении коммерсантов наличие фактора стечения тяжелых обстоятельств, исходя из того, что те действуют на свой риск.
3.3. Знание контрагента о тяжелых обстоятельствах
Помимо нахождения стороны в тяжелых жизненных обстоятельствах, элементом состава является также тот факт, что ее контрагент знал о них и воспользовался этим.
Как правило, суды, отказывая в удовлетворении требований, отмечают недоказанность знания контрагента о возможном тяжелом положении истца47, однако существует и положительная практика.
45См.: постановление Одиннадцатого арбитражного ААС от 27.07.2017 по делу № А65-443/2017.
46См.: постановление Двенадцатого ААС от 20.09.2017 по делу № А12-15514/2017; решение АС Курской области от 31.07.2017 по делу № А35-2202/2017.
47См.: постановление Одиннадцатого ААС от 27.07.2017 по делу № А65-443/2017; решение АС г. Москвы от 07.11.2017 по делу № А40-104305/2017.
174

Обзор практики
В одном из таких дел истцы оспаривали договоры поручительства, заключенные, как они считали, в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Они были субъектами оптового рынка электроэнергии и осуществляли деятельность по ее предоставлению. Для сохранения своего статуса (лишение которого могло повлечь невозможность осуществления предпринимательской деятельности) им необходимо было оплатить приобретенную электроэнергию в течение короткого срока, в связи с чем истцы обратились в банк, с которым у них уже были заключены кредитные договоры. Банк для предоставления очередного транша потребовал заключить договоры поручительства по кредитным обязательствам другого должника банка. Должник, обязательства которого обеспечивали договоры поручительства, находился в достаточно тяжелом финансовом положении, что подтверждается многочисленными исками о взыскании задолженности. Данное обстоятельство свидетельствовало также о заведомой убыточности договоров для истцов. В рамках этого дела судом было установлено, что ответчик знал о положении дел, а именно: 1) об убыточности оспариваемых сделок для истцов; 2) о возможности потери статуса субъекта оптового рынка; 3) об отрицательном финансовом состоянии должника, в отношении которого банк потребовал заключить договоры поручения. В связи с этим суд согласился с доводами истцов и признал договоры поручительства недействительными по п. 3 ст. 179 ГК РФ48.
3.4. Иные условия оспаривания
Важный момент был установлен Первым арбитражным апелляционным судом, который, проанализировав представленные истцом доказательства, пришел к выводу, что наличие признаков кабальности сделки истцом не доказано, поскольку при заключении договора отсутствовали преддоговорные споры и разногласия49. То есть помимо крайней невыгодности истцу, по мнению суда, необходимо доказать также сопротивление этим условиям договора на стадии его согласования.
3.5. Промежуточный итог
Необходимость доказывания совокупности всех перечисленных факторов и достаточно строгий подход судов к коммерсантам, жалующимся на стечение тяжелых обстоятельств и пытающихся освободиться от совершенных им сделок, делает данное основание оспаривания практически нерабочим для субъектов предпринимательской деятельности.
48См.: постановление Шестнадцатого ААС от 22.01.2018 по делу № А25-2630/2016.
49См.: постановление Первого ААС от 17.11.2017 по делу № А39-2690/2017.
175
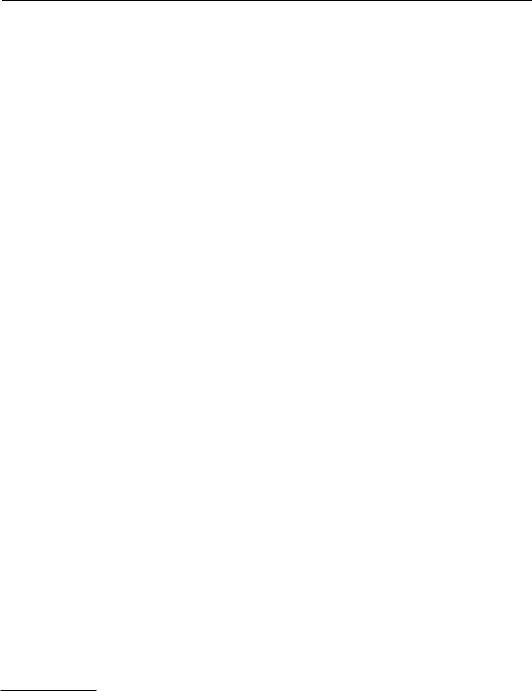
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
4. Уголовно-правовой аспект
Пункты 1 и 2 ст. 179 ГК РФ тесно связаны со ст. 159 (мошенничество) и 179 (принуждение к совершению сделки) УК РФ: в некоторых случаях перед инициированием гражданского дела об оспаривании сделки обманывающее или угрожающее лицо привлекается к уголовной ответственности по указанным статьям УК РФ.
Это вызывает следующие вопросы: влияет ли принятие постановления о возбуждении уголовного дела либо вынесение приговора на действительность сделки? Влечет ли оно автоматическую передачу полученного имущества его первоначальному владельцу или истец должен самостоятельно обращаться в суд с требованием о признании сделки недействительной и применении ее последствий? Для ответа на них мы проанализировали судебные акты, в которых есть отсылка на приговор, а также говорится о его значении при оспаривании сделки.
Так, независимо от того, оспаривается ли сделка по причине угрозы или обмана, из всех судебных актов следует, что вступивший в законную силу обвинительный приговор ввиду преюдиции предопределяет позицию арбитражного суда. Отсутствие обвинительного приговора в большинстве случаев приводит к отказу в иске как минимум по основаниям угрозы и насилия или активного обмана50.
При наличии приговора суды ссылаются на ч. 4 ст. 69 АПК РФ, согласно которой вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом. На основании этой нормы суды делают вывод о том, что приговор, имея преюдициальный характер, устанавливает факт обмана, угрозы или насилия и его совершение со стороны конкретного лица является основанием для удовлетворения требования о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности51. При этом важно, что приговором должна быть установлена ответственность за совершение преступления по той статье УК РФ, которая связана с п. 1 или 2 ст. 179 ГК РФ. Например, в одном деле суд указал, что представленный истцом приговор, устанавливающий ответственность за мошенничество, при оспаривании сделки как совершенной под влиянием насилия не имеет преюдициального значения52.
Несмотря на то, что исследованные судебные акты не отвечают прямо на поставленные нами вопросы, в результате их логического анализа можно сделать следующие выводы: арбитражные суды при рассмотрении спора об оспаривании сделки лишь опираются на принятый в результате уголовного разбирательства приговор
50См.: постановления Одиннадцатого ААС от 02.10.2017 по делу № А65-9416/2017; АС Северо-Кавказ- ского округа от 06.11.2015 по делу № А32-18254/2012; решения АС Краснодарского края от 12.07.2016 по делу № А32-8209/2016, от 05.02.2016 по делу № А32-40661/2015.
51См.: постановления ФАС Дальневосточного округа от 26.05.2008 № Ф03-А24/08-1/1710 по делу № А24- 5090/05-09; АС Северо-Кавказского округа от 15.12.2016 по делу № А53-34559/2015; решение АС Краснодарского края от 15.07.2016 по делу № А32-45010/2014.
52См.: решение АС Саратовской области от 27.04.2016 по делу № А57-27173/2015.
176

Обзор практики
как на судебный акт, имеющий обязательную силу ввиду межотраслевой преюдиции, однако самостоятельно решают вопрос о признании сделки недействительной и применении ее последствий. Таким образом, сам приговор не влечет гражданско-правовые последствия, а потому для их наступления необходимо в самостоятельном порядке обращаться в арбитражный суд.
Важным вопросом для истца также является то, с какого момента начинает течь срок исковой давности для оспаривания сделки в случае возбуждения уголовного судопроизводства. По общему правилу согласно п. 2 ст. 181 ГК РФ исковая давность течет со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной53. Однако в какой момент лицо считается узнавшим о данных обстоятельствах: в момент вынесения приговора, подачи заявления о возбуждении уголовного дела или в иной момент?
Суды по-разному отвечают на этот вопрос. В одном из дел истец предъявил иск о признании недействительным договора купли-продажи, так как он был заключен под влиянием обмана со стороны директора ответчика касательно цены передаваемого по договору здания. Директора ответчика привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ, приговор вступил в законную силу 03.03.2016. Истец отсчитывал срок исковой давности с этой даты, поэтому обратился с иском в пределах годичного срока. Однако суд указал, что истец мог узнать о наличии обмана гораздо раньше из различных обстоятельств уголовного дела (например, из предоставленного ему отчета о рыночной стоимости объекта), а потому отказал в иске в связи с пропуском срока исковой давности54.
В большинстве случаев, однако, суды начинают отсчитывать исковую давность с момента вступления приговора в силу. Этот подход можно обосновать, например, тем, что приговор устанавливает виновность обманывающей стороны, а значит, именно он подтверждает совершение сделки под влиянием обмана55. Также суды нередко указывают, что до вступления в силу приговора истец не может достоверно знать и добросовестно утверждать о том, что при заключении договора он был обманут ответчиком, следовательно, срок не может начинаться раньше56. Уточнением этого подхода можно считать позицию, что давностный срок течет с момента оглашения приговора, а не вступления его в силу57.
53См.: постановления Четырнадцатого ААС от 07.09.2016 по делу № А13-18166/2015; АС Восточно-Си- бирского округа от 18.09.2017 № Ф02-4397/2017 по делу № А78-12193/2016; АС Северо-Западного округа от 22.04.2016 по делу № А44-9338/2014.
54См.: постановление АС Северо-Западного округа от 10.08.2018 № Ф07-9252/2018 по делу № А266956/2017.
55См.: постановление АС Уральского округа от 25.10.2017 по делу № А60-56083/2016.
56См.: постановление Четырнадцатого ААС от 07.09.2016 по делу № А13-18166/2015; решение АС Тверской области от 19.09.2017 по делу № А66-14599/2014.
57
177

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
В целом данный вопрос не вполне однозначен в судебной практике в силу отсутствия разъяснений Верховного Суда РФ. Желательно, чтобы он выработал однозначную позицию по данному вопросу.
Заключение
По итогам анализа судебной практики применения ст. 179 ГК РФ можно сделать несколько важных выводов:
1)в практике арбитражных судов редко можно встретить решения о признании сделки недействительной по основанию угрозы, что связано со сложностью предмета доказывания. Так, только в 6 из 39 обнаруженных нами дел, в которых было заявлено такое требование, суды его удовлетворили. Разъяснения ВС РФ о возможности оспаривания сделки при наличии угроз со стороны третьего лица, а также угроз совершения правомерных действий пока не находят активного применения у арбитражных судов;
2)обман как основание оспаривания сделки применяется более активно. Суды признают основанием для оспаривания как активный, так и пассивный обман. Активный обман проявляется в большей степени в сфере страхования, когда страхователь сообщает ложную информацию. Частота применения пассивного обмана не зависит от типа сделки. При рассмотрении споров по этому основанию суды учитывают не только недобросовестность обманывающей стороны (т.е. знание о невладении данной информацией другой стороной и существенности этих сведений для нее), но и неосмотрительность обманутой стороны, а также профессионализм сторон. Как и при угрозе со стороны третьего лица, аннулирование сделок по обману со стороны третьего лица редко используется в судебной практике в связи с необходимостью доказывания связанности третьего лица и стороны договора или знания последней о наличии обмана;
3)арбитражные суды также крайне редко признают договор кабальной сделкой, поскольку совокупность подлежащих доказыванию для аннулирования сделки факторов приводит к практической невозможности использования данного состава для субъектов предпринимательской деятельности. Определенную роль играет, видимо, и общий настрой судов не допускать освобождения от договорных обязательств коммерсантов, действующих в обороте на свой риск;
4)касательно уголовно-правового аспекта можно сказать, что, несмотря на получение положительного результата в уголовном производстве и привлечение лица к уголовной ответственности за совершение преступлений по ст. 159 и 179 УК РФ, для признания сделки недействительной по основаниям угрозы или обмана и применения реституции, по мнению многих арбитражных судов, необходимо возбуждать самостоятельное производство в арбитражном суде. Но наличие приговора по уголовному делу оказывается на практике важнейшим условием победы при оспаривании сделки, совершенной под угрозой или обманом, ввиду его преюдициального значения. Кроме того, многие суды считают, что пострадавшая
178

Обзор практики
сторона узнает о нарушении своих прав после вступления в силу приговора по уголовному делу, в связи с чем именно с этого момента начинает течь давность по иску об оспаривании сделки. Однако на практике есть и противоположная позиция — давность начинает течь тогда, когда истец должен был узнать о пороке сделки.
References
Savranskaya D.D. On the Possibility to Annul a Transaction Due to Its Oppressive Nature in Germany and France. Oppressive Transactions (Part One) [O vozmozhnosti priznaniya sdelki
nedeistvitelnoi po prichine kabalnosti v Germanii i Frantsii. Kabalnye sdelki (chast’ pervaya)]. Civil Law Review [Vestnik grazhdanskogo prava]. 2016. No. 5. P. 110–130.
Information about authors
Aigul Shaikhutdinova — Student at the Higher School of Economics (e-mail: aigul_shaikhutdinova@mail.ru).
Anastasia Samotoina — Student at the Russian School of Private Law (e-mail: aesamotoina@mail.ru).
Roman Matyushenkov — Student at the Higher School of Economics (e-mail: romatyushenkov@mail.ru).
179

ПО Д П И С К А
на I I п о л у г о д и е 2 0 1 9 г о д а
Журнал распространяется по подписке и в розницу.
Подписку на журнал можно оформить
в любом отделении Почты России:
•подписной индекс 70040
вОбъединенном каталоге «Пресса России»,
вкаталоге Агентства «Роспечать»;
•подписной индекс П4314 в каталоге российской прессы «Почта России»
через редакцию:
стоимость одного номера — 900 руб.;
стоимость подписки
на II полугодие 2019 г. — 4800 руб.
Более подробную информацию об условиях подписки можно получить в редакции
по тел.: (495) 927-01-62
Главный редактор: А.Г. Карапетов
(karapetov@igzakon.ru)
Распространение: Ринат Якупов (rinat@igzakon.ru)
post@igzakon.ru
www.igzakon.ru
Наш адрес:
121165, г. Москва, а/я 38
Тел.: (495) 927-01-62
Реклама
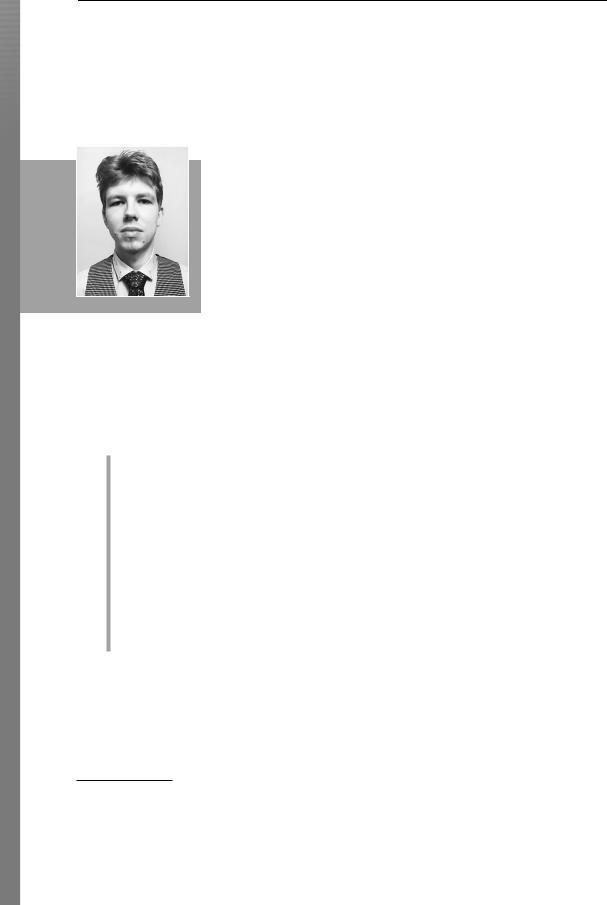
Обзор практики
Сергей Дмитриевич Иванов
слушатель Российской школы частного права
Ненадлежащее извещение стороны, против которой вынесено решение третейского суда: обзор практики арбитражных судов округов1
В статье исследуется практика окружных арбитражных судов по вопросам оспаривания решений третейских судов и отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда в связи с ненадлежащим уведомлением стороны, против которой вынесено это решение, о формировании состава арбитража или о времени и месте заседания третейского суда. На основе анализа автор формулирует критерии оценки извещения в качестве надлежащего (направление по адресу, указанному стороной или содержащемуся в ЕГРЮЛ; заблаговременное получение адресатом; вручение уполномоченному лицу или лицу, чьи полномочия явствовали из обстановки), выявляет случаи переноса риска неполучения юридически значимых сообщений с адресата на отправителя и предлагает способы избежать негативных ситуаций, связанных с таким неполучением.
Ключевые слова: третейский суд, оспаривание решения третейского суда, исполнение решения третейского суда, юридически значимое сообщение
1Автор выражает признательность сотрудникам Аппарата Арбитражного центра при РСПП, оказавшим содействие в написании данной статьи.
181
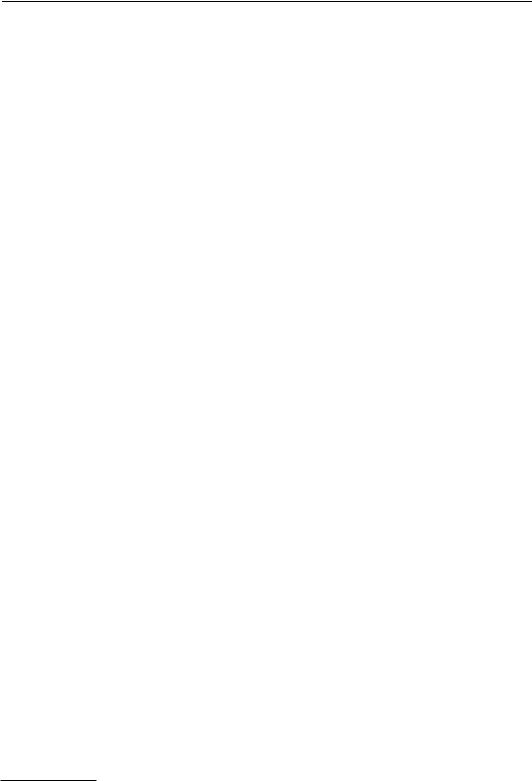
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
Sergey Ivanov
Student of the Russian School of Private Law
Improper Notification of a Party Against Whom an Arbitration Award is Made: Review of District Arbitration Court Practice
This article considers the practice of circuit commercial courts of Russia regarding challenging of arbitral awards and refusing to issue a writ of execution for compulsory execution of the arbitral award due to the improper notification of the party against which an arbitral award was pronounced about the formation of the arbitral tribunal or the time and place of the arbitral hearing. Based on the analysis, the author formulates criteria evaluating whether notification was proper (sending to the address indicated by the party or contained in the Unified State Register of Legal Entities; timely receipt by the addressee; delivery to an authorized person or a person whose authority is clear from the situation), identifies cases when the risk of non-receipt of a legally significant notice is transferred from the addressee to the sender, and suggests ways to avoid negative situations connected with such non-receipt.
Keywords: arbitration tribunal, challenging of an arbitral award, compulsory execution of an arbitral award, legally significant notice
Введение
Одним из наиболее распространенных оснований, по которым государственный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда или отменяет такое решение, является то, что сторона, против которой оно вынесено, не была должным образом уведомлена о назначении третейского судьи или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам не имела возможности представить в третейский суд свои объяснения2. При этом зачастую заявления о наличии данного основания делаются независимо от реального положения вещей.
Подобная практика стала одной из причин скрупулезного исследования государственными судами факта надлежащего извещения сторон третейского разбирательства, поскольку неизвещение / ненадлежащее извещение стороны неизбежно влечет нарушение принципов арбитража, установленных в ст. 18 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее — Закон об арбитраже).
В статье изложен анализ практики арбитражных судов округов по вопросам
(1) оценки уведомления в качестве надлежащего и (2) установления случаев переноса риска неполучения юридически значимых сообщений на отправителя.
2См.: п. 5 ч. 3 ст. 233, п. 3 ч. 3 ст. 239 АПК РФ. В рамках статьи рассматривается практика, связанная именно с ненадлежащим извещением.
182

Обзор практики
1. Оценка судом уведомления в качестве надлежащего
1.1. Третейское дело как источник доказательств надлежащего извещения
По общему правилу заявление стороны, против которой вынесено решение третейского суда, о ненадлежащем извещении автоматически переносит на победившую в третейском суде сторону бремя доказывания надлежащего извещения. В любом случае такое заявление должно быть исследовано судом и либо подтверждено, либо опровергнуто. Неразрешение вопроса о надлежащем извещении может стать основанием для пересмотра уже акта государственного суда3.
На практике основным источником доказательств надлежащего извещения являются материалы третейского дела: во всяком случае, ссылка на них фигурирует во всех проанализированных судебных актах, в одном из судов кассационной инстанции неистребование материалов третейского дела послужило основанием для передачи дела на новое рассмотрение4. Это, по сути, ставит дальнейшую судьбу обеих сторон в зависимость от прилежности сотрудников третейского суда. Ведь даже если фактически сторона была извещена, но это обстоятельство по какой-то причине не нашло отражения в материалах третейского дела, суд может отказать в выдаче исполнительного листа или отменить решение третейского суда5.
Логично, что в отсутствие данных, позволяющих сделать вывод о нарушении порядка извещения, суд отказывает уже стороне, против которой вынесено решение третейского суда6.
Добросовестно выполняя свои функции по администрированию арбитража, одной из которых является извещение сторон, третейские суды, как правило, стараются направлять корреспонденцию по всем имеющимся у них почтовым адресам, а также по адресам электронной почты, предоставленным сторонами, чтобы обеспечить надлежащее извещение. Повторим, что отсутствие каких-либо сведений об этом в третейском деле дает суду основание для принятия позиции стороны, против которой было вынесено решение третейского суда7.
Довольно остро в настоящее время стоит проблема извещения посредством электронной почты. Несмотря на то, что технологии позволяют избежать обращения к почтовым службам, что значительно снижает риски неполучения стороной кор-
3См.: постановления АС Северо-Западного округа от 03.10.2016 по делу № А26-3601/2016; АС СевероКавказского округа от 07.12.2016 по делу № А18-815/2016.
4См.: постановление АС Восточно-Сибирского округа от 17.01.2017 по делу № А58-2156/2016.
5См.: постановления АС Западно-Сибирского округа от 25.03.2016 по делу № А46-7693/2015, от 13.04.2016 по делу № А02-2078/2015, от 24.03.2017 по делу № А03-14041/2016; АС Северо-Западного округа от 04.10.2016 по делу № А56-11539/2016; АС Московского округа от 04.10.2017 по делу № А4045061/17.
6См.: постановления АС Северо-Кавказского округа от 25.01.2016 по делу № А32-24862/2015; АС Уральского округа от 17.11.2017 по делу № А50-1935/2017.
7См.: постановления АС Северо-Западного округа от 29.06.2016 по делу № А56-7786/2015; АС СевероКавказского округа от 09.03.2017 по делу № А63-13023/2016.
183

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
респонденции, например из-за действий их сотрудников (об этом речь пойдет ниже), и вообще ускоряет обмен сообщениями, суды довольно консервативно относятся к этому способу извещения и зачастую требуют представить доказательства, подтверждающие принадлежность адреса электронной почты стороне. Одним из способов сделать это является привлечение нотариуса к осмотру письменных доказательств8.
Полагаем, что обращение к нотариусу для осмотра электронного почтового ящика следует признать избыточным, поскольку третейский суд, располагающий сведениями об адресах электронной почты, перед использованием этого канала связи обычно просит стороны подтвердить их принадлежность, а также выразить согласие на получение уведомлений указанным способом. Если же уведомление по электронной почте направлял истец непосредственно ответчику, то дополнительных подтверждений не требуется, поскольку истец, исходя из предыдущих отношений с контрагентом, знает о принадлежности адреса электронной почты последнему. В конце концов, современные электронные ресурсы имеют функцию отслеживания электронного письма и автоматического подтверждения получения его адресатом. Данному вопросу следует уделить больше внимания, но, увы, это невозможно сделать в рамках настоящей статьи.
1.2. Своевременность извещения
Помимо того что извещение должно само по себе состояться, оно должно быть получено адресатом в срок, необходимый для назначения арбитра, выработки ответной позиции по делу и — при необходимости — обеспечения участия представителя. В противном случае уведомление также будет считаться ненадлежащим9.
Следует учитывать, что, поскольку любой спор по своим фактическим обстоятельствам носит индивидуальный характер, установить универсальные сроки на подготовку ответчиком возражений не представляется возможным, а потому соблюдение критерия своевременности извещения будет рассматриваться государственным судом в каждом конкретном случае.
В отличие от сроков на подготовку, сроки на формирование состава арбитража устанавливаются непосредственно регламентами третейских судов10 и должны соблюдаться всеми участниками процесса. Их несоблюдение при направлении извещения влечет за собой нарушение процедуры формирования состава арбитража,
8См.: постановление АС Московского округа от 30.06.2016 по делу № А40-99932/2015.
9См.: постановления АС Московского округа от 23.03.2017 по делу № А40-216184/2016; АС Северо-За- падного округа от 10.04.2017 по делу № А26-10379/2016; АС Волго-Вятского округа от 20.04.2017 по делу № А28-12587/2016.
10См., напр.: ст. 17 Регламента Арбитражного центра при РСПП. URL: https://arbitration-rspp.ru/ documents/rules/regulation/; § 12 Правил арбитража внутренних споров МКАС при ТПП РФ. URL: http://mkas.tpprf.ru/ru/materials/; ст. 17 Институционального регламента Российской арбитражной ассоциации. URL: http://arbitrations.ru/upload/medialibrary/5e0/institutional-rules.pdf.
184
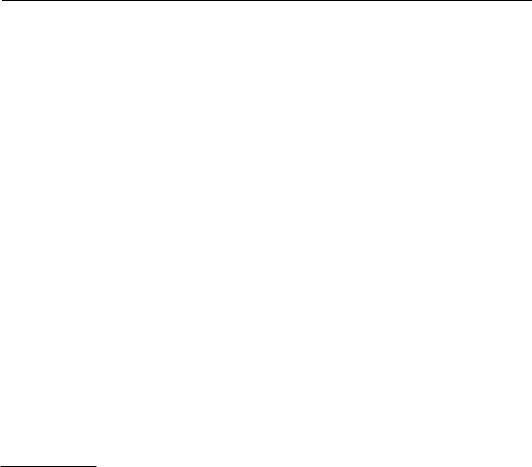
Обзор практики
что будет служить самостоятельным основанием11 для отказа в выдаче исполнительного листа / отмены решения третейского суда.
1.3. Учет действий стороны, против которой вынесено решение третейского суда
Следует отметить, что в некоторых случаях заявление стороны, против которой принято решение третейского суда, о ненадлежащем извещении является голословным и не находит поддержки у государственного суда. Зачастую такому результату способствует сама сторона своим поведением.
Однако государственные суды, проверяя факт надлежащего извещения, последовательно пресекают противоречивое поведение стороны, заинтересованной в отмене или неисполнении решения третейского суда. В случаях представления ею процессуальных документов12, участия в формировании состава арбитража13, незаявления отвода арбитру14, участия представителя в заседании15, несвоевременного заявления об отсутствии у представителя полномочий16, а также при попытках урегулировать спор после возбуждения третейского разбирательства17 довод о ненадлежащем извещении признавался несостоятельным.
Аналогичный вывод справедлив и тогда, когда вынесенное третейским судом решение18 или утвержденное им мировое соглашение19 носит окончательный характер: государственный суд просто прекращает производство по делу20, если удостоверится, что это решение не нарушает основополагающие принципы российского права21.
11См.: п. 5 ч. 3 ст. 239 АПК РФ; постановления АС Северо-Западного округа от 04.10.2016 по делу № А5611539/2016, от 28.12.2016 по делу № А05-7275/2016.
12См.: постановление АС Московского округа от 10.03.2016 по делу № А41-82164/2015.
13См.: постановление АС Северо-Западного округа от 05.02.2016 по делу № А13-10758/2015.
14См.: постановление АС Уральского округа от 02.08.2017 по делу № А60-60868/2016.
15См.: постановления АС Восточно-Сибирского округа от 26.08.2016 по делу № А10-978/2016; АС Уральского округа от 26.04.2018 по делу № А71-22793/2017.
16См.: постановление АС Восточно-Сибирского округа от 08.08.2017 по делу № А33-4730/2017.
17См.: постановление АС Московского округа от 13.10.2016 по делу № А40-5818/2016.
18См.: постановления АС Волго-Вятского округа от 23.07.2015 по делу № А43-2790/2015, от 19.05.2017 по делу № А82-10845/2016.
19См.: постановление АС Волго-Вятского округа от 29.03.2016 по делу № А11-10051/2015.
20См.: п. 9 информационного письма ВАС РФ от 22.12.2005 № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов».
21См.: постановление Президиума ВАС РФ от 29.06.2010 № 2070/2010.
185

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
2. Перенос риска неполучения юридически значимого сообщения на отправителя
Законом об арбитраже предусмотрен общий порядок направления документов и иных материалов сторонам. Так, в соответствии с его ст. 3 «[д]окументы и иные материалы направляются сторонам в согласованном ими порядке и по указанным ими адресам. Если стороны арбитража не согласовали иной порядок, документы и иные материалы направляются по последнему известному месту нахождения организации, являющейся стороной арбитража, или по месту жительства гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, являющегося стороной арбитража, заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, предусматривающим фиксацию попытки доставки указанных документов и материалов. Документы и иные материалы считаются полученными в день такой доставки (фиксации попытки доставки), даже если сторона арбитража по этому адресу не находится или не проживает (курсив наш. — С.И.)».
Согласно разъяснению Верховного Суда РФ, риск неполучения поступившей корреспонденции, отсутствия по указанным адресам своего представителя, равно как и иные негативные последствия, несет адресат22.
Однако в судебной практике имеются примеры, когда такой риск перекладывался судом на адресанта. Рассмотрим их ниже.
2.1. Несовпадение адресов получения
Суды, устанавливая факт надлежащего извещения, придерживаются в том числе и разъяснения Пленума ВАС РФ, согласно которому «юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.), за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица (п. 2 ст. 51 ГК РФ)»23.
Таким образом, в отсутствие сведений об иных адресах извещение, направленное по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, признавалось надлежащим24.
22См.: абз. 3 п. 67 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
23Абзац 2 п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица».
24См.: постановления АС Волго-Вятского округа от 05.10.2016 по делу № А28-494/2016; АС Центрального округа от 20.06.2017 по делу № А35-9091/2016; АС Уральского округа от 23.06.2017 по делу № А50-519/2017.
186

Обзор практики
Если же иной адрес контрагента фигурировал в договоре (полагаем, что при определении адреса отправления целесообразно исследовать не только основной договор, но и предшествующую переписку сторон), направление извещения только по адресу, прописанному в ЕГРЮЛ, уже не будет считаться надлежащим25.
В тех случаях, когда сторонам и суду было известно о наличии дополнительных адресов и корреспонденция по ним была направлена, но при этом адресат заблаговременно не уведомил о смене адреса26, отказался принимать корреспонденцию27 или не представил доказательств принятия надлежащих мер по ее получению28, извещение признавалось надлежащим.
С учетом этих рассуждений неоднозначным выглядит решение суда кассационной инстанции, отказавшего в выдаче исполнительного листа по причине ненадлежащего извещения в силу того, что первоначальный адрес, фигурировавший и в договоре, и в ЕГРЮЛ, был изменен в связи с переименованием проезда по постановлению Правительства Москвы29. При этом суд отклонил довод заявителя о неинформировании его заинтересованным лицом об изменении адреса, хотя такая обязанность была закреплена в договоре, поскольку такое изменение произошло «не в результате волеизъявления заинтересованного лица, а в результате издания нормативного акта Правительства Москвы, опубликованного надлежащим образом»30. По логике суда, это обстоятельство, по сути, сняло с заинтересованного лица обязанность проинформировать контрагента о смене адреса, хотя тот добросовестно полагался на имеющиеся у него сведения.
Указанный эпизод все же является единичным, и суды без веских причин не возлагают на отправителей излишние риски. Тем не менее этот фактор все же следует учитывать.
2.2. Неуполномоченный получатель извещения, ненадлежащее исполнение обязанностей почтовыми организациями
Вопрос вручения извещения надлежащему лицу также является проблемным. Зачастую контрагенту или третейскому суду известны лишь общие данные адресата: адрес, ключевые сотрудники и т.п.
В судебной практике имел место случай, когда суд отказывался признавать извещение надлежащим по причине вручения отправлений неуполномоченному лицу31,
25См.: постановление АС Поволжского округа от 16.12.2016 по делу № А65-21299/2016.
26См.: постановление АС Восточно-Сибирского округа от 07.03.2018 по делу № А10-4442/2017.
27См.: постановление АС Московского округа от 21.11.2017 по делу № А40-65062/2017.
28См.: постановления АС Уральского округа от 23.06.2017 по делу № А50-519/2017; АС Поволжского округа от 05.03.2018 по делу № А12-40456/2017.
29См.: постановление АС Московского округа от 22.06.2017 по делу № А40-249149/2016.
30См.: там же. Вообще возникает риторический вопрос: а было ли известно самому адресату о том, что его адрес был изменен?
31См.: постановление АС Московского округа от 20.06.2017 по делу № А40-207937/2016.
187

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 4/2019
хотя и по имеющимся адресам32. В то же время в отношении извещений государственных судов сформулирован обратный подход33, оставляющий риск неполучения юридически значимых сообщений на адресате.
Полагаем, что необходимость проверки полномочий лица на принятие извещений третейского суда является чрезмерной для установления факта надлежащего извещения: подобные отправления зачастую вручают специализированные организации, которые объективно не могут обладать всеми данными о составе лиц, имеющих полномочия на их принятие (равным образом об этом не всегда могут быть осведомлены и контрагент, и третейский суд); кроме того, полномочия лица, получающего извещения, вполне могут явствовать из обстановки34.
Тогда возникает следующий вопрос: можно ли считать оправданным решение об отказе в выдаче исполнительного листа / отмене решения третейского суда, если извещение было вручено неуполномоченному лицу35 или вообще не вручено36, например, вследствие нарушений нормативных актов или внутренних инструкций почтовой организации? Ведь неисполнение обязанности по надлежащему извещению может повлечь формирование незаконного состава арбитража, даже если оно было вызвано нарушением правил доставки со стороны почты37.
От описанной ситуации следует отличать случаи, когда извещение не состоялось из-за упущений непосредственно сотрудников третейского суда, например при некорректном указании адреса38.
С одной стороны, кажется несправедливым, что заявитель или третейский суд, воспользовавшись услугами специализированной организации и рассчитывая на ее профессионализм, сталкиваются с тем, что вынесенное решение не может быть исполнено в принудительном порядке / отменено именно из-за упущений последней. Кроме того, государственный суд, разрешая вопрос о надлежащем извещении, возлагает на третейский суд обязанность по проверке соблюдения порядка доставки корреспонденции39, хотя объективно такая возможность может быть реализована не всегда и зачастую ограничивается проверкой факта доставки или попытки вручения уведомления.
32См.: постановление АС Дальневосточного округа от 07.04.2017 по делу № Ф03-1039/2017.
33См.: постановление Восемнадцатого ААС от 02.11.2015 по делу № А76-17115/2015.
34См.: абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ; постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25.06.2013 по делу
№А45-16871/2012.
35См.: постановление АС Московского округа от 04.05.2017 по делу № А40-252213/2016.
36См.: постановления АС Западно-Сибирского округа от 25.03.2016 по делу № А46-7693/2015; АС СевероЗападного округа от 15.06.2016 по делу № А26-11672/2015; АС Уральского округа от 02.02.2017 по делу
№А50-19842/2016; АС Московского округа от 09.02.2018 по делу № А40-154706/2017.
37См.: постановления АС Северо-Западного округа от 04.10.2016 по делу № А56-11539/2016; АС Московского округа от 06.10.2017 по делу № А40-62047/2017, от 19.10.2017 по делу № А40-53886/2017.
38См.: постановление АС Московского округа от 25.10.2016 по делу № А40-113541/2016.
39См.: постановления АС Северо-Кавказского округа от 09.03.2017 по делу № А63-13023/2016; АС Уральского округа от 28.11.2017 по делу № А76-10045/2017.
188

Обзор практики
С другой стороны, право лица, против которого был подан иск, реализовать в полной мере предоставленные ему процессуальные права, чтобы защититься от претензий, все же следует признать превалирующим. В самом деле, огрехи условной курьерской службы не стоит превращать в универсальный аргумент истца, оправдывающий рассмотрение дела незаконным составом арбитров или без участия ответчика, поскольку в данном случае нельзя точно определить, на ком должен лежать риск неполучения юридически значимых сообщений из-за ненадлежащего исполнения службой доставки своих обязанностей. Действия организаций, оказывающих услуги связи, в любом случае не могут быть помещены в сферу контроля адресата, а в судебной практике они воспринимаются в качестве объективного обстоятельства, с которым связано неполучение им корреспонденции третейского суда40.
Таким образом, следует считать надлежащим извещение, переданное пусть и неуполномоченному лицу, если такое вручение было произведено в соответствии с нормативно-правовыми и локальными актами.
Заключение
Уведомление стороны может считаться совершенным должным образом, если оно
(1)было направлено по адресу, указанному стороной, а если такой адрес указан не был, то по адресу, известному третейскому суду или прописанному в ЕГРЮЛ;
(2)было получено адресатом заблаговременно, с соблюдением срока формирования состава арбитража, который, как правило, закреплен в регламенте третейского суда, и срока подготовки к третейскому заседанию, обоснованность которого оценивается государственным судом уже на стадии оспаривания или приведения в исполнение решения третейского суда; (3) было вручено лицу, полномочия на прием корреспонденции которого были известны третейскому суду или явствовали из обстановки.
Следует признать, что государственные суды внимательно подходят к разрешению вопроса о надлежащем уведомлении сторон, всесторонне исследуя обстоятельства каждого дела. Лишь в отдельных случаях суды, опять же на наш взгляд, чрезмерно строго подошли к установлению факта надлежащего извещения, переложив на отправителей риски неполучения адресатом юридически значимых сообщений.
Стороны же во избежание вышеперечисленных негативных ситуаций, обеспечивая надлежащее извещение друг друга, могут заранее предусмотреть способ уведомления, в том числе посредством электронных каналов связи для минимизации количества посредников и сопряженных с этим рисков, а также установить круг лиц, ответственных за принятие корреспонденции.
Information about the author
Sergey Ivanov — Student of the Russian School of Private Law (e-mail: sergeyivanovae@gmail.com).
40См.: постановления АС Уральского округа от 23.06.2017 по делу № А50-519/2017; АС Дальневосточного округа от 06.09.2017 по делу № А51-10299/2017.
189

ООО «Издательская группа «Закон» Адрес: 121151 г. Москва, ул. Студенческая, д. 15, комн. 1, 2 Тел. (495) 927-01-62







 ВЗ2ПГ19 от 22.03.2019
ВЗ2ПГ19 от 22.03.2019
|
|
|
|
|
|
|
Комплект «Вестник экономического пра- |
|
6 |
1600-00 |
8400-00 |
|
восудия Российской Федерации»+«Закон» |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
эл. версия, II полугодие 2019 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8400-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Без налога (НДС) |
– |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8400-00 |
|
|
|
|
|
|
«ВЭП РФ» + «Закон»
II полугодие 2019 г.










 ВЗ2ПГ19 от 22.03.2019
ВЗ2ПГ19 от 22.03.2019
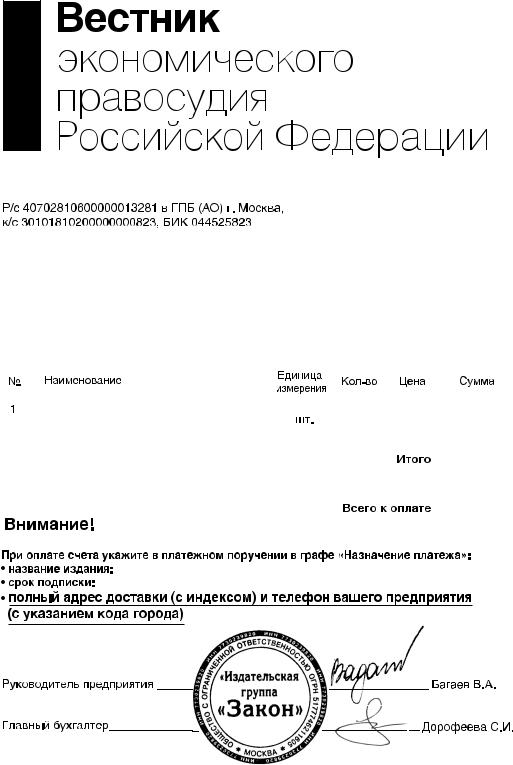
ООО «Издательская группа «Закон» Адрес: 121151 г. Москва, ул. Студенческая, д. 15, комн. 1, 2 Тел. (495) 927-01-62







 ВЗ2ПГ19 от 22.03.2019
ВЗ2ПГ19 от 22.03.2019
|
|
|
|
|
|
|
Комплект «Вестник экономического пра- |
|
6 |
1600-00 |
8400-00 |
|
восудия Российской Федерации»+«Закон» |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
печатн. изд., II полугодие 2019 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8400-00 |
|
|
Без налога (НДС) |
|
||
|
|
– |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8400-00 |
|
|
|
|
|
|
«ВЭП РФ» + «Закон»
II полугодие 2019 г.










 ВЗ2ПГ19 от 22.03.2019
ВЗ2ПГ19 от 22.03.2019
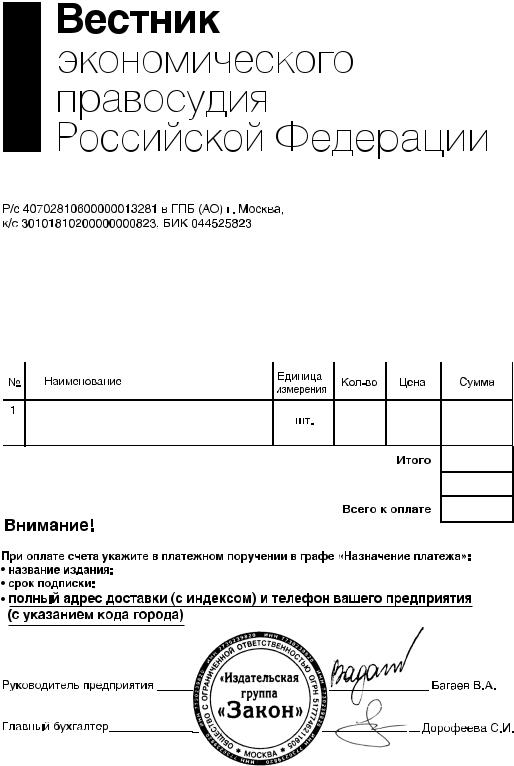
ООО «Издательская группа «Закон» Адрес: 121151 г. Москва, ул. Студенческая, д. 15, комн. 1, 2 Тел. (495) 927-01-62







 ВР2ПГ19 от 22.03.2019
ВР2ПГ19 от 22.03.2019
Журнал «Вестник экономического |
6 |
900-00 |
4800-00 |
|
правосудия Российской Федерации», |
||||
|
|
|
||
печатн. изд., II полугодие 2019 г. |
|
|
|
|
|
|
|
4800-00 |
|
|
Без налога (НДС) |
– |
||
|
|
|
4800-00 |
|
«Вестник экономического правосудия РФ»
II полугодие 2019 г.










 ВР2ПГ19 от 22.03.2019
ВР2ПГ19 от 22.03.2019

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ |
WWW.IGZAKON.RU |
Выходит с 1992 года
Ежемесячный информационно-аналитический журнал. Удостоен премии «Фемида» за 2007 год.
«ЗАКОН» – это уникальное сочетание научно-практических статей, новостных материалов, качественной аналитики и экспертных комментариев
В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕ
Главная тема: Судебная реформа: современное состояние
Среди авторов номера:
А.Н. Верещагин
О происхождении российской судебной системы и о ее перспективах
Советское наследие в судебной системе РФ: стоит ли с ним бороться
Л.В. Головко
Уголовное судопроизводство в условиях перманентной судебной реформы
Уход от идеологии состязательности в уголовном процессе как насущная необходимость
Ю.Б. Фогельсон
Российское гражданское право с точки зрения социологической юриспруденции
Функциональный подход к праву как необходимое дополнение юридической догматики
ТЕМА БЛИЖАЙШЕГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «ЗАКОН»:
МАЙ |
Legal Tech |
ИЮНЬ |
Европейское правосудие и конституционное право |
ИЮЛЬ |
Нотариат |
Подписной индекс 39001 в Объединенном каталоге «Пресса России», в каталоге Агентства «Роспечать»
Подписаться в редакции — https://zakon.ru/Subscription
Реклама
w w w . i g z a k o n . r u

Реклама
Более 49 875 пользователей
12 200 юристов
2580 студентов
1375 компаний
Андрей
Рыбалов
начальник
управления
конституционных основ частного права КС РФ
«Вещьостаетсявещью дажевтомслучае, еслиона неявляетсяобъектомправа»
