
Арбитраж 22-23 учебный год / Арбитражная практика № 8, август 2016
.pdfаргумента можно обосновать их недобросовестность отсутствием аналогичной нормы, работающей в обратную сторону (то есть невозможность уменьшить проценты по кредиту в случае снижения ключевой ставки).
В этой ситуации весомым доводом станет указание на отсутствие каких-либо действий со стороны банка.
Рассмотрим такой пример. После того как компания получила кредит, ключевая ставка упала на 3%, но банк не предлагал пропорционально уменьшить ставку по кредитному договору. Затем ключевая ставка повысилась на 6%, и банк потребовал увеличить ставку на 4%. Со стороны заемщика логично ссылаться на то, что фактическое изменение ставки в 3% банк не посчитал значимой величиной, поскольку каких-либо изменений при ее уменьшении не происходило.
Дополнительным обоснованием также станет расчет совокупной экономической выгоды для банка в ходе выплаты кредита. При снижении ставки фондирования (ключевой ставки) банк получает дополнительную выгоду, по сравнению с условиями на момент заключения договора. Следовательно, изменение условий, ухудшающих положение банка, не должно автоматически вести к повышению ставки, и должник вправе рассчитывать на добросовестные действия банка.
Кредитный договор может связывать увеличение процентной ставки с просрочкой выплаты долга. В таком случае целесообразно просить о ее снижении по правилам ст. 333 ГК РФ, убеждая суд, что ставка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Такое положение кредитного договора суды могут квалифицировать как меру ответственности заемщика за нарушение условий соглашения. Эта позиция отражена и в п. 13 Информационного письма № 147.
Еще один случай, особенно актуальный в условиях кризиса, — увеличение банком процентов при ухудшении обеспечения кредита или уменьшении определенных в договоре показателей финансово-хозяйственной деятельности заемщика. В такой ситуации суд, скорее всего, откажет в снижении повышенных процентов, так как подобное повышение не рассматривается в качестве меры ответственности за нарушение обязательств по возврату кредита. Однако добиться сохранения прежних условий кредитного договора можно, если предоставить банку новое обеспечение.
Заемщик вправе оспорить кабальные условия кредитного договора как слабая сторона договора
Положительным шагом в сторону заемщика стала возможность использовать новую редакцию ст. 428 ГК РФ. Хотя кредитный договор и не является договором присоединения с точки зрения п. 1 ст. 428 ГК, но требовать его расторжения или изменения заемщик вправе в соответствии с п. 3 ст. 428, а именно, если условия договора определены одной из сторон, а другая сторона в силу явного неравенства переговорных возможностей поставлена в положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора.
Соответственно, можно указать, что заемщик был лишен возможности выразить свою волю при согласовании размера ставки. В одном из дел такая тактика была успешной (в договоре содержалось условие об обязанности заемщика в 15дневный срок возвратить полученную сумму в случае несогласия с увеличением процентной ставки по кредиту).
Соответствующий пункт суд признал ничтожным (постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 № 13567/11). Однако, оказавшись в таких обстоятельствах, лучше не затягивать с обращением в суд, поскольку подписание компанией дополнительного соглашения, его длительное добровольное исполнение и промедление в защите своих прав сыграет не в пользу заемщика (постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2013 по делу № А1210969/2012, определение ВАС РФ от 21.03.2013 по делу № А53-21981/11).
Как указал Пленум ВАС РФ, поскольку согласно п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, слабая сторона договора вправе заявить о недопустимости применения несправедливых договорных условий на основании ст.10 ГК РФ или о ничтожности таких условий по ст. 169 ГК РФ (п. 9 постановления от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах»; далее — Постановление Пленума ВАС № 16). Под слабой стороной здесь понимается лицо, поставленное в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора. Если проект договора предложен одной из сторон и содержал в себе явно обременительные условия, нарушающие баланс интересов сторон, а контрагент оказался слабой стороной договора, суд также может применить п. 2 ст. 428 ГК и изменить или расторгнуть договор. Это применимо к ситуации, когда компания вынуждена подписывать договор или дополнительное соглашение на условиях банка, поскольку он не соглашается на предложения заемщика, а иначе получить кредит невозможно. Можно попробовать доказать, что организация выступала в правоотношениях слабой стороной, и новые договорные условия несправедливы. Но убедить суд в кабальности сделки в рамках предпринимательских отношений весьма трудно.
При заключении и исполнении договора можно опираться также на п. 11 Постановления Пленума ВАС № 16. В нем говорится, что в случае неясности условий договора и невозможности установить действительную общую волю сторон толкование судом осуществляется в пользу заемщика. При этом учитывается текст договора, переписка, переговоры, установившаяся во взаимоотношениях практика, обычаи, поведение сторон договора. Таким образом, активные действия заемщика, направленные на изменение условий договора, внесение предложений будут иметь положительный эффект при оспаривании несправедливых условий кредитного договора. Однако не стоит забывать, что указанные действия должны подкрепляться доказательствами (например, аудио- и видеозаписями, почтовыми уведомлениями о вручении, перепиской сторон).
После того, как наступили условия для повышения банком процентной ставки, до получения соответствующего уведомления от банка заемщик вправе обратиться в суд, чтобы признать условие договора об изменении ставки недействительным.
Если же уведомление получено, возможны следующие варианты действий: направить банку свое несогласие с новыми условиями, либо более мягко — уведомление о кабальности полученного предложения, с указанием вынужденности подписания дополнительного соглашения, оставлением за должником права на защиту своих интересов в судебном порядке. Позиция должна подкрепляться конкретными экономическими аргументами: почему повышение необоснованно, непропорционально и не соответствует экономическим условиям сторон.
Кроме того, если несмотря на повышение ключевой ставки Банка России, ставка по кредитам в регионе продемонстрировала меньший рост, то динамика повышения ставки по кредитному договору не должна превышать этот уровень.
Если в обоснование повышения ставки банк ссылается на изменение экономического положения самого заемщика (наличие у компании судебных споров, налоговых претензий), в противовес можно обосновать свою позицию наличием достаточного обеспечения, перекрывающего требования банка, публичными экономическими индикаторами, в том числе уровнем доходности размещенных на рынке облигаций.
исключительно или частично в валюте, актуальным будет довод о том, что кризисные явления ее не затрагивают или проявляются в меньшей степени.
Важно заметить, что должник может попытаться найти оптимальное решение — предложить большее обеспечение по кредиту, увеличить размер залогов, предоставить возможность внесудебного взыскания залога, дополнительное поручительство, дать согласие на безакцептное списание со счетов в иных банках, предоставить право списания выручки компании, и т. п.
Универсальной представляется рекомендация юристам компании сравнить состояние экономики, банка и организации на момент выдачи кредита (подписания дополнительного соглашения) и на момент изменения ставки по кредиту. Если компания существенно улучшила свое положение, например, соотношение чистого долга к прибыли уменьшилось в два раза, то ссылки банка только на общеэкономические условия будут менее убедительны.
Обоснование защиты должника может базироваться на информации самого банка. Например, полезные сведения можно почерпнуть на сайте кредитной организации в разделе «Раскрытие информации». Рекомендуется активно использовать данные при осуществлении банком собственных заимствований, особенно на иностранных рынках. Как правило, обратившись к ним, можно получить актуальную информацию, которую в другой ситуации банк не предоставит добровольно. Например, о стоимости фондирования банка (стоимость заимствования средств с рынка самим банком). Не стоит пренебрегать и возможностями обосновать позицию ссылками на договоры с иными аналогичными организациями, имеющими с банком такие же или лучшие условия.
В заключение отметим, что защитить в суде свои интересы при кабальных условиях кредитного договора довольно сложно, но при грамотно продуманной и выстроенной позиции в некоторых случаях все же возможно. Однако судебный настрой не должен исключать для заемщика возможности решить дело мирным путем — чаще всего банки открыты к переговорам и могут пойти на уступки при подтверждении клиентом его финансовой состоятельности, особенно если намечается угроза банкротства заемщика при новой ставке.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СПОРЫ
Компания оспаривает перевод денежных средств по договору. Можно ли его признать односторонней сделкой
Ильнар Рафкилович Ибетуллов
ведущий юрисконсульт Ульяновского МУП «Городской теплосервис»
•Когда перечисление денежных средств не обладает признаками односторонней сделки
•Как суд квалифицирует перевод средств в рамках фактических договорных отношений
•В каких случаях суд признает платеж должника-банкрота сделкой
Самой распространенной из форм расчетов на сегодняшний день является перечисление безналичных денежных средств с расчетного счета одного лица (плательщика) на счет другого лица (получателя). Несмотря на свою высокую популярность у участников хозяйственного оборота, правовая природа перечисления денежных средств остается спорной. Вместе с тем от правовой квалификации действий по перечислению денег — как банковской операции или односторонней сделки — непосредственно зависят практические вопросы оспаривания таких действий (выбор способа защиты права, порядок и основания оспаривания, правовые последствия и исполнение судебных актов).
Действия по перечислению денежных средств обладают признаками односторонней сделки
Осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам относится к банковским операциям (п. 4 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; далее — Закон № 395-1).
На первый взгляд в этом вопросе можно было бы поставить точку. Однако более глубокий и детальный анализ действующего законодательства позволяет также судить о том, что оформление и предъявление для оплаты расчетных документов и их исполнение банком обладает признаками односторонней сделки в смысле ст. 153 ГК РФ, как действия, направленного на установление или изменение гражданских прав и обязанностей.
Так что же представляет собой перечисление денег в юридическом смысле — является ли оно обычной банковской операцией, либо же обладает более сложной правовой конструкцией односторонней сделки?
Очевидно, что из-за своей неоднозначности наибольший интерес вызывает последний вариант.
В пользу того, что перечисление денежных средств является односторонней сделкой, говорит следующее.
1.В ГК РФ нормы, регулирующие правоотношения в рамках одной из форм безналичных расчетов (платежные поручения), выделены в отдельный раздел (§ 2 гл. 46). Это обстоятельство свидетельствует о признании законодателем обособленности (самостоятельности) правоотношений, складывающихся в ходе исполнения обязательств по договору банковского счета.
2.Как уже указывалось, п. 4 ст. 5 Закона № 395-1 называет осуществление расчетов по платежным поручениям банковской операцией. В то же время из названия ст. 5 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» следует очевидный вывод, что понятие «сделка» является общим по отношению к понятию «банковская операция», выступающей частным случаем сделки. Более того, это же вытекает из содержания самой ст. 5 Закона № 395-1: «все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях...» (п. 5).
3.Безналичные денежные средства, существуя в виде записей по счетам клиентов, представляют собой имущественный актив владельца счета. Из смысла ч. 1 ст. 863 ГК РФ следует, что, оформляя платежное поручение, плательщик демонстрирует наличие воли на совершение юридически значимых действий по распоряжению своим имуществом в пользу получателя безналичных денежных средств.
взаимных прав и обязательств в отношении друг друга. А в соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками как раз и признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей. Из чего следует, что перечисление денежных средств — это волевое юридическое действие субъектов гражданских правоотношений. А направленность воли плательщика при совершении платежа на достижение определенного правового результата отличает данное действие от юридического поступка.
Это же полностью согласуется с разъяснениями Пленума Верховного суда РФ, которые изложены в п.п.
50 и 51 постановления от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление Пленума ВС № 25).
Приведенный анализ позволяет с уверенностью говорить о действиях по перечислению денежных средств как об односторонних сделках в смысле ст.ст. 153, 154 ГК РФ, а не как о простых технических банковских действиях.
4. ВАС РФ разъяснял, что под сделками, которые можно оспорить по специальным основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон № 127ФЗ), данный закон также понимает и действия по исполнению обязательств (в частности, платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора) или действия, влекущие те же правовые последствия (зачет, новация, отступное) (п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом „О несостоятельности (банкротстве)“»; далее — Постановление Пленума ВАС № 32).
О возможности оспаривания банковских операций по правилам оспаривания сделок, предусмотренным в гл. III.1 Закона № 127ФЗ, говорится и в абз. 2 п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением гл. III.1 Федерального закона „О несостоятельности (банкротстве)“». Правила гл. III.1 также применяются к оспариванию действий, направленных на исполнение обязательств, возникающих
в соответствии с гражданским законодательством и другими отраслями законодательства РФ (п. 3 ст. 61.1 Закона № 127ФЗ).
5. Перечисление (перевод) денег может осуществляться как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте. В последнем случае такие действия подпадают под регулирование Федерального закона от 10.12.2003 № 173ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Данный закон к валютным операциям относит перевод иностранной валюты и валюты Российской Федерации с одного счета на другой (подп. "д"—"и" п. 9 ч. 1 ст. 1).
Высший арбитражный суд РФ рассматривал валютные операции как самостоятельные сделки, непосредственным результатом которых является переход прав на валютные ценности к другому лицу (п. 17 информационного письма от 31.05.2000 № 52 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле»).
Таким образом, системный анализ законодательства в совокупности с разъяснениями высших судебных инстанций позволяет говорить о наличии в действиях по перечислению денежных средств признаков односторонней сделки.
Перечисление денежных средств во исполнение договора не считается односторонней сделкой
Всудебной практике далеко не каждый случай перечисления денежных средств признается односторонней сделкой.
Вбольшинстве случаев путем перечисления денежных средств исполняются обязательства одного лица перед другим в рамках договорных (внедоговорных) отношений.
Так, в одном из дел суд указал, что действия по перечислению денежных средств в счет погашения задолженности по договору займа и оплаты имущества, полученного по товарным накладным, не являются самостоятельными сделками в смысле ст. 153 ГК РФ, а представляют собой лишь исполнение должником принятых на себя договорных
обязательств (постановление ФАС Дальневосточного округа от 20.03.2012 по делу № А24-1705/2011). Из этого следует вывод, что перечисление денежных средств не обладает признаками односторонней сделки, если посредством именно только таких действий сторона может исполнить свои обязательства по договору.
В рассматриваемом случае такой подход в равной степени применим к случаям исполнения обязательств не только по договору, но и в рамках фактических договорных отношений, сложившихся между плательщиком и получателем в отсутствие заключенного договора.
Так, например, в другом деле суд исходил из того, что перечисление денежных средств платежным поручением в рамках фактических договорных отношений между плательщиком и получателем является не сделкой в смысле ст.
153 ГК РФ, а банковской операцией. В связи с этим к этому действию не подлежат применению положения ст.ст. 166 –168 ГК РФ о недействительности сделок (постановление АС Поволжского округа от 15.05.2015 по делу № А727876/2014).
В свете этого представляет большой интерес другое дело, в котором суд опроверг выводы о том, что перечисление денежных средств во исполнение договора не является отдельной сделкой (постановление ФАС Поволжского округа от 15.09.2010 по делу № А65-32780/2009). Суд округа мотивировал свою позицию разъяснениями Конституционного суда РФ из определения от 24.02.2005 № 95-О: при возникновении спора об отнесении к сделкам конкретных действий участников оборота, в том числе осуществляемых в целях исполнения обязательств по договорам, суды на основе фактических обстоятельств дела и с учетом характера и направленности таких действий самостоятельно дают им правовую оценку.
С учетом данных разъяснений позиция Арбитражного суда Поволжского округа в указанном деле представляется более последовательной и логичной, чем позиция этого же суда в постановлении от 15.05.2015 по делу № А72-7876/2014.
Как следует из указанных разъяснений Конституционного суда РФ, при разрешении вопроса об отнесении к сделкам тех или иных конкретных действий участников гражданского оборота (в том числе по перечислению денежных средств) определяющими являются их характер и направленность. Поэтому к вопросу о правовой квалификации таких действий следует подходить в каждом случае индивидуально, с учетом п. 50 и п. 51 Постановления Пленума ВС № 25 и независимо от того, является ли перечисление денежных средств способом исполнения обязательств по договору между плательщиком и получателем либо же осуществляется вне договорных отношений.
В уже упомянутом постановлении ФАС Дальневосточного округа также указано, что разъяснения, изложенные в п.
5 Постановления Пленума ВАС № 32 и признающие платежи в качестве сделки, применяются судами при разрешении вопросов, связанных с оспариванием сделок должника-банкрота, в связи с чем не подлежат применению при квалификации действий лиц в рамках общеискового производства.
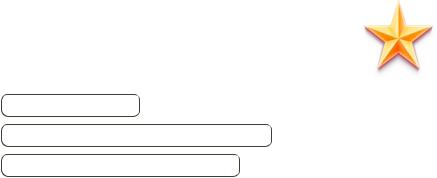
процедуры банкротства ничем не отличается от таковой вне процедуры банкротства. Однако при квалификации и оценке этих действий ФАС Дальневосточного округа в своем постановлении от 20.03.2012 по делу № А24-1705/2011 придал данному фактору определяющее значение.
При этом из анализа выводов, содержащихся в указанном судебном акте, неясно, каким образом на правовую природу одного и того же действия по перечислению денежных средств может влиять фактор наличия либо отсутствия процедуры банкротства в отношении плательщика.
Все вышеуказанное позволяет прийти к следующему выводу: правовая природа действий по перечислению денежных средств двойственна. С одной стороны, это обычная банковская операция, регулируемая Положением Банка России о правилах перевода денежных средств. А с другой — односторонняя сделка, которой присущи все признаки и правовой режим сделок в целом. Такая двойственность вовсе не является взаимоисключающей, однако на практике
это доставляет немало сложностей. В связи с этим существует необходимость упорядочить и привести к единообразию судебную практику по спорам, связанным с обжалованием действий по перечислению безналичных денежных средств.
Вы внимательно прочитали статью? Тогда ответьте на вопрос:
Считается ли сделкой перечисление денежных средств в счет погашения задолженности по договору?
Да, это односторонняя сделка Нет, это исполнение обязанностей по договору, но не сделка
Да, если платеж не соответствует условиям договора
Звезда за правильный
ответ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СПОРЫ
Контрагент получил неосновательное обогащение. На что рассчитывать в суде, если обязательство было в валюте
Глеб Владимирович Ситников
помощник адвоката АБ «Юрлов и партнеры»
•Можно ли взыскать неосновательное обогащение в валюте
•На какую дату определять курс валюты для расчета суммы неосновательного обогащения
•Как обосновать взыскание разницы курса валют
Законодатель предоставляет участникам гражданского оборота право выразить денежное обязательство в иностранной валюте, а также устанавливает порядок расчета подлежащей оплате в таком случае суммы в рублях. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, «специальных правах заимствования» и др.). В этом
случае сумма, подлежащая уплате в рублях, определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата не установлены законом или соглашением сторон (п. 2 ст. 317 ГК РФ).
Стороны вступают в договорные обязательства, но не всегда их выполняют. Тогда у контрагента, который получил денежные средства, но не исполнил принятые на себя обязательства, возникает неосновательное обогащение. При этом сумма, которая была передана контрагенту по договору и впоследствии стала неосновательным обогащением, выражена в договоре в иностранной валюте, но передана в рублях (п. 2 ст. 317 ГК РФ).
Совершенно ясно, что в условиях интенсивного снижения стоимости рубля для каждой из сторон курс валюты, который применяется для расчета суммы неосновательного обогащения, подлежащего возврату, имеет принципиальное значение. Ведь разница в курсе валюты на дату первоначального платежа и на дату решения суда может быть значительной.
Суды взыскивают неосновательное обогащение в рублях без пересчета курса валюты
В деле № А41-25448/09 между заказчиком и перевозчиком был заключен договор перевозки грузов. В связи с утратой груза заказчик направил перевозчику претензию о возмещении стоимости утраченного груза, которая составила 18 314,69 евро. Перевозчик оплатил данную сумму в рублях по курсу Банка России на дату оплаты. Впоследствии выяснилось, что недостача груза образовалась не в связи с его утратой, а связи с тем, что он не был отправлен.
На стороне заказчика образовалось неосновательное обогащение в размере полученной от перевозчика стоимости утраченного груза. Перевозчик обратился в суд с иском о взыскании с заказчика 18 314,69 евро. Суды первой и апелляционной инстанций взыскали с ответчика неосновательное обогащение в размере 18 314, 69 евро в рублях
по курсу Банка России на дату исполнения решения. При этом суды ссылались на то, что в претензии стоимость груза была указана в евро, оплата была произведена в рублях по курсу Банка России на дату платежа, а также на то, что пересчет курса валюты осуществляется на дату фактического платежа (п. 13 информационного письма ВАС
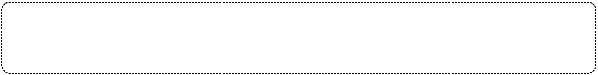
Федерации»).
ФАС Московского округа в постановлении от 04.05.2010 по делу № А41-25448/09 счел неверными выводы нижестоящих судов о взыскании неосновательного обогащения в евро. По мнению кассации, это противоречило бы нормам ст. 140 и ст. 317 ГК РФ, так как перечисление спорных денежных средств производилось истцом на счет ответчика в рублях, а значит, и возвращена должна быть та же сумма в рублях.
Таким образом, суд придал преимущественное значение факту передачи денежных средств и рассмотрел в качестве неосновательного обогащения именно сумму в рублях, которая была передана стороне. Вероятно, условие об эквиваленте суммы в иностранной валюте в данном случае расценивается судом лишь в качестве способа расчета
размера оплаты. Иными словами, договорились заплатить рублями, но рассчитывать сумму решили, руководствуясь курсом евро.
Такая же позиция содержится и в определении ВАС РФ от 21.10.2013 по делу № А40-141273/2012: суды первой и апелляционной инстанций не имели право взыскивать неосновательное обогащение в сумме, эквивалентной иностранной валюте на день платежа. ВАС РФ отказал в передаче дела в Президиум, указав, что взыскиваемые в качестве неосновательного обогащения денежные средства были получены в рублях, и у судов не имелось каких-либо оснований для определения взыскиваемой суммы в долларах США в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Банком России на день платежа.
Подобная трактовка основана на буквальном толковании ст. 1102 ГК РФ.
Цитата: «Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)» (п. 1 ст. 1102 ГК РФ).
В рассматриваемых случаях фактически полученной является конкретная сумма в рублях. Однако такая позиция не учитывает системное толкование ст. 317 и ст. 1102 ГК РФ и игнорирует волю сторон договора. Стороны намеренно установили сумму оплаты в иностранной валюте с целью перераспределения рисков и получения выгоды. В связи с этим возможно обоснование пересчета курса валюты при взыскании неосновательного обогащения.
Колебание курса валюты является предпринимательским риском
Стороны свободны в заключении договора и своей волей определяют условия закрепленной договором сделки (ст. 421 ГК РФ). Потому если договорная цена выражена сторонами в иностранной валюте, значит, их воля была направлена на привязку суммы платежа к валютному курсу. Пересчет на рубли в таком случае можно расценивать частью процедуры оплаты в качестве способа расчета.
Не следует забывать также о предпринимательском риске, который является одним из обязательных элементов предпринимательской деятельности в соответствии со ст. 2 ГК РФ. Каждая из сторон в таком случае рискует, ставя платежи по договору в зависимость от курса иностранной валюты. Если это не учитывать при расчете неосновательного обогащения, то экономический смысл включения этого условия в договор утрачивается.
Поэтому, получая оплату в рублях по курсу валюты на день платежа (например, 100 евро), сторона договора получает неосновательное обогащение именно в размере 100 евро, только эта сумма передается стороне в рублях. Соответственно, в случае возникновения неосновательного обогащения приобретатель должен вернуть 100 евро, но, применяя правило ст. 317 ГК РФ, вернуть эту сумму необходимо в рублях по курсу на день возврата (то есть на день исполнения решения суда о взыскании неосновательного обогащения).
Так, ВАС РФ поддержал указанную позицию в определении от 05.05.2009 по делу № А68-9645/07-350/7, где согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций. Они указали, что арендодатель при незаключенном договоре сберег арендную плату по цене, определенной сторонами договора (1200 дол. США в месяц), следовательно, с учетом п. 2 ст. 317 ГК РФ неосновательное обогащение подлежит взысканию исходя из курса доллара на день вынесения решения. То же правило применено и к взысканию процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 1107 ГК РФ.
Аналогичное мнение выражено в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 09.03.2016 по делу № А4045847/2015. В данном деле истец обратился к ответчику с иском о расторжении инвестиционного договора и о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами,
выраженными в долларах США по курсу Банка России на дату возврата неосновательного обогащения и оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд первой инстанции взыскал денежные средства в долларах США по курсу Центробанка на дату исполнения решения, суд апелляционной инстанции принял новый
судебный акт и взыскал соответствующие суммы в рублях, так как ответчик получил денежные средства в рублях. Суд кассационной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции, сославшись на то, что цена инвестиционного контракта была определена в иностранной валюте, в долларах США, поэтому неосновательное обогащение должно быть взыскано в соответствии с условиями инвестиционного контракта.
Разница в курсе валюты является убытком потерпевшего
В случае невозможности возвратить неосновательно полученное (сбереженное) имущество в натуре приобретатель обязан возместить потерпевшему его действительную стоимость на момент приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества (ст. 1105 ГК РФ).
Это правило можно применить к возврату неосновательного обогащения, полученного в денежном выражении. В таком случае приобретатель должен вернуть действительную стоимость валюты на момент получения денежных средств, то есть сумму, первоначально перечисленную в рублях. Однако если за это время иностранная валюта выросла по отношению к рублю, то разницу следует рассматривать в качестве убытка потерпевшего, который также подлежит возмещению. Таким образом, реально переданная сумма в рублях является действительной стоимостью неосновательного обогащения.
Данный подход подкрепляется и тем, что российское законодательство различает природу рублей и валютных ценностей, что подтверждается нормами ст.ст. 140 и 141 ГК РФ, а также п. 5 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Следовательно, иностранная валюта,
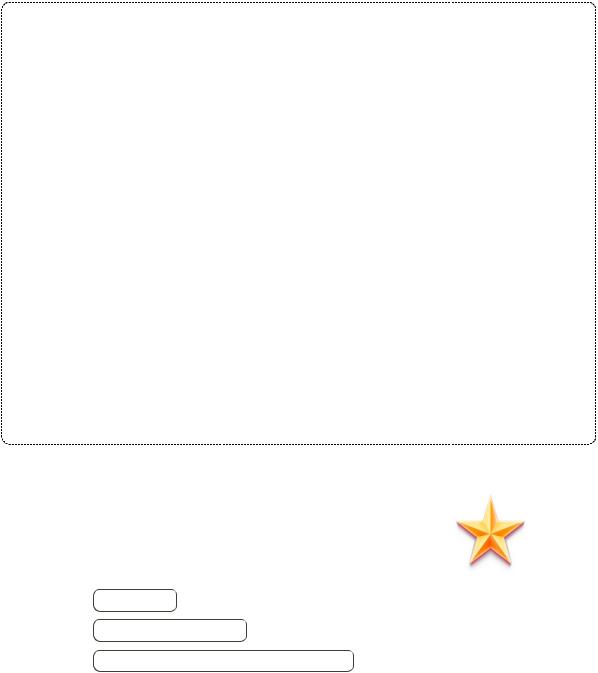
При возврате этого имущества в случае неосновательного обогащения учитывается его природа и применяется ст. 1105 ГК РФ.
Сторонники противоположной позиции могут сослаться на то, что применение понятия «возвращение в натуре» к иностранной валюте является спорным. Однако речь здесь идет лишь о применении аналогичного подхода, поскольку гражданское законодательство позволяет гибко применять правовые нормы, опираясь прежде всего на их смысл, а не буквальное толкование.
Взыскание разницы в курсе валюты направлено на восстановление права
Учет разницы в курсе валюты при взыскании неосновательного обогащения позволяет восстановить нарушенное право потерпевшего за счет недобросовестного контрагента — приобретателя неосновательного обогащения. Если курс иностранной валюты увеличился, то подлежит возврату сумма в рублях по курсу Банка России на дату исполнения решения. Если курс иностранной валюты уменьшился, то денежные средства возвращаются по курсу на дату первоначального платежа, а разница является расходами приобретателя. Таким образом, нести потери должен только недобросовестный контрагент.
Мнение ВАС РФ по рассматриваемому вопросу подверглось кардинальному изменению. Это ставит вопрос о необходимости формирования решающей, окончательной позиции в отношении поднятой нами проблемы.
В настоящее время дело № А40-45847/2015 находится в Верховном суде РФ, и вполне возможно, что высшая судебная инстанция сформирует окончательную позицию по данному вопросу. Пока этого не произошло, неоднозначность сложившейся практики ставит решение обозначенной проблемы в прямую зависимость от мастерства юристов, представляющих стороны в спорах о взыскании неосновательного обогащения.
ВАЛЮТА ДОГОВОРА СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ ЕГО РАСТОРЖЕНИИ
Андрей Владимирович Егоров,
к. ю. н., главный редактор журнала «Арбитражная практика для юристов»
Проблема, поставленная в настоящей статье, очень интересная. Возможно, решения могут быть разными в зависимости от вида договора. Но в качестве общего правила видится такое, которое будет рассматривать ликвидационное обязательство, образующееся при расторжении договора, как продолжение договорных обязательств. Следовательно, если первоначальные договорные обязательства были исчислены в валюте, то и ликвидационные должны быть такими же.
Возьмем валютный кредит и предположим, что кредитор ошибочно получил излишние платежи на 100 дол. по курсу 30 руб. за 1 дол. (то есть 3 тыс. руб.), но на момент, когда это установлено и он обязан вернуть 100 дол., курс возрос до 50 руб. за 1 дол. В этом случае на кредитора возлагается обязанность заплатить 5 тыс. руб. Риски удорожания стоимости валюты возлагаются на должника по денежному обязательству. Проиллюстрируем данные рассуждения
на примере залога. Допустим, кредитор предоставил должнику кредит на 1 млн дол. под залог 10 тракторов. Должник выплатил 700 тыс. дол. по курсу в рублях и допустил просрочку. После реализации заложенных тракторов выручка составила 25 млн руб. Из этой суммы изымаются 300 тыс. дол. по тому курсу, который имеет место на сегодняшний день (например, 70 руб. за 1 дол., то есть 21 млн руб.), и направляются кредитору. Оставшиеся 4 млн руб. должны быть переданы должнику (залогодателю). Если кредитор уклоняется от их уплаты, можно считать справедливым, чтобы эти деньги были пересчитаны в иностранную валюту по тому же курсу (70 руб. за 1 дол.). Тогда при дальнейшем росте курса размер задолженности кредитора в рублевом выражении перед залогодателем также пропорционально увеличится.
О том, что если сторонами избрано исчисление лизинговых платежей в иностранной валюте, то и сальдо в пользу лизингополучателя должно исчисляться в той же валюте, говорится в новейшей практике Арбитражного суда Московского округа (постановление от 27.01.2016 по делу № А40-63210/2015). В данном деле судом установлено, что до расторжения договора истец уплатил 96 тыс. евро аванса и 418 579,48 евро лизинговых платежей, что составляет 77,2 % от суммы лизинговых платежей.
С учетом положений постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 суд первой инстанции установил сальдо встречных обязательств по договору лизинга в пользу лизингополучателя в размере 263 416,36 евро. Суд апелляционной инстанции немного уточнил эту сумму.
Суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение, поскольку предмет лизинга реализован лизингодателем за 150 844, 26 евро, а суды при расчете сальдо исходили из стоимости возвращенного предмета лизинга в 313 831,25 евро на основании отчета оценщика.
Как видим, при этом у суда кассационной инстанции не было никаких сомнений в том, что сумма сальдо должна определяться в евро, вопросы возникли только по размеру стоимости предмета лизинга. Суд не принял также подход, связанный, по-видимому, с желанием адаптировать договор лизинга к изменившейся экономической ситуации и к резкому росту курса иностранной валюты; по этому подходу при расчете сальдо предлагалось брать средневзвешенный курс евро в районе 44 руб.
Таким образом, если лизинговые платежи были определены в иностранной валюте, то и образованное при расторжении договора ликвидационное обязательство (обязательство по сальдо) подлежало исчислению в иностранной валюте.
Вы внимательно прочитали статью? Тогда ответьте на вопрос:
Можно ли взыскать неосновательное обогащение в валюте?
Да, это возможно Нет, суд присудит сумму в рублях
Да, если стороной спора выступает иностранная компания
Звезда за правильный
ответ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СПОРЫ
Контрагент навязал несправедливые условия в договоре. Позиция ВАС РФ, которая поможет защититься в суде
Екатерина Сергеевна Аралина
слушатель РШЧП
•Какие условия договора суды признают несправедливыми
•Когда контрагент считается слабой стороной договора
•Какие доказательства нужно собрать, чтобы подтвердить несправедливость условий
Борьба с несправедливыми договорными условиями связана с проблемой стандартизированных договоров и потребительской защиты.
Под стандартными условиями понимаются условия, которые определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах (п. 1 ст. 428 ГК РФ). Долгое время не все стандартизированные договоры и их условия могли быть предметом судебного контроля. В отечественном законодательстве изначально допускалась защита лишь в отношении потребителей (п. 1 ст.428 ГК РФ). В отношении предпринимателей подобная защита фактически была заблокирована из-за невозможности доказать условие о том, что присоединившаяся сторона (предприниматель) не знала или не должна была знать, на каких условиях заключает договор1.
Основанием судебного контроля защиты для такой категории, как потребители, выступают правила п.п. 1, 2 ст. 428 ГК РФ о договорах присоединения, абз. 1 п. 1 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Вместе с тем неравенство переговорных возможностей не исчерпывается только стандартизированными договорами. В договорах, являющихся предметом индивидуального согласования, переговорные возможности одной стороны могут не совпадать с переговорными возможностями контрагента. Это зависит от множества факторов: компании на рынке обладают различным уровнем влияния, информационное или профессиональное превосходство и проч. Это может также привести к тому, что одна из сторон будет обременена против своей воли условиями, которые не выгодны для нее.
Вследствие этого высшая судебная инстанция пытается с помощью собственных механизмов отреагировать на возникшую правовую проблему.
Три шага ВАС РФ к расширению судебного контроля над несправедливыми договорными условиями
Пленум ВАС РФ в п. 9 постановления от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» (далее — Постановление № 16) делает три шага к расширению возможностей судебного контроля над несправедливыми договорными условиями.
Шаг первый: субъектный состав. Фактически суд указал, что в отношении предпринимателей также существует система судебного контроля над несправедливыми договорными условиями. Если исходить из Модельных правил европейского частного права, то данное увеличение субъектного состава только подтверждается. Более того, Модельные правила формируют несколько типизаций: в разд. II в частях 9:403–9:405 указаны не только привычная для российского права модель предприниматель — потребитель, но также и две иные: предприниматель — предприниматель, которую и называет ВАС РФ, а также договор между сторонами, не являющимися предпринимателями.
Шаг второй: объекты судебного контроля. ВАС РФ отступил от привязки к стандартизированному договору, указав, что достаточно лишь того критерия, что проект договора предлагается одной из сторон. Это оправданный критерий, поскольку необоснованно происходит исключение защиты в отношении иных договоров, а также сами по себе стандартизированные условия заставляют обращаться далеко за пределы конкретного правоотношения и выяснять цели, которые преследовала сторона, подготавливая проект договора, выяснять вопросы: рассчитвала ли она использовать проект договора неоднократно или нет. Это, на наш взгляд, архаичность, вызванная первичными причинами зарождения доктрины несправедливых договорных условий. Например, в ФРГ закон также изначально был направлен лишь на стандартизированные условия, но в результате реформы 2002 года произошло расширение сферы контроля2.
Шаг третий: дополнительные способы защиты. ВАС РФ указал, что помимо изменения и расторжения договора на основании п. 2 ст. 428 ГК РФ, возможны также иные способы защиты. Например, слабая сторона вправе заявить о недопустимости применения несправедливых договорных условий на основании ст. 10 ГК РФ или о ничтожности таких условий по ст. 169 ГК РФ.
Способ защиты должен служить средством восстановления нарушенного права. Изменение и расторжение договора как способы защиты, указанные в ст. 428 ГК РФ, не всегда способны восстановить нарушенные права. Так, условия измененного договора, распространяют силу на будущее время. Вместе с тем сторона может быть заинтересована в восстановлении своего права с момента заключения договора. Ссылка на ст. 169 ГК РФ влечет признание ничтожным несправедливого договорного условия. Применение такого способа защиты на данный момент редко встречается в судебной практике.
Чтобы суд признал условие несправедливым, должен быть нарушен баланс интересов сторон
ВАС РФ также разъяснил ключевое понятие «несправедливые договорные условия». Под ними понимаются обременительные для контрагента условия, существенным образом нарушающие баланс интересов сторон. В пункте 2 ст. 428 ГК РФ раскрывается понятие «обременительные условия» — это такие условия, которые присоединившаяся сторона не приняла бы исходя из своих разумно понимаемых интересов при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора. При этом ВАС РФ вводит дополнительный критерий «нарушение баланса интересов сторон». Это существенно, поскольку отношения контрагентов могут не исчерпываться лишь рамками одной договорной связи, и при сопоставлении с иными договорными отношениями вполне существует вероятность выявить баланс интересов. При этом суды должны ориентироваться на анализ конкретного условия в контексте всех

не абстрактно, а в конкретном контексте. Поэтому суды достаточно «осторожно» оценивают те или иные условия договора как справедливые или несправедливые3.
В отличие от этого, в ФРГ, например, помимо абстрактной нормы (§ 307 ГГУ), законодатель дает ориентиры в виде так называемых «серого» (§ 308 ГГУ) и «черного» (§ 309 ГГУ) списков договорных условий. Несмотря на то, что § 308 и 309 ГГУ применяются в отношении потребителей, они могут быть применены и в отношении предпринимателей по аналогии на основании общей нормы.
Протокол разногласий или запись переговоров поможет доказать несогласие со спорным условием сделки
Второе ключевое понятие, содержащееся в Постановлении № 16, это квалификация слабой стороны. Слабой является сторона, которая была поставлена в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора. При этом в п. 1 ст. 428 ГК РФ содержится иная формулировка о том, что предложенные условия могли быть приняты другой стороной не иначе, как путем присоединения к предложенному договору в целом. В связи с этим А. М. Ширвиндт4 отмечал проблему, связанную с тем, что такое закрепление условия существенно отличается
от правил Директивы ЕС 93/13/EEC «О несправедливых условиях в договорах с потребителями». Согласование какоголибо условия автоматически исключает применение ст. 428 ГК РФ, в то время как Директива вступается за потребителя, с которым специально не согласовывалось какое-либо условие договора.
Действительно, как отмечает А. И. Савельев, долгое время суды вслед за доктриной формально подходили к толкованию фразы «в целом» и исключали возможность квалификации соглашения в качестве договора
присоединения, если хотя бы одно условие являлось предметом переговоров (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 15.01.2003 № Ф04/144-1958/А45-2002, Уральского округа 19.01.2005 № Ф09-4484/04-ГК, СевероКавказского округа от 28.09.2006 № Ф08-4760/2006, Московского округа от 07.10.2008 № КА-А40/8304-08)5.
ВАС РФ скорректировал неточности в п. 1 ст. 428 ГК РФ. В настоящее время складывается практика, согласно которой истец должен предоставить доказательства, свидетельствующие о его возражении в отношении условия договора. Доказательствами служит протокол разногласий, письмо с возражениями, подтверждающее факт ведения переговоров, иные доказательства, свидетельствующие о том, что истец предлагал изменить спорные условия в иной редакции (постановления ФАС Северо-Западного округа от 01.08.2014 по делу № А56-55574/2012, АС Западно-Сибирского округа от 12.03.2015 по делу № А45-6148/2013, Восточно-Сибирского округа от 16.07.2015 по делу № А789668/2014).
Кроме того, при определении несправедливых условий и наличия статуса слабой стороны подлежат учету факторы, перечисленные в п. 10 Постановления № 16. В частности, суд должен выяснить, могло ли лицо заключить аналогичный договор на более выгодных условиях с третьими лицами.
Например, в одном деле истец занимался деятельностью, предусмотренной контрактом, профессионально. Он знал о сроке, в течение которого выполняются такие работы. Кроме этого, ссылаясь на несправедливые условия контракта
и злоупотребление правом ответчиком, он не представил доказательства того, что заключение договора являлось для него вынужденной мерой, а заключить аналогичные договоры с иными лицами на более выгодных условиях он не имел возможности (постановление АС Западно-Сибирского округа от 16.01.2015 по делу № А45-1504/2014).
Существует значительная совокупность условий, которые требуется доказать исходя из п.п. 9, 10 Постановления № 16. При этом одни критерии являются оценочными (оценка несправедливого условия), другие — требуют предварительного реагирования в виде возражений и правильной фиксации таких доказательств, третьи — объективные (анализ аналогичных рынков). Недоказанность одного из условий влечет отказ в удовлетворении иска. В практике наблюдается значительный перевес отказных судебных актов именно по причине недоказанности того или иного условия.
Например, общество не доказало, что является слабой стороной договора (постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.08.2014 по делу № А56-55574/2012). В другом споре характер оказываемых истцом работ не позволяет сделать вывод о том, что круг возможных заказчиков является незначительным и что истец не имел возможности заключить договоры с другими контрагентами (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 05.03.2015 по делу № А33-8181/2014).
В деле, рассмотренном Арбитражным судом Московского округа, истец не привел доказательств того, что условия оказались явно обременительными и существенным образом нарушающими баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия). Также он не смог доказать, что его поставили в положение, затрудняющее согласование иного содержания дополнительного соглашения (постановление от 10.06.2015 № Ф05-6471/2015).
1 См об этом: Савельев А. И. Контрагент хочет заключить договор на несправедливых условиях. Какие способы защиты предлагает грядущая реформа судебной практики // Арбитражная практика. 2014. № 2.
2 См. об этом: Карапетов А. Г., Савельев А. И. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. М.: Статут, 2012. Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве. С. 225.
3 На данный момент практика не обширна. 15 ярких дел по оценке условий договора несправедливыми см.: Карапетов А. Г., Фетисова Е. М. Практика применения арбитражными судами постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» // Вестник экономического правосудия РФ. 2015. № 12.
4 См.: Ширвиндт А. М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей. М.: Статут, 2014. С. 48. 5 См.: Савельев А. И. Указ. соч.
КОбществоРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ
решило подтверждать решения собраний нотариально. Какие действия должен выполнять нотариус
Екатерина Сергеевна Леванова
специалист 1 разряда Арбитражного суда Ставропольского края
•Нужно ли нотариально заверять решение о подтверждении решений собраний альтернативным способом
• Подтверждает ли свидетельство подлинности подписи на протоколе решение собрания
В 2014 году в ГК РФ появились дополнения в положениях о юридических лицах (Федеральный закон от 05.05.2014 № 99ФЗ). Множество споров и неоднозначных оценок в юридической среде вызвала ст. 67.1 ГК РФ «Особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах и обществах», а именно п. 3, который установил возможность нотариального удостоверения решений собраний и его участников. Высказывались кардинально противоположные мнения по поводу такого способа удостоверения: как то, что это станет панацеей для защиты прав участников, так и то, что это очередное нововведение законодателя, которое только усложняет хозяйственную деятельность обществ. Рассмотрим, какую роль играет нотариус в процессе подтверждения решений общих собраний участников и какие последствия это влечет для участников общества.
Суды считают, что любое решение общего собрания нужно нотариально подтверждать, если устав не закрепляет иное
Любое решение общего собрания участников хозяйственного общества как высшего органа его управления должно быть отдельно подтверждено (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ). При этом подтверждение осуществляется в отношении двух фактов:
1)состава участников общества, фактически присутствующих на общем собрании при принятии подтверждаемого решения;
2)принятия общим собранием участников общества соответствующего решения.
Для разных категорий хозяйственных обществ закон предусматривает различные порядок и условия такого подтверждения:
•для публичного АО подтверждение выполняет лицо, которое ведет реестр акционеров такого общества и выполняет функции счетной комиссии, то есть независимая лицензированная организация, с которой
данное АО заключило соответствующий договор (п. 4 ст. 97 ГК РФ). Такой вид подтверждения на практике вызывает меньше всего сложностей, поскольку действия по подтверждению всегда включаются в обязанности регистратора как лица, осуществляющего ведение реестра;
•для непубличного АО подтверждение осуществляется путем нотариального удостоверения или, как и в случае с ПАО, удостоверения лицом, которое ведет реестр акционеров и выполняет функции счетной комиссии;
•в ООО решения общего собрания участников подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной способ не предусмотрен уставом, либо единогласным решением общего собрания участников общества.
Особого внимания заслуживает нотариальное удостоверение решений общих собраний ООО. Этот институт может стать одним из основных механизмов защиты прав акционеров и инвесторов, направленных на предотвращение подделки протоколов общих собраний и увеличение уровня правовой дисциплины обществ в сфере корпоративного документооборота.
Все это станет возможным, когда норма будет подкреплена сопутствующими изменениями законодательства. Такие изменения вводятся сейчас в Гражданский кодекс РФ и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1; далее — Основы законодательства о нотариате).
Несмотря на то, что арбитражные суды уже активно используют рассматриваемую статью, у юристов все же возникают вопросы об отдельных ее положениях. Например, не совсем понятен диспозитивный характер п. 3 ст. 67 ГК РФ, согласно которому наряду с нотариальным удостоверением имеются альтернативные способы удостоверения решений общего собрания. Исходя из буквального толкования данной нормы, можно сделать вывод, что нотариальное удостоверение приравнивается к перечисленным альтернативным способам, а значит, теряет свой удельный вес и первоначальную значимость. В результате большинство учредителей обществ предпочтут отказаться от длительной процедуры нотариального удостоверения, не желая тратить на нее дополнительные средства.
В отношении ООО не ясно, когда и каким образом проводить собрание, чтобы закрепить возможность подтверждать будущие решения и состав участников общего собрания без участия нотариуса, и необходимо ли нотариальное заверение такого решения. Поскольку ГК РФ не содержит ответа на этот вопрос, следует обратиться к Федеральному закону от 08.02.1998 № 14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон № 14ФЗ). Согласно п. 4 ст. 12 данного закона изменения в устав общества вносятся по решению общего собрания участников. При этом решения по вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Законом № 14ФЗ или уставом общества (п. 8 ст. 37 Закона № 14ФЗ). Таким образом, для закрепления возможности использовать «иной способ» подтверждения решений общих собраний участников ООО фактически необходимо одобрение квалифицированного большинства участников общества.
Исключением из указанных норм стала процедура внесения изменений в уставный капитал общества. Теперь увеличение размера уставного капитала в обязательном порядке подлежит нотариальному удостоверению (п. 3 ст. 17 Закона № 14ФЗ). Здесь мы видим, что законодатель идет по пути расширения действия п. 3 ст. 67.1 ГК РФ. Однако это происходит постепенно и пока не затрагивает вопросов изменения устава в целом, что было бы весьма эффективно.
Тем не менее судебная практика идет по указанному пути, говоря о том, что если устав не предусматривает иное, любое решение общего собрания и состава его участников должно фиксироваться нотариально. Эта позиция была обозначена в аб з. 3 п. 107 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25. Согласно данному пункту решения очных собраний участников обществ, не удостоверенные нотариусом или лицом, осуществляющим ведение ре естра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии, в порядке, установленном подп. 1–3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, если иной способ удостоверения не предусмотрен уставом ООО либо единогласным решением общего собрания участников, ничтожны применительно к п. 3 ст. 163 ГК РФ.
На данное положение сослался Арбитражный суд Дальневосточного округа в постановлении от 09.02.2016 по делу № А51-34900/2014. Суд признал незаконным решение ИФНС о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ, так как предоставленные на госрегистрацию документы не были нотариально заверены, а устав общества не содержал информации о возможном ином способе их удостоверения.
а удостоверяет лишь факт принятия решения
Немало вопросов на практике вызывает сама процедура нотариального удостоверения решений общих собраний. Несмотря на то, что в Основы законодательства о нотариате постепенно вносятся соответствующие изменения (ст.
35 дополнена подп. 29–30, согласно которым нотариусы удостоверяют решения органов управления юридических лиц; представляют документы на государственную регистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей), острым остается вопрос о процессе исполнения таких действий и о полномочиях удостоверителя.
Ответ на указанные вопросы последовал от Федеральной нотариальной палаты РФ (далее — ФНП России) в виде Пособия по удостоверению нотариусом принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии (далее — Пособие).
На сегодняшний день только Пособие детально определяет процедуру подтверждения нотариусами решений общих собраний хозяйственных обществ и состава их участников, а также устанавливает документ, подтверждающий совершенный юридический факт — свидетельство нотариуса об удостоверении принятия решения органом управления юридического лица и составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения.
В первую очередь в Пособии прописывается подготовительная процедура, в рамках которой нотариусу необходимо принять заявление о совершении указанного нотариального действия в письменной форме и зарегистрировать его в журнале входящей корреспонденции. В нем заявитель указыва-ет точную дату, время начала и место проведения собрания.
Одновременно с заявлением нотариусу целесообразно истребовать для ознакомления:
•устав общества;
•выписку из ЕГРЮЛ (нотариус может самостоятельно запросить выписку с использованием программы ЕНОТ или через портал налоговой службы (nalog. ru));
•документы, подтверждающие полномочия обратившегося лица (решение или протокол о назначении или избрании исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета), судебное решение и т. д.);
•иные внутренние документы, регламентирующие порядок созыва и проведения собрания, если они предусмотрены уставом и утверждены (п. 1 ст. 37 Закона № 14ФЗ, п. 5 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах»; далее — Закон № 208ФЗ);
•список участников (в ООО составленный в соответствии со ст. 31.1 Закона № 14ФЗ);
•список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (для НАО составленный в соответствии со ст. 51 Закона № 208ФЗ);
•экземпляр уведомления (п.п. 1, 2 ст. 36 Закона № 14ФЗ) или сообщения (п.п. 1, 2 ст. 52 Закона № 208ФЗ) о созыве собрания, которые были разосланы участникам (акционерам) с указанием повестки дня собрания.
Информацию о повестке дня можно также включить в текст заявления.
Обратим внимание, что, несмотря на внушительный перечень документов, которые должен изучить нотариус, объем его полномочий весьма ограничен. Как следует из Пособия, в ходе совершения нотариального действия нотариус не проверяет законность принятого на общем собрании решения (п. 4.1), он не выполняет функции счетной комиссии и не отвечает за достоверность данных, предоставленных счетной комиссией о результатах голосования (п. 5.12).
В подтверждение указанной позиции Федеральный закон от 29.12.2014 № 457ФЗ, который внес изменения в Основы законодательства о нотариате, в ст. 103.10 установил, что нотариус не проверяет соблюдение порядка созыва собрания. Из этого следует, что круг полномочий нотариуса сводится лишь к подтверждению двух юридических фактов — принятия общим собранием общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, что, по сути, является констатацией факта. Такое положение существенно снижает значимость нотариально заверенного решения, а значит, и его правовые возможности.
Сейчас по вопросу полномочий нотариуса сформировалось множество мнений, отличных от позиции, высказанной ФНП России. Так, некоторые цивилисты считают, что нотариальное действие по удостоверению решения общего собрания и состава участников собрания нельзя трактовать лишь как факт свидетельствования. Данная позиция обосновывается тем, что удостоверению в таких случаях подлежит волеизъявление всех участников проводимого собрания, и лишь проверка такого изъявления, установление отсутствия порока воли может быть удостоверено как решение, которое сознательно и обоснованно принято общим собранием участников общества. Однако столь широкая интерпретация действий нотариуса предполагала бы и то, что он сам непосредственно должен проводить собрание учредителей, то есть выступать в совершаемом действии руководителем, а не сторонним наблюдателем.
Несмотря на четкость позиции, сформулированной ФНП России, в Пособии имеется некоторое попущение: нотари-усу рекомендуется по окончании собрания истребовать копию протокола счетной комиссии об итогах голосования и копию отчета об итогах голосования, а если в обществе не создана счетная комиссия — истребовать копию чернового протокола собрания. При этом даже черновая копия должна быть подписана теми же лицами, которые подпишут итоговый протокол (председатель и секретарь). Указанную копию рекомендуется получать с целью исключения корректировки принятых решений. Однако далее в п. 5.12 Пособия мы видим, что истребование указанных документов не обязательно для нотариуса и рекомендуется с целью получения дополнительного материала к зафиксированным данным. Далее, в п. 5.14 Пособия говорится, что протокол общего собрания нотариус истребовать не вправе. Происходит определенный диссонанс. Несмотря на то, что заявитель обязан представить нотариусу внутренние документы общества, он не может истребовать итоговый вариант протокола, хотя и должен его заверить, сверяя с проектом. Не стоит забывать и о свидетельстве, которое нотариус выдает в завершении процесса удостоверения. Пособие определяет его как документ, который не подшивается к итоговому протоколу, а носит самостоятельный
характер. Он составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у нотариуса, при этом итоговый протокол нотариусу может быть не предоставлен.
Нотариус не проверяет законность решения общего собрания в качестве сделки
Споры о полномочиях нотариуса при удостоверении решений общих собраний связаны еще и с правовой природой таких решений. Некоторые теоретики рассматривают решение собрания как источник права, другие — как юридический факт особого рода, который порождает определенные правовые последствия. Существует и третья точка зрения, согласно которой решение собрания участников общества — это одностороннеобязывающая сделка.
