
Экзамен зачет учебный год 2023 / Kuznecov_final директор представитель ВВАС 10-2014
.pdf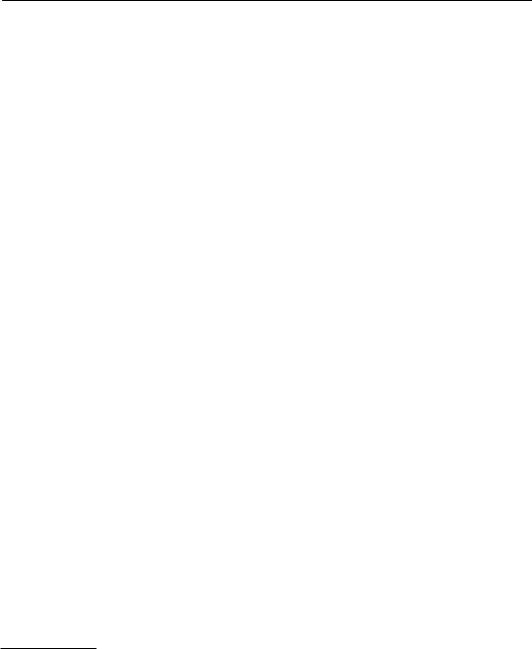
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 10/2014
Прежде всего необходимо определить, что означает слово «совместно». Полагаем, что при его толковании следует ориентироваться на нормы о представительстве (п. 5 ст. 185 ГК РФ), где использован такой же термин. Эта норма описывает так называемое коллективное представительство, т.е. случаи, когда в совершении сделки от имени представляемого участвуют все или несколько из представителей, которым принадлежит коллективное полномочие61. Если не указано иное, следует исходить из того, что для совершения сделки необходимо участие каждого из сопредставителей, так как это и предполагается буквальным пониманием слова «совместное». Примеры аналогичного понимания слова «совместно» можно увидеть в п. 1 ст. 72 и п. 1 ст. 1044 ГК РФ, где этот термин используется для обозначения ситуаций, когда необходимо волеизъявление всех лиц, действующих совместно.
Далее необходимо выяснить, каковы последствия совершения сделки в отсутствие волеизъявления всех сопредставителей, в том числе лиц, совместно осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа. Представляется, что поскольку в обсуждаемой ситуации полномочие осуществляется только несколькими лицами совместно, то в отсутствие всех необходимых волеизъявлений сделка не считается совершенной. Данную ситуацию необходимо отграничивать от случая, описанного в ст. 183 ГК РФ, когда представитель действовал без необходимых полномочий, поскольку эта статья рассчитана на ситуации, в которой лицо, действовавшее без полномочий, создавало видимость их наличия. Тогда как в случае с содиректором, который не скрывает факта, что он лишь один из нескольких совместно действующих директоров, отсутствует это намерение создать видимость наличия полномочия, а следовательно, и считать сделку совершенной от его имени было бы неоправданным.
5.В судебной практике и литературе часто обсуждался вопрос о применимости к действиям директора нормы ст. 183 ГК РФ, предусматривающей, что при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит эту сделку.
Достаточно давно в судебной практике закрепилась позиция о неприменимости этой нормы к органу юридического лица. Так, в п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что
могут осуществлять компетенцию самостоятельно, и коллегиальные (коллективные) органы, члены которых могут осуществлять компетенцию только через взаимодействие друг с другом. Если в единоличном органе компетенция в полном объеме возлагается на единственное физическое лицо, осуществляющее функции данного органа, то в коллегиальном органе компетенцией наделяются все его члены в совокупности» (Вилкин С.С. Указ. соч. С. 27).
Иными словами, если одно лицо получает самостоятельное полномочие, т.е. возможность принимать решение по компетенции органа своим единственным решением, оно является единоличным органом, если же для принятия решения необходимо участие иных лиц — коллегиальным органом. Следовательно, когда полномочия единоличного исполнительного органа предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, эти несколько лиц образуют коллегиальный орган.
61 |
См.: Байгушева Ю.В. Указ. соч. С. 58. |
|
24
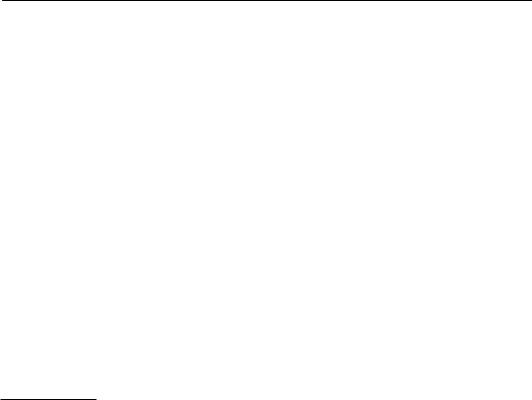
Свободная трибуна
вслучаях превышения полномочий органом юридического лица (ст. 53 ГК РФ) при заключении сделки п. 1 ст. 183 ГК РФ применяться не может; в данном случае
взависимости от обстоятельств конкретного дела суду необходимо руководствоваться ст. 168, 174 ГК РФ с учетом положений постановления Пленума ВАС РФ от 14.05.1998 № 9 «О некоторых вопросах практики применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации»62.
Многие авторы высказывали мнение о том, что подход судебной практики был сугубо прагматическим: лицо, действовавшее от имени юридического лица в качестве органа, без полномочий или с их превышением, с высокой степенью вероятности не будет способно исполнить обязательства по договору63. Этот аргумент, конечно, нельзя всерьез принимать во внимание, если только не предполагать, что в остальных случаях лица, которые действовали без полномочия или с его превышением, всегда способны исполнить договор64.
Тем не менее, руководствуясь упомянутым разъяснением, суды не применяли к сделкам лжедиректоров ст. 183 ГК РФ. Вместо этого такие сделки признавались недействительными на основании ст. 168 ГК РФ, при этом судебная практика, по существу, сформулировала позицию о том, что сведения ЕГРЮЛ о директоре организации обладают публичной достоверностью, т.е. тот, кто добросовестно полагался на их достоверность, защищен правопорядком от обнаруживаемой впоследствии их недостоверности и может ссылаться на них в суде65.
62Впоследствии эта позиция подтверждалась в постановлениях по конкретным делам. (см.: постановление Президиума ВАС РФ от 08.10.2002 № 6112/02).
63См.: Тычинская Е.В. Указ. соч. С. 52; Степанов Д.И. Указ. соч. С. 26–27.
64Проблема скорее была в самой негибкой конструкции ст. 183 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.09.2013, которая исходила из того, что сделка всегда считалась заключенной с неуполномоченным лицом, без возможности для контрагента отказаться от договора в таком случае. Этот недостаток уже исправлен в новой редакции ст. 183 ГК РФ, где указано, что в случае совершения сделки с неуполномоченным лицом другая сторона путем заявления совершившему сделку лицу или представляемому вправе отказаться от нее в одностороннем порядке, за исключением случаев, когда при совершении сделки она знала или должна была знать об отсутствии у совершающего сделку лица полномочий либо об их превышении.
65См.: Зайцев О.Р. Дела о защите от действий лица, выступавшего в качестве директора организации при отсутствии у него таких полномочий (комментарий к постановлениям Президиума ВАС РФ от 02.06.2009 № 2417/09, от 03.11.2009 № 9035/09, от 22.12.2009 № 9503/09) // Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: избр. постановления за 2009 год с комментариями / под ред. А.А. Иванова. М., 2012. С. 15–16. Однако публичная достоверность реестра не могла быть абсолютной. Очевидно, что справедливость требовала дифференциации ситуаций, при которых лжедиректор был указан в реестре: 1) если это произошло вследствие признания недействительным решения об его избрании — учет добросовестности третьего лица обоснован, так как на контрагентов не должны перекладываться риски внутренних конфликтов участников юридического лица; 2) при попадании в реестр на основании поддельных документов или иным образом помимо воли участников юридического лица добросовестность стороны сделки не важна, так как оставлять в силе сделки, совершенные злоумышленником, попавшим в реестр на основании поддельных документов, было бы несправедливым перекосом в сторону защиты интересов контрагентов. Такое разделение можно проследить и в практике Президиума ВАС РФ, например в постановлении от 02.06.2009 № 2417/09. Легко заметить, что сформированная в конечном итоге судебная практика выходила далеко за рамки оспаривания на основании ст. 168 ГК РФ, которая по буквальному тексту не позволяла учитывать добросовестность противоположной стороны сделки.
25

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 10/2014
Спризнанием за органом юридического лица статуса представителя к нему будет применима также и ст. 183 ГК РФ, однако, думается, никаких глобальных изменений это повлечь не должно. На первый взгляд в случае со ст. 183 ГК РФ добросовестность третьего лица, вступившего в сделку с неуполномоченным лицом, не имеет значения, но такой вывод был бы поспешным. Закон защищает доверие третьих лиц к публичному реестру, содержащему в том числе сведения о полномочиях директора (п. 2 ст. 51 ГК РФ)66. Разумеется, такая защита не безгранична, ведь п. 2 ст. 51 ГК РФ хотя и закрепляет общий принцип публичной достоверности сведений, содержащихся в реестре юридических лиц, тем не менее оговаривает в числе исключений случаи, когда соответствующие данные включены в этот реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица. Следовательно, сделка лица, указанного в ЕГРЮЛ в качестве директора, но фактически не обладавшего такими полномочиями, тем не менее связывает юридическое лицо (представляемого), если только не будет доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии полномочий либо соответствующие данные включены в реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли представляемого.
Сучетом сказанного можно констатировать, что с признанием органа представителем (и, как следствие, с применением ст. 183 ГК РФ) с точки зрения практических последствий по сравнению с существовавшей судебной практикой оспаривания сделок лжедиректоров ничего не должно измениться кардинально: по-прежнему подлежит учету добросовестность контрагента, а также то, не было ли изменение данных реестра результатом неправомерных действий третьих лиц. В то же время правовой режим сделок лжедиректора уравнивается со сделками с лжепредставителями: 1) сделки лжедиректора не нужно оспаривать (согласно п. 1 ст. 183 ГК РФ для представляемого юридического лица они не производят правового эффекта); 2) у третьих лиц появляется определенность в статусе таких сделок — они считаются совершенными от имени лжедиректора.
6.Довольно часто в судебной практике и литературе возникал вопрос о применении п. 3 ст. 182 ГК РФ к действиям директора. В качестве единственного аргумента против указывали на то, что органы юридического лица не являются представителями67. Позднее судебная практика перешла на позицию о применимости к директору этой нормы68.
Мотивы такого решения можно проследить на примере п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 162, где указано, что «положение
66Аналогичное решение, предполагающее защиту доверия к сведениями публичного реестра, закреплено в § 15 Торгового уложения Германии, где указано, что третье лицо может ссылаться на ошибочно внесенные в реестр сведения, за исключением случаев, когда контрагент знал, что такие сведения не соответствуют действительности. Это применяется и к директору (см.: Müller K.J. The GMBH. A Guide to the German Limited Liability Company. 2nd ed. Munich, 2009. P. 38).
67См.: постановления Президиума ВАС РФ от 21.09.2005 № 6773/05, от 01.11.2005 № 9467/05, от 11.04.2006 № 10327/05, где суды указывали на неприменимость к органу юридического лица правил о представительстве, и в частности п. 3 ст. 182 ГК РФ.
68См.: постановления Президиума ВАС РФ от 16.06.2009 № 17580/08, от 25.03.2014 № 19768/13.
26

Свободная трибуна
лица, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, и положение представителя во многом аналогичны. И орган юридического лица, и представитель действуют от имени соответствующего лица, создавая для него права и обязанности». Также это информационное письмо содержит вывод о возможности оспаривания сделки, заключенной директором, на основании ст. 179 ГК РФ (в ред. до 01.09.2013), поскольку в противном случае юридические лица будут поставлены в неравное положение с другими участниками гражданского оборота, что приведет к нарушению основополагающего принципа равенства участников гражданских правоотношений (п. 1 ст. 1 ГК РФ).
Некоторые авторы и раньше выступали за применение этой нормы к сделкам, заключенным директором. А.В. Егоров, в частности, указывал на возможность злоупотребления со стороны директоров в тех организационно-правовых формах, законы о которых не содержат правила об оспаривании сделок с заинтересованностью69. Ю.В. Байгушева, которая в целом считает, что директор не является представителем, тем не менее отмечает, что цель п. 3 ст. 182 ГК РФ состоит в исключении коллизии интересов представляемых, и такая коллизия может возникнуть и между интересами двух юридических лиц, когда одно и то же лицо является органом в этих юридических лицах, а потому, по словам автора, эту норму можно применять по аналогии70. В условиях новой редакции п. 1 ст. 53 ГК РФ уже нет никаких сомнений, что п. 3 ст. 182 ГК РФ будет применяться к органам юридического лица71.
Вопрос о соотношении п. 3 ст. 182 ГК РФ и норм о сделках с заинтересованностью решен в п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28, из которого следует, что в случае, когда сделка подпадает под специальное регулирование норм о сделках с заинтересованностью, она не подлежит оспариванию по правилам п. 3 ст. 182 ГК РФ.
Подчеркнем, что п. 3 ст. 182 ГК РФ применяется также и к голосованию членов коллегиальных органов. Как отмечали Е.А. Крашенинников и Ю.В. Байгушева, по правилам об оспаривании сделок может быть признано недействительным одно из волеизъявлений (иными словами, голосование), составляющих решение, и в некоторых случаях это может привести к недействительности всего решения72. Вместе с тем авторы не рассматривают голосование как сделку, так как само по себе оно не порождает правовых последствий, на которые направлено73.
69См.: Егоров А.В. Комментарий к постановлению Президиума ВАС РФ от 16.06.2009 № 17580/08. С. 217.
70См.: Байгушева Ю.В. Указ. соч. С. 53 (сноска 62).
71Отметим, что в Германии к членам правления также применяется норма о запрете представителю сделок в отношении себя лично (§ 181 Германского гражданского уложения), см.: Conac P.-H., Enriques L., Gelter M. Constraining Dominant Shareholders’ Self-Dealing: The Legal Framework in France, Germany, and Italy // European Company and Financial Law Review. 2007. Vol. 4. P. 500 (fn. 19), 517. URL: http://ssrn.com/ abstract=1532221.
72См.: Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Односторонние и многосторонние сделки // Вестник ВАС РФ. 2012. № 7. С. 50.
73См. там же. С. 46.
27

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 10/2014
Следовательно, голосование члена коллегиального органа, в том числе волеизъявление участника на общем собрании, может быть оспорено на основании п. 3 ст. 182 ГК РФ. Во избежание этого член коллегиального органа должен воздерживаться от голосования по вопросу, решение по которому касается его лично, например выдача согласия на совершение сделки, стороной или выгодоприобретателем которой он является. В то же время под действие п. 3 ст. 182 ГК РФ не должны подпадать случаи, в которых хотя разрешаемый вопрос и касается участника (акционера) лично, но его участие в голосовании оправдывается наличием у него интересов, обусловленных статусом участника (акционера). Например, он вправе голосовать по вопросу избрания директора, даже если в качестве кандидата выступает он сам или аффилированное с ним лицо, по вопросу выплаты дивидендов и т.п.74
7.Значимым является вопрос о возможности оспаривания сделок, совершенных директором, по таким основаниям недействительности, как ст. 171, 177–179 ГК РФ (в ред. до 01.09.2013).
В ст. 171, 177 и 178 ГК РФ вообще нет упоминания о том, что может быть оспорена сделка, заключенная представителем, в том числе органом. Лишь ст. 179 ГК РФ касается оспаривания сделки, совершенной представителем, но в условиях непризнания органа представителем это нередко понималось как невозможность оспаривания сделок директора по такому основанию. Впрочем, судебная практика допускала оспаривание сделки директора на основании ст. 179 ГК РФ (в ред. до 01.09.2013)75. Этот подход к оспариванию сделок, заключенных органом, вступившим в злонамеренное соглашение с противоположной стороной сделки, получил поддержку в литературе76. Окончательно проблема была решена после появления нормы п. 2 ст. 174 ГК РФ, устанавливающей, что может быть оспорена сделка, совершенная органом юридического лица заведомо в ущерб интересам юридического лица, если другая сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для юридического лица либо имели место обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях органа юридического лица и другой стороны сделки в ущерб интересам юридического лица.
Полагаем, что в целом основания недействительности, закрепленные в ст. 171, 177
и178 ГК РФ (как в предыдущих, так и в действующей редакциях), применимы
ик сделкам, совершенным представителем, в том числе органом, поскольку согласно устоявшемуся в доктрине мнению в случае совершения сделки представителем по общему правилу пороки воли и волеизъявления устанавливаются исходя из личности представителя77. Поэтому нет необходимости специально упоминать возможность оспорить сделку по этим основаниям, если она была совершена посредством представителя.
74См.: Roth G.H., Kindler P. Op. cit. P. 134–135.
75См.: постановление Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 № 15036/12; п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 162.
76См.: Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве (теория и практика оспаривания). 3-е изд., испр. и доп. М., 2007. С. 280–281. Примечательно, что обоснование позиции было впоследствии почти дословно воспроизведено в п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 162.
77См.: Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Элементы понятия представительства // Вестник ВАС РФ. 2012. № 3. С. 14–15; Рясенцев В.А. Указ. соч. С. 55–56, 111–113; Гутников О.В. Указ. соч. С. 249–250.
28

Свободная трибуна
8.Другой важной проблемой является определение последствий истечения срока полномочий единоличного исполнительного органа.
В судебной практике сложилось устойчивое мнение, что закон не устанавливает никакие определенные юридические последствия, связанные с истечением срока полномочий единоличного исполнительного органа, поэтому его полномочия не считаются прекратившимися и лицо вправе выполнять функции единоличного исполнительного органа до момента избрания нового руководителя78. Некоторые суды также добавляют, что отсутствие у юридического лица единоличного исполнительного органа противоречит принципу разумности, целям существования юридического лица и препятствует его хозяйственной деятельности79. Иногда встречаются высказывания о том, что фактическое исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа в период после истечения срока полномочий директора до избрания единоличного исполнительного органа в установленном законом и уставом общества порядке само по себе не может свидетельствовать о незаконности всех действий лица, продолжающего исполнять функции единоличного исполнительного органа80. Единичные судебные акты фиксируют противоположное: истечение установленного уставом срока полномочий директора влечет их прекращение и, как следствие, невозможность совершения таким директором сделок от имени общества81.
На основании сложившейся судебной практики Е.В. Тычинская делает вывод о том, что суды позволяют неуполномоченному лицу выступать от имени общества в гражданском обороте, осуществляя его права и связывая его соответствующими обязанностями перед третьими лицами. По ее мнению, истечение срока, на который было избрано или назначено лицо, реализующее функции единоличного исполнительного органа, является одним из оснований прекращения его полномочий82.
Теперь, казалось бы, ответ можно найти в ст. 186 ГК РФ. Однако, на наш взгляд, нельзя проводить прямую аналогию между ст. 186 ГК РФ и сроком полномочий единоличного исполнительного органа. В случае со ст. 186 ГК РФ срок полномочий указывается в доверенности, т.е. третье лицо, совершающее сделку, прекрасно осведомлено об этом ограничении, тогда как сведения о сроке полномочий директора не отражаются в публичном реестре — ЕГРЮЛ. Следовательно, контрагент будет защищен от любых возражений о неуправомоченности директора по причине истечения срока его полномочий, за исключением случаев, если будет доказано, что он знал или должен был знать об этом (п. 2 ст. 51 ГК РФ). Однако приведенное объяснение основано на существующем положении дел, когда в реестр не попадают данные о сроке полномочий директора.
78См.: постановления ФАС Московского округа от 22.02.2012 по делу № А40-85018/11; ФАС Поволжского округа от 25.10.2013 по делу № А57-3199/2013; ФАС Северо-Западного округа от 24.09.2012 по делу № А5671881/2011; ФАС Центрального округа от 08.12.2008 по делу № А14-955/2008; ФАС Западно-Сибирского округа от 26.05.2011 по делу № А67-5899/2008.
79См.: постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20.06.2012 по делу № А53-15902/2011.
80См.: постановление ФАС Уральского округа от 12.01.2010 по делу № А50-12455/2009.
81См.: постановление ФАС Московского округа от 16.10.2006 № КГ-А41/7734-06.
82См.: Тычинская Е.В. Указ. соч. С. 152–153.
29

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 10/2014
Описанную ситуацию сложно назвать справедливой, так как сохранение полномочий единоличного исполнительного органа даже после истечения срока нарушает права участников юридического лица на возможность выбирать директора. Отдельная группа участников получает ничем не обоснованное преимущество: их кандидат может сохранять полномочия бесконечно долго при условии, что остальные участники не обладают необходимым большинством для избрания другого директора. Это может служить аргументом в пользу того, чтобы допустить внесение сведений о сроке полномочий директора в ЕГРЮЛ.
Следует отметить, что доводы о невозможности существования юридического лица без единоличного исполнительного органа являются наследием органической теории и не могут быть рационально обоснованы. Вполне реальна ситуация, когда лицо, осуществлявшее полномочия единоличного исполнительного органа, откажется от этих полномочий, умрет или станет недееспособным либо его полномочия будут прекращены решением общего собрания участников, причем все может быть осложнено тем, что участники не могут договориться о новой кандидатуре. В это время юридическое лицо существует без директора, что не нарушает прав контрагентов, которые по-прежнему имеют возможность обратиться с требованиями к юридическому лицу, в том числе через суд, направив письмо по адресу, указанному в ЕГРЮЛ83.
9.Против теории «директор-представитель» часто возражают, что в этом случае необходимо было бы в силу ст. 187 ГК РФ нотариально заверять каждую доверенность, которую выдает директор, так как это было бы передоверием84.
Полагаем, что упомянутая статья не подлежит применению к органам юридического лица, так как рассчитана на случаи «классического» добровольного представительства (например, поручение), когда имеет место единичная доверенность, а случаи передоверия — исключение. На это указывает общая закрепленная в п. 1 ст. 187 ГК РФ презумпция о том, что лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено, и может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью. Исходя из этого выстроены и остальные правила в статье, максимально формализующие (например, установлением нотариальной формы передоверия) и ограничивающие возможность передоверия.
Вместе с тем полномочие директора предполагает возможность осуществлять передоверие другим лицам, более того, это неотъемлемая часть его обязанностей. На этот счет постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 № 9324/13 справедливо указывает: «При необходимости, с учетом характера и масштаба хозяйственной деятельности, единоличный исполнительный орган вправе привлекать третьих лиц (по трудовым или гражданско-правовым договорам) и предоставлять им полномочия действовать от имени общества».
83Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя (п. 2 ст. 51 ГК РФ; п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61).
84См.: Практика применения Гражданского кодекса РФ части первой / под общ. ред. В.А. Белова. 2-е изд. М., 2011. С. 391 (автор комментария — А.Б. Бабаев).
30

Свободная трибуна
Следовательно, общие правила ст. 187 ГК РФ не отвечают существу отношений, возникающих в случае представительства органов, а значит, не подлежат применению (п. 4 ст. 185 ГК РФ). Косвенно на это указывает и содержание абз. 2 п. 3 ст. 187 ГК РФ, который освобождает от необходимости соблюдения нотариальной формы доверенности, выдаваемые руководителями филиалов и представительств, несмотря на то, что сами они действуют на основании доверенности. Идея этой нормы заключается в том, чтобы избавить юридические лица от необходимости соблюдать излишние формальности, когда заранее известно, что передоверие будет неоднократным. Было бы странно освобождать от формальностей руководителей филиалов и представительств, но заставлять директора нотариально заверять каждую выдаваемую им доверенность.
10.Одной из существенных новелл является применение к органам ст. 189 ГК РФ, а именно предусмотренных подп. 2 и 3 п. 1 этой нормы возможностей отозвать полномочие или отказаться от него. Разумеется, и до применения норм о представительстве полномочия директора могли быть прекращены либо он мог отказаться от полномочий. Однако сложившаяся практика исходила из того, что в реестре всегда должен быть указан кто-то в качестве лица, имеющего право действовать от имени юридического лица. Ситуация доходила до абсурда, когда даже умершее лицо продолжало оставаться указанным в реестре в качестве директора до тех пор, пока не будет избран новый. Представляется, что теперь с прояснением правового статуса лица, имеющего право действовать от имени юридического лица — он представитель, — уже нет никаких оснований сохранять старую позицию. Юридическое лицо вольно прекратить полномочия директора без избрания нового, равно как и директор — отказаться от полномочий. Во всех этих случаях регистрирующий орган обязан убрать из ЕГРЮЛ указание на соответствующее лицо как обладающее полномочиями действовать от имени юридического лица.
Заключение
В настоящей статье мы провели анализ лишь ключевых норм о представительстве, которые будут применяться к органам юридического лица. Однако уже сейчас понятно, что целый ряд проблем, который ранее оставался без ответа, теперь может быть успешно решен с точки зрения главы 10 ГК РФ.
При этом, на наш взгляд, самое важное, что такие решения будут опираться на прочную доктринальную основу института представительства вместо наполненной туманными наукообразными сравнениями теории органа как «части юридического лица», несостоятельность которой проявлялась в том, что почти любое практическое решение требовало либо недвусмысленной законодательной нормы, либо применения норм о представительстве по аналогии.
Остается надеяться, что признание органов юридического лица представителями — это лишь первый шаг на пути к возвращению правоотношений, складывающихся в связи с образованием и участием в деятельности юридического лица, в сферу традиционных разделов гражданского права.
31
