
учебный год 2023 / Арбитражная практика № 7, июль 2017
.pdf
Иногда норма ч. 3 ст. 79 ГПК РФ применяется судами по аналогии закона (постановления АС Поволжского округа от 11.03.2015 по делу № А12-17872/2014, 13ААСот 21.03.2016 по делу № А56-71053/2014).
Но, так или иначе, непредставление по требованию суда оригинала документа, необходимого для проведения экспертизы, является основанием для принятия судебного акта против стороны, которая уклонилась от представления оригинала (постановления 13ААС от 09.04.2008 по делу № А42-8165/2006, АС Московского округа от 09.07.2015 по делу № А40-25950/2010).
Оригинал документа в ламинированном виде суд признает недостоверным доказательством
Аналогичный подход суды применяют в случае, если документ изменен таким образом, что его исследование экспертом оказывается невозможным. Так, невозможно определить давность изготовления ламинированного документа. Соответственно, если оригинал документа представлен в ламинированном виде, суды приходят к выводу о том, что ламинирование документов создает существенные либо вовсе неустранимые препятствия для проведения экспертизы. В результате документы в ламинированном виде признаются недостоверным доказательством (постановления ФАС Поволжского округа от 08.10.2013 по делу № А57-2496/2012, Центрального округа от 21.05.2014 по делу № А14-14365/2012).
При представлении документов для экспертного исследования следует учитывать, что такие документы должны представляться непосредственно только суду, а не эксперту.
Соответствующее разъяснение содержится в п. 11 постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе».
Поскольку приобщение документов к материалам дела возможно только в судебном заседании, рекомендуется представлять их одновременно с ходатайством о назначении экспертизы.
Этап № 3: оценка экспертного заключения судом
Суд руководствуется несколькими критериями при оценке заключения
На основании положений ч. 4 ст. 71 АПК РФ заключение эксперта подлежит оценке судом наряду с иными доказательствами по делу.
Критериями оценки экспертного заключения являются:
—факт предупреждения эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
—указание в заключении на методику исследования;
—указание на наименование использованного оборудования;
—полнота исследования и наличие ответов на поставленные вопросы.
Например, в одном из дел суд отверг заключение эксперта в качестве надлежащего доказательства.
Суд сослался на то, что в заключении не указаны вид и марка использованных увеличительных приборов, кратность увеличения; не описаны исследуемые части документа, характер исследуемых штрихов, их пригодность для исследования; при исследовании применена устаревшая методика, отмененная на момент проведения экспертизы (постановление 7ААС от 10.06.2015 по делу № А03-2585/14).
Подобные нарушения являются основанием для назначения по делу дополнительной либо повторной экспертизы (ст. 87 АПК РФ).
Если определить давность изготовления документа невозможно, эксперт должен указать на это
Особенностью проведения судебно-технической экспертизы давности изготовления документов является также то, что нередко эксперт не может дать ответ относительно сроков их изготовления. Так, если документы подвергались искусственному состариванию путем
термического или светового воздействия, то, как правило, определить давность изготовления документов не представляется возможным. Поэтому в заключении эксперт должен отразить тот факт, что документы подвергались искусственному состариванию. В этих случаях суды оценивают выводы эксперта как свидетельствующие о представлении стороной недостоверного документа (постановления ФАС Уральского округа от 28.02.2014 по делу № А50-25775/11, АС СевероЗападного округа от 27.05.2016 по делу № А56-60299/2014).
Таким образом, даже при невозможности установить действительную дату изготовления документов, суд в ряде случаев может удовлетворить заявление о фальсификации доказательств.
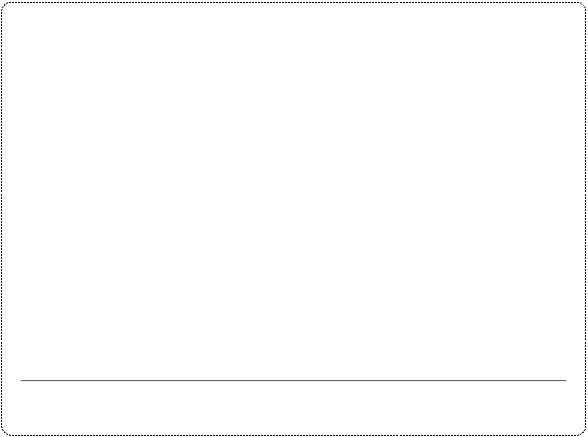
Вывод: Судебная экспертиза сама по себе является довольно сложным институтом, требующим активной позиции участвующих в деле лиц. В случае экспертизы давности изготовления документов проблема состоит еще в том, что разрешение вопроса о давности далеко не всегда возможно технически. Соответственно, важно предварительно заручиться согласием эксперта на проведение экспертизы. При заявлении ходатайства о назначении экспертизы сторонам не стоит рассчитывать на активные действия суда, а нужно самим занимать активную позицию: предоставить обоснование необходимости экспертизы, кандидатуры экспертов и вопросы, которые следует перед ними поставить.
Главное в статье СкрытьСуд откажет в проведении экспертизы, если сторона не согласна на повреждение оригинала документа
Исследование давности изготовления реквизитов документа в некоторых случаях предполагает повреждение данного документа (например, вырезки штрихов) или его полное уничтожение*. В этой связи представляет интерес вопрос, требуется ли согласие стороны, представившей документ на исследование, на его повреждение. C одной стороны, отказ дать согласие на повреждение документа может привести к невозможности экспертного исследования, а с другой — в результате необоснованного заявления ходатайства о проведении экспертизы лицо может лишиться оригинала документа. Суды признают отказ стороны дать согласие на повреждение документа недопустимым, и в случае отказа дать согласие исключают спорное доказательство (постановление АС Уральского округа от 29.03.2016 по делу № А34-869/2015) либо назначают экспертизу независимо от наличия такого согласия (постановление 17ААС от 03.10.2012 по делу № А50-25775/2011).
Однако существуют и дела, в которых отсутствие согласия на повреждение документов стало основанием для отказа в назначении экспертизы и признания доводов лица, заявившего ходатайство о проведении экспертизы, недоказанными. Так, в одном из дел суд получил ответы от экспертных учреждений, из которых следовало, что в случае проведения исследования без полного или частичного повреждения документов возможен лишь вероятностный ответ относительно давности изготовления документов (постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.03.2011 по делу № А21-9310/2009).
Также суд может отказать в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы, если помимо отсутствия согласия стороны на повреждение документов, имеются иные, сопутствующие обстоятельства.
В частности, в одном из дел суд, отказывая в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы, указал на отсутствие согласия стороны на повреждение документа, а также на то, что заявитель не обосновал возможность проведения экспертизы с учетом короткого спорного периода (между датой, указанной в документе, и предполагаемой датой подписания), составляющего 2 месяца (постановление 13ААС от 30.01.2014 по делу № А42-7558/2012).
* Судебная экспертиза. Типичные ошибки / под ред. Е. Р. Росинской. М., 2016. С. 79–80.
СУДОПРОИЗВОДСТВО
Договор содержит положение о подсудности. Когда московский суд откажется рассматривать спор
Сергей Станиславович ПЕТРАЧКОВ
к. ю. н., адвокат, старший консультант компании АЛРУД
Денис Эдуардович Беккер
юрист компании АЛРУД
•Можно ли договориться о рассмотрении спора в суде, который не связан с местом нахождения сторон
•В каких случаях суды Московского округа ограничивают стороны в выборе подсудности
•Как убедить суд применить соглашение о договорной подсудности
Большая часть договоров содержит оговорку о подсудности споров конкретному арбитражному суду. Причем зачастую стороны выбирают суд, который никак не связан ни с местом их нахождения, ни с местом исполнения договора. Для региональных компаний таким судом
нередко выступает арбитражный суд г. Москвы. Между тем московские суды выработали противоположные позиции относительно права сторон определить конкретный суд в договоре. Рассмотрим, когда суд откажется рассматривать спор в рамках договорной подсудности.
Ошибочное толкование позиции ВС РФ арбитражными судами Московского округа ограничивает договорную подсудность
Недавно арбитражные суды Московского округа сформулировали два ограничения договорной подсудности:
1.Нельзя выбрать «индивидуально-определенный суд» — можно определить только родовой критерий подсудности. Например, стороны договора могут указать, что все споры по договору подсудны арбитражному суду по месту нахождения компании-истца и т. д.
2.Нельзя выбрать в договоре арбитражный суд безотносительно к месту нахождения истца или ответчика, имущества, причинения вреда, исполнения договора, иным критериям, определяемым родовыми признаками с учетом правоотношений сторон.
Подобная практика широко распространена среди арбитражных судов Московского округа (постановления АС Московского округа от 08.02.2016 по делу № А40-200142/14, от 09.06.2016 по делу № А40-92186/2015, 9ААСот 28.07.2016 по делу № А40-164626/2015, от 25.11.2016 по делу № А40-71552/2016, от 01.12.2016 по делу № А40-135613/2016).
Во всех судебных актах, в которых устанавливаются указанные ограничения договорной подсудности, суды ссылаются на определение ВС РФ от 06.05.2014 № 83-КГ14-2.
Зачастую суды цитируют Верховый суд следующим образом: «Как указал Верховный Суд Российской Федерации в Определении от 06.05.2014 № 83-КГ14-2, указание конкретного суда в соглашении о договорной подсудности не соответствует действующему законодательству Российской Федерации» (постановление АС Московского округа от 08.02.2016 по делу № А40200142/14).
Вместе с тем анализ указанного определения Верховного суда показывает, что арбитражные суды неверно толкуют правовую позицию высшей инстанции.
Всоответствующем деле Верховный суд столкнулся с ситуацией, когда нижестоящие суды сочли незаконным условие о рассмотрении всех споров по месту нахождения истца. При этом нижестоящие суды указали, что подобное соглашение о выборе подсудности недостаточно определенно, поскольку не указывает конкретный компетентный суд.
Вответ на это Верховный суд пояснил: «Данный пункт договора с достаточной определенностью указывает на изменение территориальной подсудности рассмотрения исковых заявлений по спорам между сторонами договора, а требование об указании конкретного суда в соглашении о договорной подсудности не соответствует действующему законодательству Российской
Федерации, нарушает право заявителя на равный и свободный доступ к правосудию и защиту нарушенных прав, а также право на определение подсудности спора».
Из сравнения оригинальной правовой позиции Верховного суда и того, как ее цитируют нижестоящие суды, видно, что суды ошибочно пропускают слово «требование». В связи с этим изначальный смысл фразы меняется на противоположный.
Следовательно, Верховный суд указал, что стороны договора вправе в своем договоре устанавливать как конкретный компетентный суд, так и родовой критерий для определения подсудности спора. Главное, чтобы договор позволял однозначно определить компетентный арбитражный суд.
Искаженное цитирование определения Верховного суда приводит нижестоящие суды к выводу, что стороны договора не вправе выбирать конкретный суд, а могут только определить родовой критерий подсудности.
Впервые такое неверное толкование появилось в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2014 по делу № А40-73134/2014. В дальнейшем данную позицию многократно повторили другие суды в аналогичных делах.
Окончательно же ошибочное толкование определения Верховного суда от 06.05.2014 № 83- КГ14-2 закрепилось в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 08.02.2016 по делу № А40-200142/14.
После этого суды стали подкреплять ошибочное толкование упомянутого определения Верховного суда ссылками на уже сформировавшуюся практику Девятого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Московского округа (определения АС г. Москвы от 21.03.2016 по делу № А40-250412/15-51-2106, от 19.04.2016 по делу № А40-237170/15-51-1981, от 17.05.2016 по делу № А40-6600/16-51-59).
Подобная практика судов Московского округа, вероятно, связана с тем, что суды пытаются таким способом снизить собственную высокую загрузку, перенаправив часть споров в региональные суды. Очевидно, что такой способ перераспределения загрузки судов разных регионов недопустим.
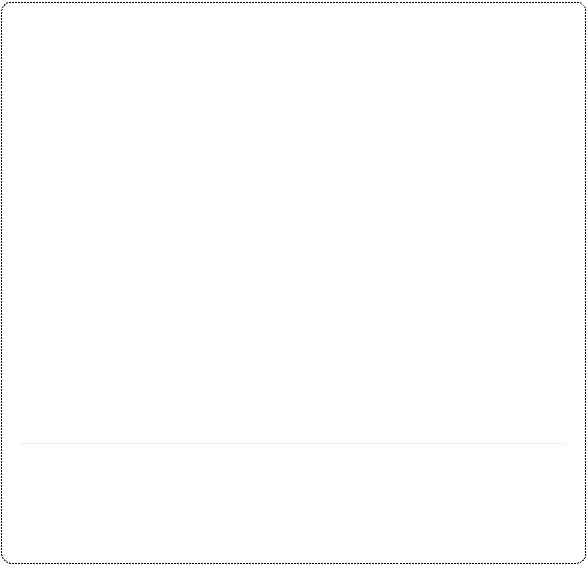
Таким образом, судебная практика арбитражных судов Московского округа об ограничительном толковании положений АПК РФ о договорной подсудности основана на ошибочном прочтении определения Верховного суда от 06.05.2014 № 83-КГ14-2.
Более того, детальный анализ истории формирования данного ошибочного толкования показывает, как в принципе формируется судебная практика. Единожды совершенную судебную ошибку, если ее не исправил вышестоящий суд, впоследствии неоднократно повторяют другие суды без какого-либо критического осмысления. Если же судебную ошибку дополнительно подтвердит вышестоящий суд, то ошибочная судебная практика сформируется окончательно.
Ограничение договорной подсудности противоречит практике Верховного суда и доктрине
Российская судебная практика ранее никогда не устанавливала ограничения для договорной подсудности, которые применяют суды Московского округа.
В качестве примера можно привести позицию Верховного суда 2016 года: «Доводы судов первой и апелляционной инстанции о том, что стороны, устанавливая договорную подсудность, не имеют права указывать в договоре конкретный суд, который будет управомочен рассматривать спор, не основан на законе. По смыслу статьи 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороны вправе определить договорную подсудность, указав либо наименование конкретного суда, либо установив, что спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения одной какой-либо из сторон» (определение от 26.07.2016 № 16-КГ16-31).
В другом деле Верховный суд прямо указал, что закон не требует, чтобы договорная подсудность определялась по месту нахождения сторон в пределах юрисдикции конкретного суда (определение от 13.09.2016 № 80-КГ16-9).
Более того, недавно Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ при рассмотрении подобного дела пришла к выводу, что АПК РФ не допускает изменение только подведомственности, исключительной и родовой подсудности, а условие о выборе конкретного компетентного суда в рамках общей территориальной подсудности спора не может быть признано несогласованным (определение от 25.05.2017 № 305-ЭС16-20255).
Доктрина гражданского процесса также поддерживает допустимость выбора в договоре конкретного суда, который не связан со сторонами спора или с договором. В частности, М. А. Рожкова именует такие соглашения «пророгационными соглашениями о подсудности в чистом виде»*.
Помимо общих требований к действительности и заключенности, к соглашениям о подсудности предъявляется только требование об определенности его предмета, то есть об определенности спора, передаваемого на разрешение суда, и определенности избранного сторонами суда**.
Еще Е. В. Васьковский отмечал, что нет никаких оснований запрещать сторонам договора определять территориальную подсудность споров между ними. Территориальная подсудность споров существует в первую очередь в интересах самих сторон, при этом правила родовой и исключительной подсудности не нарушаются***. Таким образом, ограничительная практика толкования норм о договорной подсудности противоречит практике ВС РФ и доктрине гражданского процесса.
* Рожкова М. А., Елисеев Н. Г., Скворцов О. Ю. Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское)
и мировое соглашения / под общ. ред. М. А. Рожковой. М.: Статут, 2008. 525 с. ** См.: Елисеев Н. Г. Процессуальный договор. М.: Статут, 2015. 368 с.
*** См.: Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса. М.: Тип. бр. Башмаковы, 1914. 571 с.
В зарубежных странах соглашения о подсудности применяются автоматически
Гражданско-процессуальные кодексы зарубежных стран закрепляют право сторон определять территориальную подсудность спора своим соглашением.
К соглашениям о подсудности предъявляются различные ограничения. Например, требование к форме соглашения (ст. 17 ГПК Швейцарии), требование, чтобы стороны соглашения являлись коммерческими организациями или лицами публичного права (ст. 38 ГПУ Германии, ст. 48 ГПК Франции). Также встречаются указания на недопустимость изменения соглашением сторон исключительной подсудности или необходимость определить правоотношение, подсудность
споров из которого изменяется соглашением сторон (ст. 40 ГПУ Германии, ст. 17 ГПК Швейцарии).
При этом во всех указанных странах нет требований, чтобы соглашение о подсудности определяло только родовой критерий подсудности и чтобы выбранный сторонами суд был связан со сторонами спора или с договором.
Особенно интересно проанализировать опыт США как страны общего права, в которой вопрос о выборе юрисдикции имеет принципиальное значение в силу федеративного устройства государства и существенных различий в правовых системах разных штатов.
Начиная с дела The Bremen v. Zapata Off-Shore Company (1972), большая часть судебных округов США придерживается позиции о допустимости договорного определения подсудности споров. Следовательно, при наличии договорной подсудности любые другие суды считаются ненадлежащими (ст. 1406 Кодекса США).
При этом в некоторых судебных округах существовала позиция, основанная на деле Stewart Organization, Inc. v. Ricoh (1988). В соответствии с ней соглашение о подсудности рассматривается лишь как один из факторов, учитываемых при определении компетентного суда (суды ссылаются на ст. 1404 Кодекса США, которая позволяет передать дело по договорной подсудности, если это отвечает интересам правосудия и договорный форум «удобен» для рассмотрения дела).
В деле Atlantic Marine Constr. Co. (2013) Верховный Суд США постарался поставить точку
вдискуссии о механизме действия соглашений о подсудности. Позиция Суда заключается
вследующем:
1)наличие соглашения о подсудности не делает автоматически некомпетентными другие суды, подсудность которых установлена в законе;
2)определяя компетентный форум, суд учитывает наличие соглашения о выборе подсудности в качестве решающего фактора, отклонения от которого допускаются только в исключительных случаях;
3)суд может не согласиться с договорной подсудностью только если одна из сторон спора докажет, что договорная подсудность противоречит публичным интересам.
Таким образом, в странах общего права соглашения о подсудности применяются не автоматически, но при этом отклонения от согласованного сторонами форума допускаются
только в публичных интересах. В странах континентального права, напротив, господствует автоматическое применение соглашений о выборе подсудности. Суд, определенный в договоре, считается единственным судом, компетентным разрешить конкретный спор. При этом все исключения из данного правила и требования к соглашениям о подсудности определены в законе.
В суде нужно обосновать коммерческий смысл и рациональность соглашения о выборе подсудности
На данный момент существуют случаи, когда Арбитражный суд Московского округа отвергал позицию нижестоящих судов по ограничению договорной подсудности (постановления от 11.11.2016 по делу № А40-164626/2015, от 21.03.2017 по делу № А40-71552/2016). В этих делах суд сделал следующие выводы:
1.Соглашение о подсудности спора, заключенное сторонами в установленном законом порядке, обязательно как для сторон, так и для арбитражного суда.
2.Верховный суд в определении от 06.05.2014 № 83-КГ14-2 сделал вывод о возможности выбора как родового критерия подсудности, так и конкретного суда.
3.Ограничительная практика толкования ст. 37 АПК РФ ошибочна, поскольку закон не закрепляет ограничений по выбору в качестве компетентного суда любого арбитражного суда субъекта. Такая практика незаконно ограничивает возможность применения института договорной подсудности.
Таким образом, на данный момент судебная практика Арбитражного суда Московского округа по данному вопросу противоречива: есть и судебные акты, которые ограничительно толкуют положения АПК РФ о договорной подсудности, и противоположные. Причем иногда противоположные судебные акты принимают практически идентичные составы судей (ср. постановления АС Московского округа от 09.06.2016 по делу № А40-92186/2015 и от 21.03.2017 по делу № А40-225066/2016).
В связи с этим, если сторона подает иск в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с договорной подсудностью и место нахождения сторон спора или исполнения договора
не связаны с Москвой, необходимо приводить дополнительное обоснование подсудности. При этом целесообразно ссылаться на практику Верховного суда РФ и указанную практику Арбитражного суда Московского округа.
Также рекомендуется указывать на коммерческий смысл и политико-правовую обоснованность «либерального» подхода к допустимости соглашений о выборе подсудности.
Часто стороны договора специально выбирают нейтральный суд, который будет в равной степени территориально удобен и доступен для сторон. Либо стороны хотят локализовать все возможные споры между собой в рамках одного арбитражного суда. Особенно часто стороны выбирают в качестве компетентного суда Арбитражный суд г. Москвы, руководствуясь опытом

и квалификацией судей данного суда и вышестоящих инстанций, значительным количеством московских юридических фирм и т. д.
Вкачестве примера можно привести дело № А40-225066/2016, в котором рассматривался спор между автопроизводителем и его дилером. Автопроизводитель был зарегистрирован по месту нахождения завода по производству автомобилей (Калужская область), а дилер — по месту нахождения дилерского центра (Московская область). При этом центральный офис автопроизводителя, который администрировал работу всей дилерской сети, находился в Москве.
Всвязи с этим все дилерские договоры содержали условие о подсудности договорных споров Арбитражному суду г. Москвы. Очевидно, что в данном случае выбор одного конкретного арбитражного суда для разрешения споров с различными дилерами одного автопроизводителя выступал разумным и эффективным способом экономии судебных расходов и повышения предсказуемости в отношениях между сторонами.
Если же не признавать такие соглашения о выборе подсудности, то стороны договоров попадают в неопределенность в отношении компетентного суда. Более того, может возникнуть ситуация, когда арбитражный суд другого региона сочтет условие о договорной подсудности законным и вернет исковое заявление. При этом установленный в договоре суд посчитает, что условие о подсудности незаконно, и также вернет исковое заявление. В итоге стороны договора будут фактически лишены конституционного права на судебную защиту, так как различные арбитражные суды отказываются принимать исковые требования к своему производству.
При заключении договоров стороны заранее не могли предусмотреть такие риски, так как арбитражные суды Московского округа применяют ограничительное толкование положений АПК РФ о договорной подсудности независимо от даты заключения договоров, то есть фактически ретроспективно. Если данная практика не будет преодолена, то стороны уже заключенных договоров, где есть условия о договорной подсудности, не смогут быть уверены в исполнимости данных условий.
В такой ситуации вопрос о подсудности договорных споров останется в «подвешенном» состоянии вплоть до подачи иска в суд и будет разрешаться совершенно произвольно в зависимости от того, к какому конкретно судье попадет спор и вслед за какой позицией судебной практики судья решит последовать.
Пока ошибочная судебная практика еще не преодолена, при ведении договорной работы и согласовании условий о подсудности на стадии заключения договора необходимо учитывать
риск неисполнимости условия о договорной подсудности, анализировать актуальную судебную практику по данному вопросу и стараться связать место разрешения споров с местом нахождения сторон, местом исполнения договора и т. д.
К сожалению, в данный момент на уровне Верховного суда РФ всерьез обсуждается возможность внесения в АПК РФ поправок об исключении правил о договорной подсудности с целью
равномерно распределить нагрузку между регионами1.
Мы негативно оцениваем подобные инициативы и надеемся, что положения АПК РФ в этой части останутся неизменными, а практика арбитражных судов со временем придет к единообразию и суды будут автоматически применять условия о договорной подсудности без дополнительных, не основанных на законе ограничений.
Хотелось бы верить, что даже в случае принятия подобных поправок в АПК РФ интересы участников оборота будут учтены, а данные поправки не будут иметь обратной силы и не затронут действие ранее заключенных соглашений о договорной подсудности.
1 URL: https://pravo.ru/news/view/141199.
СУДОПРОИЗВОДСТВО
Компенсация за неисполнение судебного акта. На какие вопросы не ответил Верховный суд
Семен Иванович Лопатин
юрист арбитражной практики юридической фирмы VEGAS LEX
Хава Магомедовна Аушева
младший юрист Практики по проектам в энергетике юридической фирмы VEGAS LEX
•Какие факторы учитывают суды при определении размера судебной неустойки
•Можно ли привязать сумму судебной неустойки к ставке рефинансирования
•Удастся ли снизить неустойку по причине ее несоразмерности убыткам заявителя
С 2015 года кредиторы получили право требовать денежную компенсацию, если должник не исполнил судебный акт в натуре (ст. 308.3 ГК РФ). Эта возможность впервые получила закрепление в российском законодательстве. Однако сам институт денежной компенсации
за неисполнение судебного акта появился в России еще в 2014 году, когда Пленум ВАС РФ принял постановление от 04.04.2014 № 22 (документ утратил силу; далее — Постановление Пленума ВАС № 22).
В настоящее время стороны активно используют право на судебную неустойку. Однако до сих пор нет точного понимания, как определить сумму компенсации, за какой период ее исчислять и когда ее можно уменьшить. Разъяснения Верховного суда 2016 года не улучшили эту ситуацию.
Суд не учитывает убытки взыскателя при определении судебной неустойки
Если должник не исполнил обязательство, кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить ему денежную сумму на случай неисполнения судебного акта в размере, определяемом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 1 ст. 308.3 ГК РФ).
Пункт 1 ст. 308.3 ГК РФ отсылает к ст. 330 ГК РФ (понятие неустойки). Таким образом, хотя законодатель и не указал природу взыскиваемой суммы, из структуры нормы явно следует, что она рассматривается как некий новый вид неустойки. Это предположение подтвердил и Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»; далее — Постановление Пленума ВС № 7).
Такой подход породил много вопросов как на практике, так и в теории. Например, если предположить, что судебная неустойка является законной, то на нее должны распространяться положения ст. 332 ГК РФ. Соответственно, стороны вправе увеличить ее размер своим соглашением. Однако это противоречит ст. 308.3 ГК РФ и разъяснениям ВС РФ. Более того, неустойку по смыслу ГК РФ можно взыскать как по неденежным, так и по денежным требованиям. В свою очередь, ст. 308.3 ГК и Пленум ВС РФ указывают, что судебная неустойка присуждается только в случае неисполнения обязательства в натуре.
Внимания заслуживают также положения п. 28 Постановления Пленума ВС № 7, согласно которым сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки возмещаются сверх судебной неустойки.
Судебная неустойка не должна компенсировать взыскателю убытки, связанные с неисполнением судебного акта, поскольку такие убытки возмещаются отдельно.
Судебная неустойка — это денежная сумма, которую суд определяет исходя из личности должника, чтобы понудить его своевременно исполнить такой судебный акт. При этом убытки взыскателя, его имущественное положение и характер судебного акта суд не учитывает.
Так, например, в одном из дел суд указал, что «судебная неустойка является самостоятельной суммой, определяемой с учетом степени затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественного положения, а также иных заслуживающих внимания обстоятельств. Судебная неустойка не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства
в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки» (постановление АС Московского округа от 15.09.2016 по делу № А41-66901/13).
При этом финансовое состояние должника не освобождает его от надлежащего исполнения судебного акта, что подтверждается судебной практикой (постановления АС Северо-Западного округа от 14.07.2016 по делу № А56-17046/2015, Центрального округа от 08.11.2016 по делу № А23-4491/2014).
Неустойку можно взыскать даже за период, когда статья 308.3 ГК не вступила в силу
Суд взыскивает судебную неустойку исходя из срока неисполнения должником решения суда — начиная с момента, когда решение вступит в законную силу либо истечет срок для добровольного исполнения судебного акта (ч. 2 ст. 174 АПК РФ), и заканчивая моментом, когда должник исполнит обязательство в натуре.
Поскольку судебная неустойка призвана побудить должника исполнить судебный акт и компенсировать взыскателю ожидание такого исполнения, то лишать взыскателя права получить судебную неустойку с момента неисполнения судебного акта неправомерно
(постановление АС Северо-Западного округа от 20.06.2016 по делу № А56-64754/2012).
Должники часто ссылаются на невозможность применения ст. 308.3 ГК РФ к отношениям, возникшим до момента вступления статьи в силу.
Акты гражданского законодательства имеют прямое действие, то есть применяются исключительно к тем отношениям, которые возникли с момента вступления соответствующих норм в силу. На отношения, возникшие до введения в действие соответствующей нормы, ее действие распространяется только в случаях, когда закон это прямо предусматривает (ст. 4 ГК РФ).
Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ (далее — Закон № 42-ФЗ), который ввел в ГК РФ рассматриваемую статью, содержит разъяснения относительно ее вступления в силу.
Согласно ст. 2 указанного закона ст. 308.3 ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после его вступления в силу, либо к правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу закона в рамках ранее возникших правоотношений.
Таким образом, обязанность выплатить судебную неустойку возникает после вступления в силу ст. 308.3 ГК РФ на основании соответствующего судебного акта и распространяется на возникшие ранее правоотношения.
Довод о возможности применить ст. 308.3 ГК РФ в отношении судебных актов, срок неисполнения которых наступил до вступления этой статьи в силу, подтверждается судебной практикой.
Так, Верховный суд РФ взыскал судебную неустойку за период неисполнения судебного акта с 02.09.2013 по 01.12.2015 (определение от 25.10.2016 № 307-ЭС-15-16404). Суд указал, что
если Постановление Пленума ВАС № 22 утратило силу, это не лишает взыскателя права получить компенсацию за неисполнение судебного акта в силу положений ст. 308.3 ГК РФ и п. 28 Постановления Пленума ВС № 7, действовавших на момент принятия обжалуемого судебного акта.
В другом деле суд отклонил утверждение о том, что к спорным правоотношениям не применяются положения ст. 308.3 ГК РФ, поскольку стороны заключили договор до введения в действие статьи (01.06.2015). В обоснование данной позиции суд сослался на ст. 2 Закона № 42-ФЗ (постановление АС Северо-Западного округа от 14.07.2016 по делу № А56-17046/2015).
Суды часто удовлетворяют требования за период, который начал течь до вступления в силу ст. 308.3 ГК РФ, без ссылок на конкретные нормы права.
В качестве примера можно привести постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.03.2017 по делу № А21-9654/2013. Здесь суд взыскал судебную неустойку на основании ст. 308.3 ГК РФ за все время неисполнения судебного акта, включая период, предшествующий дате вступления статьи в силу. Суд указал, что на момент обращения истца с заявлением о взыскании судебной неустойки ст. 308.3 ГК РФ уже действовала.
К аналогичному выводу пришел Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд. Суд начислил неустойку с 22.08.2015, то есть за весь срок неисполнения судебного акта, включая период, предшествующий дате вступления в силу ст. 308.3 ГК РФ (постановление 16ААС от 08.02.2017 по делу № А63-9582/2012).
В другом деле суд отклонил доводы ответчика о неправомерности применения ст. 308.3 ГК РФ к правоотношениям сторон из договора от 13.07.2010 и решения арбитражного суда
от 07.12.2013, поскольку данная норма вступила в силу с 01.06.2015. Суд признал обоснованным решение суда первой инстанции применить судебную неустойку к правоотношениям сторон, возникшим до вступления в силу ст. 308.3 ГК (постановление 2ААС от 06.09.2016 по делу № А2910424/2015).
Довольно интересное обоснование по рассматриваемому вопросу дал Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление 13ААС от 10.03.2017 по делу № А26-8730/2016). Он указал, что право кредитора требовать в судебном порядке присуждения исполнения обязанности в натуре и взыскания неустойки на случай неисполнения судебного акта не является новеллой гражданского законодательства.
Возможность для кредитора обратиться в суд с таким иском существовала и до вступления в силу Закона № 42-ФЗ. Кредитор мог потребовать присуждения исполнения обязательства в натуре в качестве одного из способов защиты гражданских прав, установленных ст. 12 ГК РФ.
Из вышесказанного следует вывод, что судебная практика преимущественно идет по пути взыскания судебной неустойки за весь период неисполнения судебного акта, включая период, предшествующий дате вступления ст. 308.3 ГК РФ в силу.
Суды продолжают использовать финансовое состояние должника как критерий определения размера судебной неустойки
Постановления о взыскании судебной неустойки редко содержат подробное описание того, как суд ее рассчитывал. Чаще всего они содержат общие фразы и ссылки на норму ст. 308.3
ГК РФ и Постановление Пленума ВС № 7. В связи с этим взыскателю довольно сложно изначально определить размер заявляемого требования, а судам объективно рассчитать его.
Законодатель не конкретизировал методику расчета судебной неустойки, что вызывает множество сложностей на практике. Прежде всего, это связано с тем, что ст. 308.3 ГК РФ направлена на защиту прав кредитора по неденежным обязательствам. Недостаточная регламентация порядка исчисления судебной неустойки дает участникам гражданских правоотношений свободу предлагать любые экономически обоснованные способы расчета.
Закон лишь указывает на обязанность суда устанавливать в судебном акте размер и (или) порядок определения судебной неустойки (п. 32 Постановления Пленума ВС № 7).
Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически. Также возможно установить судебную неустойку в виде прогрессивной шкалы. Прогрессивная шкала расчета предполагает планомерное (периодическое) увеличение размера судебной неустойки на определенную сумму до даты фактического исполнения судебного акта.
Чаще всего взыскатели просят установить размер судебной неустойки в виде фиксированной суммы (постановления 1ААС от 14.06.2016 по делу № А43-29155/2015, от 07.10.2016 по делу
№А43-33560/2015, 7ААС от 28.11.2016 по делу № А03-11742/2014, 2ААС от 12.01.2017 по делу
№А31-1092/2015). Наименее распространена практика взыскания судебной неустойки в виде процента от суммы, а также в виде прогрессивной шкалы (постановления 1ААС от 22.08.2016 по делу № А79-746/2016, 7ААС от 30.12.2016 по делу № А45-19017/2015, 9ААС от 13.03.2017 по делу № А40-50726/16).
Анализ судебной практики не позволил выявить единых критериев расчета судебной неустойки, которыми руководствовались взыскатели при обращении с соответствующими требованиями в суд.
Согласно общим принципам расчета компенсации задача суда сводится к установлению такого размера, который сделает исполнение судебного решения более выгодным для ответчика, чем его неисполнение (п. 32 Постановления Пленума ВС № 7).
При определении суммы денежных средств на случай неисполнения судебного акта суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства (определение ВС РФ от 06.06.2016 по делу № А60-54358/2014, постановление АС Западно-Сибирского округа от 02.11.2016 по делу № А27-10879/2013).
Критериев, предложенных ВС РФ, не всегда достаточно, чтобы определить размер судебной неустойки. Подход ВАС РФ к определению размера компенсации давал более четкие рекомендации: суд учитывал также имущественное положение должника, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. То есть суды имели возможность определить хотя бы примерные рамки присуждаемой суммы, точку отсчета.
Некоторые суды, не имея четких критериев для установления суммы компенсации, продолжают использовать финансовое состояние должника как один из критериев определения размера судебной неустойки. Так, в одном из дел суд указал, что необходимо учитывать степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика добровольно исполнить судебный акт, его имущественное положение, в частности размер финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства (постановление 16ААС от 08.02.2017 по делу № А63-9582/2012).
Представляется, что возвращение данного критерия в разъяснениях ВС РФ пошло бы на пользу правоприменению и существенно облегчило бы определение размера судебной неустойки. Помимо судов его могли бы применять и взыскатели для изначального определения сумм, которые они вправе взыскать.
Суды чаще всего присуждают судебную неустойку в твердой сумме
Суды не пришли к единообразному применению ст. 308.3 ГК РФ в части расчета судебной неустойки. Прежде всего, это связано с тем, что закон не регламентирует способы расчета судебной неустойки, а в компетенцию суда входит только решение вопроса разумности ее размера с учетом конкретных обстоятельств дела.
Неопределенность в расчете судебной неустойки разрешится только после издания законодателем акта с соответствующими разъяснениями. При этом пределы взыскиваемой суммы должны определяться исходя из финансового состояния должника. Судебная неустойка не должна привести к банкротству, то есть должна быть посильной для исполнения.
Рассмотрим, какие суммы суды присуждали в конкретных спорах, применяя различные способы расчета судебной неустойки.
Взыскание неустойки в виде фиксированной суммы. Истец требовал взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 50 167 руб. ежемесячно по дату фактического исполнения решения суда. Обосновывая размер компенсации, заявитель ориентировался на двойную ставку арендной платы (увеличенную на норму рентабельности — 9,25%), определенную судом в рамках дела № А31-7255/2015 в качестве неосновательного обогащения, которое ответчик должен выплатить истцу за использование сооружений причала.
Суд принял во внимание принципы справедливости и соразмерности присуждения судебной неустойки, учел факт взыскания истцом с ответчика неосновательного обогащения и посчитал обоснованным взыскать единовременную неустойку в твердой сумме — 50 тыс. руб., с последующим взысканием судебной неустойки из расчета 500 руб. за каждый день
неисполнения решения суда (постановление 2ААС от 12.01.2017 по делу № А31-1092/2015).
Интересный способ расчета судебной неустойки предложил истец в рамках дела № А292667/2016. Истец требовал взыскать судебную неустойку в размере трехкратного уровня инфляции с ежемесячной выплатой по день фактического исполнения решения. Однако суд отказал в удовлетворении исковых требований, поскольку в силу ст. 308.3 ГК РФ судебная неустойка присуждается при нарушении должником неденежных обязательств. Неисполнение денежного обязательства влечет уплату договорной (законной) неустойки или процентов за пользование чужими денежными средствами (постановление 2ААС от 28.11.2016 № 02АП9586/2016).
В другом деле суд частично удовлетворил требования истца о взыскании с ответчика компенсации за прошедший период неисполнения судебного акта в размере 200 тыс. руб. и за каждый последующий месяц неисполнения в размере 30 тыс. руб. (определение АС Республики Коми от 29.06.2016 по делу № А29-4404/2013).
Суд взыскал с должника компенсацию за неисполнение решения суда в сумме 50 тыс. руб., а также 10 тыс. руб. за каждый месяц неисполнения судебного акта. При этом суд исходил из общих принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, учел необходимость соблюдения баланса интересов
участвующих в деле лиц и конкретные обстоятельства дела. Апелляция поддержала позицию суда первой инстанции (постановление 2ААС от 30.09.2016 по делу № А29-4404/2013).
Взыскание неустойки в виде прогрессивной шкалы. Арбитражный суд Тверской области рассмотрел заявление о присуждении судебной неустойки в размере 1 млн руб. (за период с 26.03.2013 по 14.04.2016) и с 15.04.2016 — в размере 300 тыс. руб. за каждый месяц неисполнения судебного акта с ежемесячной индексацией данной суммы на 100%.
Суд взыскал с ответчика 1 млн 180 тыс. руб. судебной неустойки. Также суд определил, что с 01.06.2016 до полного исполнения судебного решения сумма судебной неустойки составит 180 тыс. руб. (постановление 14ААС от 28.09.2016 по делу № А66-7083/2011).
В рамках другого дела истец требовал взыскать судебную неустойку по следующей формуле:
S = 1 000,00 руб. + 1 000,00 руб. x (п – 1) — за каждый день просрочки, где:
S — сумма задолженности за один день неисполнения требования освободить нежилое помещение; п — порядковый номер недели, в которой находится день просрочки исполнения.
Суд установил судебную неустойку по данному делу в размере 500 руб. в день до момента исполнения судебного акта в полном объеме (решение АС Чувашской Республики от 19.05.2016 по делу № А79-746/2016).
Взыскание неустойки в виде процента от суммы. Истец требовал взыскать судебную неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России от цены контракта.
Суд отказал в удовлетворении данного требования, поскольку истец, ссылаясь на ст. 308.3 ГК РФ, фактически требовал начислить пени по условиям муниципального контракта за просрочку исполнения, вытекающего из контракта гарантийного обязательства. Однако суд указал, что само по себе это не исключает применение к должнику предусмотренной контрактом ответственности в общем порядке (п. 2 ст. 308.3 ГК РФ). В итоге суд взыскал судебную неустойку в уменьшенном размере (постановление 2ААС от 06.09.2016 по делу № А29-10424/2015).
Неустойку нельзя снизить в порядке статьи 333 ГК РФ
Суды занимают противоречивые позиции в вопросе снижения судебной неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ.
Так, апелляция снизила размер судебной неустойки, поскольку суд первой инстанции нарушил баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба (постановление 16ААС по делу № А63-9582/2012, отменено постановлением АС Северо-Кавказского округа от 27.07.2017 № Ф08-2582/2017).
Аналогичная позиция содержится в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2016 по делу № А40-60676/2015. В мотивировочной части судебная коллегия отметила
