
Экзамен зачет учебный год 2023 / Международное право1 / Билеты по МП_отдельные_по Шестакову / Тема 3. Принципы МП (7-10) / Материалы / Тункин Г.И. Принципы МП
.pdf
Часть I (Глава III) |
39 |
достигали соглашения о природе международного права, его соци альной сущности и т.д. Важно, чтобы они могли договориться отно сительно конкретных принципов и норм международного права.
В течение тысячелетий юристы спорили об определении пра ва, но, несмотря на это, право существовало. Государства, полити ки и юристы различных стран могут иметь различные представле ния относительно природы международного права, но это различие мнений не создает непреодолимых препятствий для того, чтобы дос тигать соглашений относительно принятия конкретных правил по ведения в качестве международно-правовых норм.
Развитие международного сотрудничества в интересах мира, характерное для мирного сосуществования, способствует созданию новых норм международного права, закрепляющих достигнутый уровень международного сотрудничества, а также норм, направ ленных на дальнейшее развитие и укрепление мирного сосущество вания.
История международных отношений после Великой Октябрь ской социалистической революции подтверждает это положение. Поступательное развитие международного права в общем отражало развитие мирного сосуществования государств двух противополож ных общественных систем.
Г л а в а III
ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
ЗА ПЕРИОД СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ДВУХ СИСТЕМ
Если проследить развитие международного права за период сосуществования двух противоположных общественных систем, то нельзя не заметить, что в международном праве произошли суще ственные изменения. Отжили свой век многие реакционные инсти туты, появились новые принципы и нормы, имеющие важнейшее значение для обеспечения мира и независимости народов, развились и укрепились старые демократические принципы и институты меж дународного права.
Эти изменения, явившиеся результатом борьбы прогрессивных сил против реакции, затронули, хотя и в разной степени, все обла сти международного права. Они выражаются не только в изменении принципов и норм как таковых, но и в изменении характера и сущ ности международного права (см. последующие главы).

40 |
Теория международного права |
В настоящей главе мы ограничиваемся рассмотрением измене ний основных принципов современного международного права, не претендуя вместе с тем на исчерпывающее изложение вопроса1.
1. ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
а) Принцип Одним из более важных изменений в междуна- ненападения родном праве за период существования двух
систем было появление принципа ненападения. Международное право до Великой Октябрьской социалистичес кой революции признавало право государства на войну (jus ab hel
ium), в соответствии с которым одно государство могло прибегнуть к войне против другого в любом случае, когда оно считало это це лесообразным. Разумеется, для оправдания нападения всегда нахо дились те или иные претензии к государству, на которое соверша лось нападение, претензии основательные или неосновательные.
Принцип запрещения агрессивной войны вошел в международ ное право в период между Первой и Второй мировыми войнами. Со ветское государство сразу же после своего появления поставило вопрос о запрещении агрессивной войны. В Декрете о мире от 26 ок тября (8 ноября) 1917 г. — первом декрете Советского государства — оно торжественно заявило, что захватническая война является “ве личайшим преступлением против человечества”1 2. Эта идея нашла горячий отклик в сердцах народов не только Советской России, но и далеко за ее пределами.
Последовательная борьба Советского Союза за мир, требование прогрессивных сил покончить с войной, приносящей народам огром ные жертвы и лишения, были главными причинами, приведшими к запрещению международным правом агрессивной войны3.
Устав Лиги наций не запрещал агрессивную войну, хотя он ограничивал право государств — членов Лиги прибегать к войне и
1 По вопросу о понятии основных принципов международного права см.: Outrata V. К pojmu obecnych a zakladnich zasad mezinarodniho prava //
Casopis pro mezinirodni pr5vo. 1961. № 3. Str. 191; Курс международного права. T. II. 1967. С. 5—15; Steiniger Р. (ed.). Die sieben Prinzipien der friedlichen Koexistenz. B., 1964; Graefrath B. Zur Stellung der Prinzipien im gegenwartigen Volkerrecht. B., 1968; Geamanu G. Principiile fundamentale ale dreptului international contemporan. Bucuresti, 1967. P. 7—35; Bierzanek R. Legal Principles of Peaceful Co-existence and their Codification // PYBIL. 1966/67. P. 17—44.
2Документы внешней политики СССР. Т. I. С. 12.
3См. по этому вопросу: Шармазанагивнли Г. Принцип ненападения в
международном праве. 1958; его же. От права войны к праву мира. 1967; Багинян К. Борьба Советского Союза против агрессии. 1959; Романов В. Исключение войны из жизни общества. 1961; Курс международного права. Т. II. С. 111—145.

Часть I (Глава III) |
41 |
предусматривал санкции в отношении членов, которые будут вое вать в нарушение постановлений Устава.
В этом отношении Устав Лиги наций был известным шагом вперед по сравнению с Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 гг. о мирном разрешении международных споров, в которых фактичес ки содержался лишь призыв, “прежде чем прибегнуть к оружию”, обращаться, “насколько позволят обстоятельства”, к добрым услу гам или посредничеству1.
Впроекте Договора о взаимной помощи, принятом Ассамбле ей Лиги наций в 1923 г. (но не получившем дальнейшего движения), уже более отчетливо звучали мотивы советского Декрета о мире. “Высокие Договаривающиеся Стороны, — говорилось в проекте, — торжественно заявляют, что агрессивная война есть международное преступление, и каждая в отдельности обязуется, что ни одна из них не будет виновна в его совершении”1 2.
ВДекларации об агрессивных войнах, принятой Ассамблеей Лиги наций в 1927 г., агрессивная война также квалифицировалась как “международное преступление”.
Наконец, Парижский пакт от 27 августа 1928 г., несмотря на некоторое несовершенство его постановлений, содержал запрещение агрессивной войны. Статья 1 Пакта гласила: “Высокие Договарива ющиеся Стороны торжественно заявляют от имени своих народов по принадлежности, что они осуждают обращение к войне для урегу
лирования международных споров и отказываются от таковой в своих взаимных отношениях в качестве орудия национальной поли тики”. Статья 2 Пакта предусматривала обязательство участников разрешать свои споры мирными средствами3.
Г. Кельсен пытается истолковать положения Парижского пакта таким образом, что, якобы, он не запрещает войну в защиту нару шенных прав. Ссылаясь на постановления пакта об отказе от войны “в качестве орудия национальной политики”, Кельсен считает воз можным такое толкование пакта, согласно которому война, которая является реакцией против нарушения международного права, то есть война, предпринимаемая для поддержания международного права, также рассматривается как инструмент международной по литики4.
Критикуя это мнение Кельсена, Фердросс правильно указыва ет, что если бы дело обстояло так, как представляет его Кельсен, то это означало бы, что Парижский пакт не внес ничего нового по срав нению с классической доктриной, согласно которой государство мог-
1Международное право в избранных документах. Т. II. 1957. С. 248.
2League of Nations Official Journal. Records of the Fourth Assembly, Plenary Meetings. P. 403.
3См.: Международное право в избранных документах. Т. III. 1957. С. 4.
4Kelsen Н. Principles of International Law. P. 38.

42 |
Теория международного права |
ло прибегать к войне в любом случае, когда его права нарушены другими государствами1.
Парижский пакт 1928 г., если рассматривать его постановления в их взаимной связи, несомненно, вводил в международное право новый, весьма важный принцип. Отказ от войны “в качестве орудия национальной политики”, подкрепленный к тому же обязательством разрешать споры только мирными средствами, означал именно от каз от агрессивной войны, то есть войны, которую государство на чинает первым. Конструкция Кельсена является надуманной и нео боснованной. Под войной в качестве “орудия национальной полити ки” понималась в пакте война, которую начинает само государство,
вотличие от действий, предпринимаемых по постановлению компе тентного международного органа.
Советский Союз не принимал участия в разработке указанных международных документов. Однако бесспорно, что Советское госу дарство, сам факт появления которого вызвал могучий рост сил мира и прогресса и которое выдвинуло и неуклонно пропагандиро вало идею запрещения агрессивной войны, сыграло решающую роль
врождении этого принципа.
Принцип ненападения получил дальнейшее развитие в уставах Нюрнбергского и Токийского международных трибуналов, которые исходят из того, что не только агрессивная война, но и ее подготовка запрещены международным правом1 2.
Устав Организации Объединенных Наций явился новым важ ным этапом в развитии принципа ненападения. Устав ООН не огра ничивается запрещением агрессивной войны, но запрещает также угрозу силой и применение силы “против территориальной непри косновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объе диненных Наций” (п. 4 ст. 2). В то же время Устав содержит обяза тельство разрешать международные споры “мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость” (п. 3 ст. 2).
Согласно Уставу ООН, государство может применять силу про тив другого государства только в двух случаях (если не считать ст. 106 Устава ООН, которая предусматривает третий случай воз можного применения силы). Прежде всего это — коллективные ме ры, применяемые по постановлению Совета Безопасности для пре дотвращения или устранения угрозы миру, подавления актов агрес сии или других нарушений мира. Это меры Организации Объеди-
1Фердросс А. Международное право. С. 426.
2См.: Ромашкин 17. С. Военные преступления империализма. 1953; его же. Преступление против мира и человечества. 1967; Трайнин А. Н. Защи та мира и борьба с преступлениями против человечества. М., 1956; Полтпо-
рак А. И. Нюрнбергский процесс. М., 1966.

Часть I (Глава III) |
43 |
ненных Наций. Что касается использования силы одним государ ством против другого вне рамок ООН, то в соответствии с Уставом это может иметь место только в случае индивидуальной или коллек тивной самообороны, “если произойдет вооруженное нападение”, и только до тех пор, пока Совет Безопасности не примет мер, необхо димых для поддержания международного мира и безопасности (ст. 51 Устава ООН).
Содержание этого принципа в настоящее время включает зап рещение использования силы государством против народов колоний и зависимых стран с целью помешать осуществлению ими права на самоопределение. Такое применение силы является нарушением п. 4 ст. 2 Устава ООН. Как правильно отмечает Г. Шармазанашвили, применение метрополией вооруженной силы против колонии проти воречит целям ООН1. С другой стороны, вооруженная борьба коло ниальных народов за свое освобождение, как ответное действие про тив применения вооруженной силы метрополией, является по совре менному международному праву законной самообороной. Это поло жение вытекает из Устава ООН и нашло выражение, например, в та ких международных документах, как Женевские соглашения 1954 г. по Индокитаю1 2, в многочисленных резолюциях Генеральной Ассам блеи ООН, в частности, в Декларации о предоставлении независи мости колониальным странам и народам от 14 декабря 1960 г., резо люции 2107 (XX) от 21 декабря 1965 г., резолюции 2184 (XXI) от 12
декабря 1966 г., резолюции 2270 (XXII) от 17 ноября 1967 г.3 Принцип запрещения применения силы в международных от
ношениях обсуждается начиная с 1964 г. на сессиях Специального комитета Генеральной Ассамблеи ООН по принципам международ ного права, касающимся дружественных отношений и сотрудниче ства государств. Комитет не смог, однако, принять согласованный текст, определяющий содержание этого принципа. Несмотря на это, было бы неправильно делать пессимистические выводы относитель но существования этого принципа вообще или его содержания4.
Вопрос имеет различные аспекты. Работа Специального коми тета свидетельствует прежде всего о согласии государств в том, что
1Шармазанашвили Г. В. От права войны к праву мира. М., С. 135.
2Ляхе М. Женевские соглашения 1954 г. об Индо-Китае. М., 1956.
С. 189—193.
3См. также: Декларацию Каирской конференции глав государств и правительств от 10 октября 1964 г.; Декларацию конференции юристов аф ро-азиатских стран, принятую на конференции в Конакри в октябре 1962 г. (Revue de droit contemporain. 1963. № 2. P. 174); также: Sahovic M. Influ ence des etats nouveaux sur la conception du droit international // AFDI. 1966. P. 42—43.
4 Декларация о принципах международного права, касающихся дру жественных отношений и сотрудничества между государствами в соответ ствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принята 24 октября 1970 г. (Рез. 2625(XXV)]. — Прим, редактора.

44 Теория международного права
касается общего понимания принципа запрещения применения си лы, как он зафиксирован в Уставе ООН, и его значения в современ ных международных отношениях. Так, в докладе о сессии Специ ального комитета 1967 г. подчеркивается: “Снова было достигнуто общее согласие о том, что указанный принцип является краеуголь ным камнем современного международного правопорядка и сотруд ничества, дружественных отношений и мирного сосуществования го сударств”1.
Во всех предложениях, касающихся этого принципа, которые вносились на рассмотрение Специального комитета по принципам международного права, неизменно воспроизводилось постановление п. 4 ст. 2 Устава ООН.
Содержание принципа ненападения в современном междуна родном праве состоит из двух частей: запрещения агрессивной вой ны и запрещения применения силы и угрозы силой, как оно опре делено в Уставе ООН. Что касается запрещения агрессивной войны, которое составляет сердцевину принципа ненападения, то по этому вопросу, по существу, не было существенных разногласий, если, разумеется, не считать тесно связанного с этим вопроса об опреде лении агрессии, который в результате сопротивления западных дер жав стоит на мертвой точке1 2.
Согласованные в Специальном комитете по принципам между народного права пункты, касающиеся содержания принципа запре щения применения силы и угрозы силой в международных отноше ниях, включают, в частности, следующее положение: “Агрессивная война является преступлением против мира, и виновные в нем не сут ответственность согласно международному праву”3.
Однако в Специальном комитете выявилось значительное раз личие позиций государств по второй части содержания принципа ненападения — запрещению применения силы и угрозы силой. Вы явились две линии: линия империалистических держав и их союз ников, имеющая целью сузить понятие запрещения применения силы, и линия социалистических и развивающихся стран, имеющая целью сделать запрещение применения силы в международных от ношениях возможно более широким.
1Доклад Специального комитета по принципам международного пра ва, касающимся дружественных взаимоотношений и сотрудничества госу дарств (далее: Доклад Специального комитета по принципам международ ного права). Док. А/6799. П. 29. Нью-Йорк, 1967.
2Новый советский проект определения агрессии см.: Док. А/АС.134/ L.12 от 25 февраля 1969 г.
Определение агрессии принято Генеральной Ассамблеей ООН 14 де кабря 1974 г. [Рез. 3314(ХХ1Х)]. — Прим, редактора.
3 Доклад Специального комитета по принципам международного пра
Нью-Йорк, 1968. П. 111.
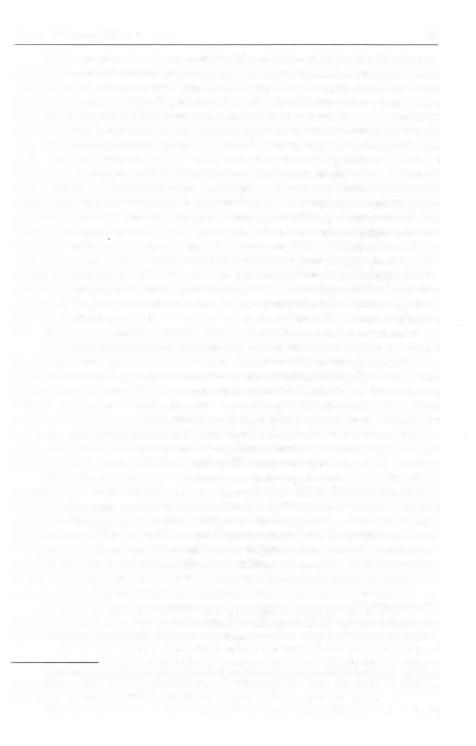
Часть I (Глава III) |
45 |
В Специальном комитете было достигнуто принципиальное со глашение о том, что содержание принципа запрещения применения силы и угрозы силой в международных отношениях включает: зап рещение “применения или использования силы с целью нарушения существующих границ другого государства или для решения меж дународных споров, в том числе территориальных споров и вопро сов, касающихся государственных границ”; запрещение репресса лий, “связанных с применением силы”; запрещение “организации или поощрения организации нерегулярных или добровольных сил или вооруженных банд, в том числе наемников, для вторжения на территорию другого государства”; запрещение “участия в граждан ской войне и террористических действиях в другом государстве”. Не было достигнуто соглашения, в частности, о том, включает ли этот принцип “обязанность воздерживаться от применения экономичес кого и политического давления или любых других форм давления против политической независимости или территориальной целостно сти государств”; по вопросу об определении понятия “сила”; о зап рещении “применения силы против народов зависимых террито рий”; о праве народов зависимых территорий применять силу “про тив колониального господства”1.
Главной причиной трудностей в работе Специального комитета по этому вопросу, несомненно, является позиция западных держав, с самого начала выступавших против разработки кодификации ос новных принципов международного права. Вместе с тем в вопросе о более конкретном формулировании положений, касающихся зап рещения применения силы и угрозы силой в международных отно шениях, есть и ряд объективных трудностей, связанных со сложно стью самого вопроса, затрагивающего очень разные и многочислен ные аспекты отношений между государствами.
Принцип ненападения в том виде, в каком он определен поста новлениями Устава ООН, — принцип общего международного права. Свыше 120 государств в настоящее время являются членами Орга низации Объединенных Наций1 2. Другие государства, которые еще не допущены в ООН, неоднократно в той или иной форме заявляли, что они признают принципы Устава ООН как обязательные в отно шениях между всеми государствами. Поэтому указанные принципы, в том числе принцип ненападения, должны, несомненно, рассматри ваться как общепризнанные принципы международного права.
Нельзя поэтому согласиться с теми буржуазными юристами, которые полагают, что постановления Устава ООН являются лишь принципами “партикулярного международного права”, в отличие от
1 Доклад Специального комитета по принципам международного права. Нью-Йорк, 1968. П. 111; по вопросу о понятии силы см.: Левин Д. Б. Поня тие силы по Уставу ООН // СГП. 1968. № 8. С. 68—74.
2 На конец 1999 г. — 190 государств (прим, редактора).

46 |
Теория международного права |
общего международного права. Исходя из этой предпосылки они не редко делают вывод об отсутствии в современном общем междуна родном праве нормы о запрещении применения силы в междуна родных отношениях. Например, профессор Кельсен, рассматривая приведенные ранее постановления Устава ООН относительно зап рещения применения силы как относящиеся к “праву Объединен ных Наций”, заявляет, что “общее международное право не запре щает использования силы или войны и что, следовательно, в соот ветствии с общим международным правом любое государство может прибегать к войне, если оно полагает, что его права были наруше ны другими государствами”. “Общее международное право, — гово рит Кельсен, — уполномочивает государство, то есть отдельного члена международного сообщества, в случае нарушения его прав прибегать к репрессалиям или к войне против государства, которое ответственно за такое нарушение”1.
В другой работе Кельсен утверждает: “Если репрессалии и войну — типичные меры самопомощи — не рассматривать в каче стве правовых санкций, потому что минимум централизации пред ставляет основной элемент права, то социальный порядок, который мы называем общим международным правом, не может рассматри ваться как право в подлинном смысле слова”1 2.
Итак, согласно Кельсену, международное право не может су ществовать без войны. Отсюда неизбежен вывод, что если оно зап рещает войну, то тем самым подрывает свою собственную основу. К этому абсурдному выводу можно было прийти, только следуя по пути доведенного до крайности формализма.
Нельзя согласиться также с теми буржуазными авторами, ко торые недооценивают значения этого важнейшего принципа совре менного международного права. Так, аргентинский профессор Море но Кинтана в своем курсе международного права хотя и говорит о Парижском пакте 1928 г., пересказывая его положения, но в работе нет ни слова о том, что Парижский пакт представлял важный этап в формировании общепризнанного принципа международного права, запрещающего агрессивную войну. Морено Кинтана лишь пессими стически отмечает, что “отсутствие санкций для тех, кто нарушит этот пакт, лишало указанный документ всякой “эффективности”3.
1Kelsen Н. Collective Security and Collective Self-Defence under the Charter of the United Nations // AJIL. Vol. 42 (1948). P. 783.
2Kelsen H. Principles of International Law. P. 31. См. также: Guggen heim P. Les principesde droit international public // RdC. Vol. 80 (1952). P. 16
его же. Traite de droit international public. Vol. II. Geneve, 1954. P. 93—94; Quadri R. Diritto intemazionale publico. Palermo, 1956. P. 23; Monaco R Man ale diritto intemazionale. Torino, 1960. P. 421—425.
3 Quintana Moreno L. M. Tratado de derecho internacional. Tomo II. Buenos Aires, 1963. P. 401.

Часть I (Глава III) |
47 |
Такую же тенденцию можно заметить у профессора Ш. Вишера. Он говорит об этом принципе между прочим, заявляя затем: “Для того, чтобы установить эффективный отказ от тесно связанной с ин дивидуалистической концепцией суверенитета прерогативы права на войну, необходимо нечто большее, чем подписание конвенций между государствами, какими бы торжественными они ни были”1. Конечно, запретить применение силы еще не означает прекратить применение силы, подобно тому как запрещение убивать людей в национальном праве не означает еще ликвидацию убийств. Но боль шое значение этого принципа международного права неоспоримо.
Современное международное право запрещает государствам прибегать к войне против других государств. Но это, разумеется, не означает, что с появлением принципа ненападения международное право как система норм, регулирующих определенные обществен ные отношения, стало слабее. Несомненно, что международно-пра вовое запрещение агрессивной войны явилось шагом вперед на пути превращения международного права в более эффективное средство укрепления мира. Сила или слабость международного права опре деляется прежде всего его ролью в деле обеспечения мира, разви тия мирного сосуществования государств. И если с запрещением аг рессивной войны международное право впервые в истории повер нулось лицом к миру, то от этого его роль в обеспечении мирного со существования государств возросла, а следовательно, оно стало эф фективнее.
Появившийся в результате активности прогрессивных сил но вый общепризнанный принцип международного права — принцип ненападения имеет огромное значение для обеспечения мирного сосуществования, так как мирное сосуществование означает прежде всего, хотя и не только, отказ от войны, совместное существование в условиях мира.
Принцип мирного разрешения споров, соглас но которому все государства обязаны разре шать свои разногласия только мирными сред ствами, тесно связан с принципом ненападе ния. Оба эти принципа являются в известном
смысле двумя сторонами одной медали. Если государствам запреща ется прибегать к силе в их отношениях с другими государствами, следовательно, и в разрешении споров с этими государствами, то это значит, что остаются открытыми только мирные пути разреше ния споров. С другой стороны, принцип мирного разрешения споров означает, что нельзя использовать силу для их урегулирования.
Но, как видно из указанного сопоставления, принцип ненападе ния является более широким в том смысле, что он запрещает прибе-
1 Ch. de Visscher. Theories et real it & en droit international public. P. 359.

48 |
Теория международного права |
гать к войне, к применению силы в отношениях между государства ми во всех случаях в соответствии с п. 4 ст. 2 Устава ООН. Разуме ется, запрещается прибегать к силе первым, так как применение силы в ответ на нападение было бы уже самообороной.
Принцип мирного разрешения споров развивался параллельно с принципом ненападения. Его не было в международном праве до Великой Октябрьской социалистической революции. Гаагские кон венции 1899 и 1907 гг. о мирном разрешении международных спо ров содержат лишь пожелание “по возможности” воздерживаться от применения силы и прибегать к мирным способам разрешения спо ров. “С целью предупредить, по возможности, обращение к силе в отношениях между Государствами, — говорится в ст. 1 Гаагской конвенции 1907 г., — Договаривающиеся Державы соглашаются при лагать все свои усилия к тому, чтобы обеспечить мирное решение международных несогласий”1. Статья 2 этой Конвенции предусмат ривала обязательство “в случае важного разногласия или столкно вения, прежде чем прибегнуть к оружию, обращаться, насколько по зволят обстоятельства, к добрым услугам или посредничеству одной или нескольких дружественных Держав”2.
Таким образом, согласно Гаагским конвенциям, мирные сред ства разрешения споров не являлись даже обязательной стадией в разрешении споров. Содержащееся в Конвенции обязательство, “прежде чем прибегнуть к оружию”, обращаться к мирным средст вам разрешения споров сводилось, по существу, на нет и превраща лось в простое пожелание оговоркой “насколько позволят обстоя тельства”.
Устав Лиги наций шел в этом отношении значительно дальше. Он содержал определенные элементы принципа мирного разреше ния международных споров, но полностью этого принципа в нем еще не было.
По Уставу Лиги наций обращение к мирным средствам разре шения споров, “могущих повлечь за собой разрыв”, являлось обяза тельным, но применение мирных средств не исключало обращения к силе.
Статья 12 Устава Лиги наций предусматривала, что члены Ли ги будут передавать возникающие между ними споры, “могущие повлечь за собой разрыв”, на третейское разбирательство либо на судебное разрешение, либо на рассмотрение Совета Лиги. “Они со глашаются еще, — говорилось дальше, — что они ни в коем случае не должны прибегать к войне до истечения трехмесячного срока после решения третейских судей, или судебного постановления, или доклада Совета”.
Если спор между членами Лиги, “могущих повлечь за собой разрыв”, не был передан на третейское или судебное разбиратель-
' Международное право в избранных документах. Т. II. С. 247—248. 2 Там же. С. 248.
