
Экзамен зачет учебный год 2023 / Руденко В. Н. – Прямая демократия
.pdf
Руденко В.Н. Прямая демократия
6. Синкретизм власти народных собраний требует отправления членами народных собраний универсальных публичновластных функций, в то время как управленческая деятельность приобретает специализированный характер, углубляется процесс разделения властей. Одновременно обнаруживается все большая несовместимость хозяйственной и публичной деятельности граждан. В то время как занятие публичными делами требует все большего времени, отвлечение от хозяйственной деятельности лишает граждан средств существования. Это способствует тому, что властные функции отправляют не сами граждане, а только отдельные их «представители».
7. В рассмотренных демократиях народных собраний наблюдается противоречие между требованием свободы воли гражданина и необходимостью постоянного решения публично-правовых вопросов. Допущение свободы посещения собраний сообразно настроениям и желаниям граждан, чувству гражданского долга оказывается несовместимым с потребностями общества и только усугубляет «представительный» характер самого народного собрания. Граждане предпочитают уклоняться от работы в собрании. Поэтому во всех народоправствах существовали свои меры принуждения. В частности, в кантоне Нидвальден в 1563 г. был установлен принцип – каждый член совета лично приводит двух участников народного собрания1. В некоторых швейцарских кантонах за непосещение народных собраний взимался штраф. В Афинах при Солоне прогульщики собраний обмазывались киноварью2. Последовавшее введение денежного вознаграждения за участие в работе собрания хотя и позволило решить проблему кворума, но привело к радикализации народного собрания, замещению состава его участников низшими слоями городского демоса3.
Симптоматично, что в трудах ряда специалистов отмечается определенная размытость четких границ между прямой и представи-
1См.: Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии. С. 16.
2См.: Ковлер А.И., Смирнов В.В. Демократия и участие в политике.
С. 69-70.
3См.: Там же. С. 77.
50

Прямая демократия как непосредственное народное правление
тельной формами демократии в истории общества. Хотя М.Ковалевский и замечает, что демократии древности не знали представительного правления, он проводит параллели между народным собранием и представительными органами власти1. По мнению современных историков, римский сенат с самого начала своего существования являлся представительным органом власти, поскольку представлял интересы определенных групп людей (патрицианских родов, курий и др.)2. Как своеобразных представителей «народа» расценивает консулов в итальянских коммунальных республиках В.И. Рутенберг3. В качестве становящихся органов народного представительства рассматривают совет четырехсот, совет пятисот, коллегию десяти стратегов и другие органы власти античных Афин, а также вечевые институты Древней Руси современные исследователи институтов представительства4. Они приходят к важному, на наш взгляд, выводу: «Само представительство как институт развивалось вместе с институтом непосредственной демократии. Более того, элементы представительства и порождались самой непосредственной демократией»5. Таким образом, можно заключить, что система прямого демократического правления в ее реальном воплощении изначально не являлась антитезой правлению представительному. Напротив, независимо от того, в каком месте и в какое время развивалась прямая демократия, она порождала представительное правление изнутри себя. Однако когда речь идет о демократиях прошлого, прямое властвование «народа» оставалось доминирующей стратегией функционирования и развития политико-правовой системы общества. Можно ли распространить данный вывод на системусовременной демократии?
1См.: Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному… Т. 1. С. 10-11.
2См.: Водовозова Т.В. К вопросу о представительном характере и судебной функции сената (VI–IV вв. до н.э.) // IVS ANTIQVVM: Древнее право. 1997. № 1(2). С. 45-46; Маяк И.Л. Рим первых царей. С. 238.
3См.: Рутенберг В.И. Итальянский город от раннего Средневековья до Возрождения: Очерки. Л., 1987. С. 22.
4См.: Белоновский В.Н., Белоновский А.В. Представительство и выборы в России с древнейших времен до XVII века. М., 1999. С. 83-101.
5Там же. С. 115.
51

Руденко В.Н. Прямая демократия
§ 3. Модернистская модель прямой демократии: Новые Афины, или Электронная Республика
Как известно, идея народовластия получает особый импульс в период крушения абсолютизма на рубеже XVIII–XIX столетий. Ее развитие совпадает с процессом становления крупных национальных государств. В этих условиях ограниченность классической модели прямой демократии становится более чем очевидной. Даже такие сторонники народовластия, как Ж.-Ж. Руссо и Т. Джефферсон признают, что прямое народное правление непригодно в масштабах крупных государств. Политики, общественные деятели, мыслители все чаще обращаются к идее представительного правления. Но если для Ж.-Ж. Руссо она была неприемлема в принципе, то Т. Джефферсон был более благосклонен к ней. Он полагал, что представительная демократия – хотя и менее предпочтительная, по сравнению с прямой, но необходимая, в определенной мере вынужденная форма демократического устройства общества. Дж. Мэдисон же вообще не испытывал никаких сомнений в целесообразности введения представительного демократического правления. Представительную демократию в ее американском варианте он считал одним их величайших достижений цивилизации.
С конца XVIII столетия вплоть до нашего времени представительная демократия занимает доминирующее положение в политическом устройстве общества. Однако нельзя сказать, что интерес к идее прямого правления в это время полностью исчезает. Напротив, прошедший двухсотлетний период чрезвычайно богат полити- ко-правовыми проектами переустройства общества, предполагающими реализацию идеи прямого народного правления. К ним можно отнести обстоятельный план бабувистов, согласно которому во Франции предполагалось реализовать федеративную разновидность архаической модели прямой демократии1. В этом же ряду –
1 Согласно проекту в стране должен был быть учрежден институт так называемых «консерваторов» – блюстителей народной воли («conservateurs de la volonte nationale»). Блюстители обязаны наблюдать за тем, чтобы палаты законодательного органа не нарушали своими декретами народной воли. Законодательство, по мнению бабувистов, должно исходить от центрального со-
52
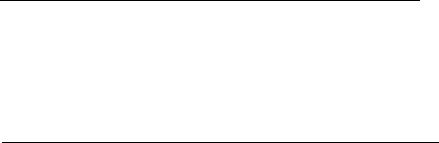
Прямая демократия как непосредственное народное правление
проект русских народников, поставивших своей задачей создание своего рода общинного государства1. К подобным же проектам относится марксистская идея государства-коммуны, изложенная К. Марксом и Ф. Энгельсом в период после 1871 г., а затем развитая в XX столетии Лениным и Н.И. Бухариным2. Как показал Дж. Хелд, и в целом марксистская концепция самоуправления народа является разновидностью теорий прямой демократии3. Сю-
брания законодателей или от собраний граждан. В первом случае собрание законодателей должно передавать на народное голосование свои законопроекты с мотивировкой необходимости их принятия; результаты голосования в каждой общине должны были сообщаться блюстителям,которыеопределяют и сообщают общие итоги голосования по всей стране. Во втором случае каждая община могла выступить с инициативой принятия нового закона или с инициативой отмены старого. Если подобные предложения делает большинство нации, блюстители сообщают об этом собранию законодателей, которое вырабатывает соответствующий проект, выносимый затем на всенародное голосование. (См.: Курти О. История народного законодательства и демократии в Швейцарии.С.58-59).
1В рамках народнической идеи отстаивался проект соединения свободных самоуправляющихся общин в большие группы и соединения групп общин в общем народном «земляном деле» (res publica). Основной акцент делался на развитии народного производства, коллективизма, народной нравственности, обычного народного права и самозаконности (См.: Руденко В.Н. Русский популизм: истоки, смысл, судьба. Екатеринбург: УрО РАН, 1993.).
2Данная идея центрирована на рабочем самоуправлении, призванном заменить старую государственную машину. По мысли В.И. Ленина, на смену парламентаризму должны были прийти «работающие учреждения», в которых в соответствии с Марксом законодательная и исполнительная власть сливается воедино. Функции государственного управления должны быть максимально упрощены. Идеальной моделью нового самоуправленческого государства-коммуны Ленину представлялась почта – органи-
зация, выполняющая распоряжения граждан. По Бухарину все массовые организации становятся самоуправляемыми органами власти (Деев Н.Н. От государства-аппарата к государству-ассоциации // Правоведение. 1990. № 5; Рой О.М., Руденко В.Н. Марксизм в поисках новой модели государства: диктатура пролетариата, государство-коммуна, русская община // Марксизм и Россия. М., 1990.).
3 Д. Хелд акцентирует внимание на следующих ключевых марксистских идеях: переход от всех форм управления и политики к саморегулирова-
53
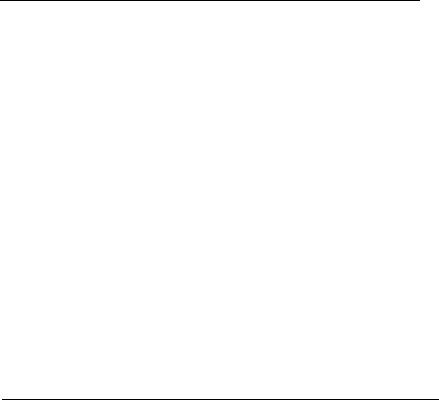
Руденко В.Н. Прямая демократия
да же можно причислить проект самоуправляемого общества, развиваемый Чаяновым в рамках русского кооперативного социализма1, анархо-синдикалистский проект Ж. Сореля, проект «конструктивного социализма» В.М. Чернова2 и др. Во всех перечисленных проектах модель прямой демократии несколько модернизируется. Предложенные модификации предполагают чрезвычайную децентрализацию власти и управления, передачу основных функций органов государственной власти, в том числе и представительных, на места самоуправляемым сообществам граждан. В марксистской концепции эта идея достигает своего апофеоза в теории отмирания государства и политики и в обосновании необходимости перехода к общественному самоуправлению.
Можно отметить, что в целом упомянутые футурологические (в основном политические, а не правовые) проекты не выходят за рамки архаической модели прямой демократии. Они апеллируют к малым общностям граждан, самостоятельно принимающим пуб- лично-властные решения. Символический же по своим функциям государственный аппарат они рассматривают в качестве простого исполнителя народной воли, в услугах которого вообще может не оказаться необходимости. Развитие общества и государства в XX столетии показало утопичность надежд на отмирание политики, государства и его основных учреждений. В связи с этим некоторое
нию; коллективное решение всех публичных дел на основе консенсуса; распределение остающихся административных задач между гражданами путем ротации или выборов; замена всех органов и способов принуждения самоконтролем; исчезновение всех классовых различий; отмена частной собственности; уничтожение рынка, обмена и денег (См.: Held D. Models of Democracy. Cambridge, 1989. P.105-139.).
1По Чаянову общество должно управляться в самых мельчайших своих органах – крестьянских кооперативах – выборными лицами трудящихся под контролем избравших их членов кооператива (См.: Чаянов А. О кооперации. Барнаул, 1989. С.13;Чаянов А.В. Путешествиемоего брата Алексия в странукрестьянской утопии //Онже.Венецианскоезеркало.Повести.М.,1989.).
2Согласно В.М. Чернову, государство и его органы как публичноправовые институты должны быть сближены с такими частно-правовыми самоуправляющимися институтами, как кооперативы и рабочие синдикаты. (См.: Чернов В. Конструктивный социализм. М., 1997. С. 27-41.).
54

Прямая демократия как непосредственное народное правление
время, приблизительно до 60-х гг. XX в., теория прямой демократии переживает кризис. Она не может дать конструктивного ответа на вопрос, каким образом возможно осуществление публичной власти в масштабах современного национального государства. Казалось, что идея общегосударственного народного собрания окончательно себя исчерпала.
Новый поворот в решении рассматриваемой проблемы намечается в середине 60-х – начале 70-х гг. прошлого столетия с началом процесса глубинной трансформации индустриального общества в современное информационное общество. Этот процесс напрямую связан с достижениями в сфере электроники, телевидения, компьютерных технологий. Хотя поначалу теория пыталась игнорировать важные достижения практики, с развитием коммуникативных, информационных технологий проблемы демократии обсуждаются все чаще и чаще. Не только ученые, но и практические политики заявляют об открывающихся возможностях принципиально нового взаимодействия субъектов публичного права, в которое в перспективе могут быть вовлечены граждане и общественные организации, органы власти всех уровней. К концу столетия открывающиеся возможности становятся ориентиром глобальной политики ведущих государств современного мирового сообщества. В частности, государства «большой восьмерки» ставят перед собой задачу обеспечения доступа каждого человека к информационным и коммуникативным сетям, к преодолению разрыва в уровне развития цифровых технологий как внутри отдельно взятых государств, так и между странами1.
В контексте новых технологических и политических реалий идея демократии в целом обретает новое звучание. В теории демократии широкое распространение получает социокибернетический подход. Формируется новое направление теоретических исследований, сфокусированных на феномене электронной демократии («eDemocracy»). Эти исследования затрагивают чрезвычайно большой круг проблем, в том числе и проблемы так называемой электронной демократизации общества, связанной с совершенство-
1 См.: Окинавская Хартия Глобального Информационного общества.
Пункт 9: [WWW–сайт]: http://www.iis.ru/events/okinawa/charter.ru.html.
55

Руденко В.Н. Прямая демократия
ванием деятельности институтов представительной демократии1. Однако крупный сегмент проблемного поля исследований в области электронной демократии посвящен непосредственно вопросам прямого народовластия. В данном случае следует обратить внима-
ние на концепции «теледемократии» и «кибердемократии».
В первом случае внимание исследователей сосредоточено на использовании в выработке публично-властных решений возможностей телефона, кабельного и спутникового телевидения, персональных компьютеров. Данное направление интенсивно развивает-
ся с начала 80-х гг. (T. Becker, B. Barber, A. Toffler, J. Naisbitt, L. Grossman и многие др.), после того как термин «теледемократия» («teledemocracy») был употреблен Тедом Бекером. Идея использования коммуникативных технологий для установления новой модели прямой демократии в это время стала весьма популярной в США. Однако в середине 80-х гг. в ее адрес стали высказываться серьезные скептические замечания, а интерес к ней – угасать. Специалистам становилось ясно, что новые технологии не обеспечивают прямого участия граждан в осуществлении власти. Но в начале 90-х гг. концепция теледемократии переживает настоящий ренессанс, после того как на президентских выборах кандидат в президенты США Росс Перо (Ross Perot) выдвинул в повестку дня идею телевизионных электронных городских собраний (town meetings)2. С развитием мультимедийных каналов эта идея стала интенсивно обсуждаться в США, и уже в середине 90-х гг. Л. Гроссман предрекает трансформацию политической системы США в Электронную Республику (Electronic Republic) с сильными элементами прямой демократии3.
1Электронная демократизация – использование электронных средств связи и информации для более полного информирования органами государственной власти общественности иподдержания связейсобщественностью.
2См.: Hagen M. A Typology of Electronic Democracy[WWW–документ] // htpp:www.uni-giessen.de/fb03/vinci/labore/netz/hag_en.htm.
3Grossman L. The Electronic Republic. Reshaping Democracy in the Information Age. N.Y., 1995. P.92, 161.
56

Прямая демократия как непосредственное народное правление
Во втором случае исследователи фокусируют свое внимание на процессе формирования так называемого киберпространства1 («Cyberspace») – мира виртуального взаимодействия граждан, органов власти и других субъектов частного и публичного права. Интерактивное взаимодействие граждан, общественных организаций и органов власти они рассматривают в качестве одного из основных атрибутов информационного общества. Если теория «теледемократии» явилась реакцией на развитие кабельного телевидения, концепция «кибердемократии» была ответом на становление компьютерных сетей, в частности сети Интернет. Термин «кибердемократия» («Cyberdemocracy») впервые был использован в 1984 г. американским научным фантастом Вильямом Гибсоном (William Gibson), воплотившим в своих сочинениях мечту о «чистой» демократии, понимаемой как правление «самоуполномоченных» граждан2. В настоящее время идея «кибердемократии» получила выражение и развитие в трудах многих ученых (H Rheingold, L. Pal, B. Barber, R. Rhodes и др.). Если поначалу она привлекала внимание главным образом политологов и социологов, то в настоящее время к ней обратились и правоведы. Право киберпростаранства уже стало составной частью международного права. Понятие «кибердемократия» вошло в язык российского государственного права3. Нет сомнения, что с углублением информационной революции совокупность правовых норм, регулирующих отношения в сфере электронной демократии, станет со-
1 По определению эксперта ЮНЕСКО по правовым вопросам Т. ФуентесаКамачо, киберпространство – это новая человеческая и технологическая среда, которая «включает в себя как людей всех стран, культур, языков, возрастов и профессий, так и всемирную сеть компьютеров, взаимосвязанных средствами коммуникативных инфраструктур, которые обеспечивают цифровую обработку и передачу информации. Синонимами «киберпространства» являются «информационное сверхсообщение» («information superhighways») и «инфосфера» (См.: Антонос Г.А. Международ-
ные измерения права киберпространства. The unternational dimuenions of cyberspace law. Aldershot, 2000. Vol.1. 241 p. (Реферат) // Право и инфор-
матизация общества. М., 2002. С. 174-175.).
2См.: Hagen M. A Typology of Electronic Democracy.
3См.: Право и информатизация общества. М., 2002.
57

Руденко В.Н. Прямая демократия
ставной частью конституционно-правовых систем современных демократических государств.
По оценкам специалистов, формирование киберпространства должно оказать существенное влияние на ход современных политических процессов и открыть перспективы принципиально новых путей развития демократии. В частности, Б. Барбер отмечает, что новые технологии являются не только инструментом коммуникации, но и серьезным актором цивилизационного роста. Они влияют на поведение и ментальность граждан, на характер политических институтов. Развитие коммуникативных и информационных технологий задает логику становления новой институциональной системы информационного общества1. Л. Пэл обращает внимание на возможности Интернета, который может служить моделью будущего политического устройства общества2. В интересующем нас аспекте в современных исследованиях речь идет, прежде всего, о разнообразных формах участия граждан в принятии публичновластных решений. Спектр такого участия довольно широк. Это и простой доступ общественности к информации, и интерактивное взаимодействие граждан и органов власти разного уровня. Наконец, это замещение представительных органов власти самоорганизующимися сообществами граждан, как на местном, так и на государственном уровне управления. В связи с обсуждаемыми проблемами, таким образом, вновь актуализировался вопрос о соотношении представительной и прямой демократии. В повестку дня в очередной раз поставлен вопрос о возрождении Афинской агоры. В частности, Барбер задает себе вопрос, не может ли демократия, рожденная в античном мире, продолжить свое существование в современном массовом обществе3.
1См.: Barber B. Three Scenarios for the Future of Technology and Strong Democracy // Political Science Quarterly. Vol. 113. № 4. Winter. 1998-1999. P. 575.
2См.: Pal L. Virtual Policy Networks: The Internet as a Model of Contemporary Governance? [WWW–документ] // http://cad.kiev.ua/inet97/g7/g7_1.htm.
3См.: Barber B. Three Scenarios for the Future of Technology and Strong Democracy. P. 575.
58

Прямая демократия как непосредственное народное правление
Нельзя не признать, что происходящие в современном обществе процессы развития коммуникативных и информационных технологий самым существенным образом сказываются на развитии представлений о дальнейших перспективах демократии, в том числе и прямой. В этой связи можно констатировать свершившийся факт определенной ревизии основных начал и принципов организации прямой демократии в ее архаической модели. Целой плеядой ученых предпринимаются попытки выработки новой модернистской модели прямого демократического правления, максимально адаптированной к реалиям современного общества. Какое же влияние оказывает развитие современных коммуникативных и информационных технологий на представления о модели прямой демократии? В каком направлении развиваются демократические процессы и институты в настоящее время? Какие перспективы для развития гражданского участия открывает информационное общество? Действительно ли имеет место трансформация политических систем, существующих в современных демократических государствах, в систему правления, устроенную по образцу и подобию античных Афин и коммунальных республик раннесредневековой Италии? Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим основные особенности модели прямой демократии, вытекающие из новых концептуальных подходов1.
1. Диджитальная публика – новый субъект прямой демократии?
Развитие новых коммуникативных и информационных технологий позволяет исследователям несколько по-иному взглянуть на качественные характеристики субъекта прямой демократии в
1 Осуществляя реконструкцию модернистской модели прямой демократии, мы будем опираться на работы исследователей, изучающих феномен электронной демократии, в необходимых случаях и на работы авторов, не придающих основного значения влиянию современных электронных технологий на развитие демократии, но основательно изучающих сходные процессы трансформации прямой демократии в современном мире. К ним можно отнести фундаментальную работуЯ. Баджа (См.: Budge I. The New Challenge ofDirectDemocracy. Cambridge, 1996).
59
