
Учебный год 22-23 / Дополнительная литература для чтения / Статья 328 / Косцов и Сирота - возможность взыскания аванса
.pdf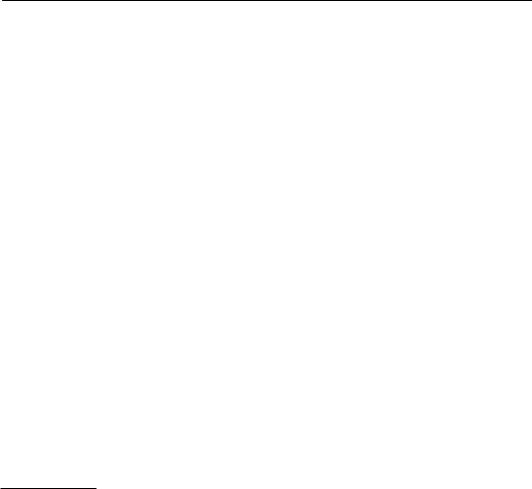
Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2021
то именно эта ситуация (ненужность исполнения в конкретной ситуации), а не авансовый характер оплаты должна быть критерием для ограничения способов защиты, доступных стороне по договору. Принципиальным является не то, имеет ли суд дело с авансом, а то, что одна из сторон отказывается принять исполнение (денежное или неденежное) другой стороны, когда у кредитора есть возможность заключения замещающей сделки.
Неслучайно в связи с этим, что из ст. 2-709 Единообразного торгового кодекса США прямо следует, что данное правило запрещает не иск о взыскании аванса, а иск о взыскании цены товара (независимо от согласованной очередности исполнения), если покупатель не принял товар (т.е. утратил интерес в договоре), а сам товар можно перепродать третьему лицу129. Схожим образом ст. III.-3:301 DCFR
предусматривает, что «если из обстоятельств ясно, что должник по денежному обязательству не будет заинтересован в принятии исполнения, кредитор может тем не
менее продолжить исполнять обязательство и вправе взыскать оплату» при невозможности заключения замещающей сделки (подп. «а» п. 2). Толкование данного правила a contrario позволяет прийти к недвусмысленному выводу: если покупатель (заказчик) утратил интерес в исполнении, а замещающую сделку заключить возможно, то это означает, что его контрагент в принципе не вправе продолжить исполнять свое обязательство (т.е. в том числе поставлять ненужный товар), а не только то, что он лишь временно не вправе взыскивать аванс, но вправе продолжать поставку товара и взыскать оплату позднее, предложив товар к приемке.
Это существенно отличается от складывающегося в России подхода, согласно которому, несмотря на правило о запрете взыскания авансов, например, подрядчик вправе продолжить и завершить работу без аванса («отработав» аванс, превратив его в постоплату) и затем взыскивать денежные средства, поскольку приемка является обязанностью заказчика (ст. 720 ГК РФ)130. Однако это означает, что в Рос-
129Из официальных комментариев к этой статье следует, что она в принципе не регулирует иск об авансе, который в США (в отличие от ст. 49 английского Закона о купле-продаже) находится за рамками соответствующего статута, а с учетом ст. 2-701 Единообразного торгового кодекса регулируется общим правом. См.: Official Code Comment 4 to U.C.C. § 2-709, R.C. 1302.83; Gore A. Sales and Exchanges of Personal Property // Ohio Jur. 3d. 2014. Vol. 81. § 273, 234. При этом в силу общего права подход к авансам аналогичен взысканию постоплаты: взыскание допускается, только если у продавца нет разумной возможности продать товар иному лицу. См.: Williston S. Op. cit. Para. 64:29.
130См.: постановления АС Уральского округа от 16.10.2019 № Ф09-6422/19 («суды пришли к правомерному выводу о необоснованном уклонении покупателя от приемки поставленного товара и неисполнении обязательства по его оплате в установленные договором сроки»); АС Центрального округа от 14.03.2017 по делу № А14-14502/2014 («невыполнение покупателем обязанности по приему и полной оплате переданного товара, послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемыми исковыми требованиями»). Эти судебные акты фактически позволили продавцу навязать покупателю потенциально ненужный товар, что несовместимо с декларируемым применительно к запрету взыскания авансов принципом экономической нецелесообразности втягивания в синаллагму. Как и в случае с авансом, возможно, в этих делах продавцу было бы легче продать товар иному лицу и взыскать с покупателя убытки, а не настаивать на приемке товара конкретным покупателем. Однако суды этот аспект не исследовали, хотя именно такая ситуация — а никак не авансы — является приоритетным предметом рассмотренных выше правил из наднациональных кодификаций и стран общего права. Отказывая во взыскании авансов по причине экономической нецелесообразности навязывания ненужного исполнения, суды не могут одновременно удовлетворять иски о взыскании цены после попытки предоставить собственное исполнение, поскольку эти ситуации вряд ли различаются и их различное решение влечет нарушение принципа равенства.
136

Свободная трибуна
сии исполнитель все же вправе навязать заказчику ненужное ему исполнение, профинансировав исполнение договора своими силами (без взыскания аванса). Следовательно, декларируемая цель правила о запрете взыскания авансов при таком подходе не достигается и, если исходить из парадигмы К. Ллевеллина, экономические ресурсы по-прежнему распределяются неэффективно. Фактически такой подход не защищает заказчика от навязывания ненужного исполнения, а лишь позволяет ему пересмотреть порядок финансирования проекта в нарушение ст. 310 ГК РФ.
Нам представляется, что подход К. Ллевеллина с учетом принципа правового равенства не может быть воспринят только применительно к авансам. Напротив, его имплементация потребовала бы от российского правопорядка пересмотра многих устоявшихся правил, в том числе правил о приемке исполнения как обязанности контрагента (вследствие которых контрагент, предложивший собственное исполнение, вправе взыскать плату, даже если заказчик от приемки отказывается).
Кроме того, думается, что этот подход касается не только денежных обязательств. Например, не должен ли покупатель отказаться от договора и заключить замещающую сделку, если продавец утратил интерес в договоре, а предметом договора являются родовые вещи (такие, как канцелярские товары, которые легко можно приобрести на рынке)? По нашему мнению, эта ситуация во многих случаях мало чем отличается от взыскания авансов. Однако российское право прямо допускает понуждение к передаче родовых вещей по иску об исполнении обязательства в натуре, в том числе путем понуждения продавца к покупке аналогичных товаров на рынке131. Если утрата интереса в договоре при возможности заключения замещающей сделки будет по-разному разрешаться в зависимости от предмета обязательства (деньги или неденежное исполнение) или момента обращения в суд (до готовности исполнить собственное встречное обязательство или после таковой), то речь может идти о нарушении принципа равенства, ведь может получиться, что принципиально аналогичные ситуации, которые объединяются утратой интереса одной из сторон в дальнейшем исполнении договора, разрешаются диаметрально противоположным образом в зависимости от случайных обстоятельств. По крайней мере, для различного разрешения таких ситуаций правопорядку потребовалось бы выработать разумное обоснование.
По нашему мнению, рассматриваемая проблематика имеет отношение не столько к вопросу о взыскании авансов, сколько к пределам применения общей обязанности принять меры к минимизации потерь (принцип митигации, duty to mitigate). Вопрос следует поставить так: распространяется ли принцип митигации потерь только на иск о взыскании убытков либо также на выбор применимого способа защиты? Должна ли потерпевшая сторона (кредитор) выбирать наиболее мягкий по отношению к нарушившей договор стороне способ защиты, отказавшись от договора и заключив замещающую сделку вместо предъявления иска об исполнении в натуре, если это не будет предполагать неразумных усилий?
131См.: абз. 2 п. 23 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».
137

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2021
Именно в таком контексте традиционно обсуждается вопрос о взыскании цены в правопорядках стран общего права, которые склоняются к широкому пониманию обязанности митигации и потому распространяют ее на все аналогичные ситуации, не сводя их только к авансовой оплате132. Напротив, германские правопорядки традиционно смотрят на митигацию узко, считая ее единственным последствием снижение размера взыскиваемых убытков, но не отказ в применении иных способов защиты133. При этом, по мысли континентального права, выбор способа защиты всегда принадлежит самому кредитору, в связи с чем право не может навязывать кредитору убытки вместо договора, учитывая также принцип favor
contractus134.
Различные позиции правопорядков по данному вопросу проявились и при согласовании Венской конвенции. При обсуждении ст. 77 Конвенции (митигация убытков) представитель США (проф. Дж. Хоннольд) внес предложение, согласно которому последствием нарушения обязанности по митигации потерь должно являться
132В связи с этим показательно, что в американской доктрине ограничение на взыскание авансов при возможности заключить замещающую сделку выводится не из существа обязательства выплатить аванс, а из общего принципа, согласно которому «если истец, зная, что ответчик не желает исполнять договор, может снизить расходы ответчика, не лишая самого себя выгод по договору, правопорядок должен ограничить доступный истцу способ защиты соответствующим образом» (Williston S. Op. cit. Para. 64:29). Показательно также, что С. Виллистон прямо проводит аналогию между авансом и обязательством поставить товар: покупатель, не получивший от продавца товар, также не вправе требовать его передачи, если он может заключить замещающую сделку. Более того, он выводит правило об ограничении иска о взыскании авансов именно из ситуаций, касающихся неденежного исполнения, указывая, что «отсутствуют практические или логические причины считать, что подход должен быть иным применительно к той необычной ситуации, когда цена товара уплачивается в качестве аванса, и правовые источники такую разницу не проводят» (Ibid.). Это подтверждает наш тезис: речь должна идти не узко о вопросе взыскания аванса, а о том, есть ли у кредитора по нарушенному обязательству обязанность заключать замещающую сделку и взыскивать убытки (если это возможно), а не настаивать на исполнении договора, независимо от того, идет ли речь об авансе или об ином обязательстве.
133См., напр.: Хубер У. Возмещение убытков вместо предоставления // Вестник гражданского права. 2013. № 6. С. 247–283. В этой статье автор пишет: «Наличие на стороне должника, нарушившего договор, «правомерного интереса», заключающегося в освобождении от договора, не признается законом (исключения, как в § 649 ГГУ, только подтверждают правило)… другими словами, в соответствии с действующим правом у должника нет права освободиться от обязательства по договору посредством возмещения убытков вместо исполнения. Это отличает наше право от Common Law». Таким образом, в отличие от подхода, принятого в США, по традиционному германскому праву у должника нет обязанности расторгать договор и заключать замещающую сделку для снижения убытков другой стороны.
134В связи с этим показательно дело Имперского суда, приводимое У. Хубером, в котором суд указал, что «не допускается ухудшение правового положения стороны, верной договору, посредством неправомерного отказа от договора другой стороны», ведь «учет интересов просрочившего должника не может принудить кредитора, готового принять исполнение, к отказу от требования об исполнении (…) момент времени, когда кредитор перейдет к требованию о возмещении убытков, так же как и вопрос о том, должен ли он вообще произойти, определяются по его свободному усмотрению» (Хубер У. Указ. соч. Раздел 6). Впоследствии, однако, безусловность этого принципа была подвергнута сомнению и в Германии, поскольку в одном деле ВС Германии фактически последовал в качестве исключения подходу общего права, указав, что при явной неразумности сохранения договора в силе судам необходимо «проверять, не мог ли продавец ранее заключить заменяющую сделку и должен ли он был прекратить (расторгнуть) договор», а также то, имела ли нарушившая сторона «интерес в расторжении договора и противостоит ли ему при известных условиях какой-либо интерес продавца, чтобы связывать покупателя договором» (BGH ZIP 1997, 646, 647 f. (цит. по: Хубер У. Указ. соч.)). Однако это решение критикуется в германской доктрине и имеет достаточно исключительные фактические обстоятельства, потенциально граничащие со злоупотреблением правом.
138

Свободная трибуна
не только снижение убытков (как предусмотрено в окончательной редакции ст. 77 Конвенции), но и «соответствующее изменение последствий любого иного способа защиты»135. При этом проф. Хоннольд прямо говорил, что такое изменение необходимо, чтобы предотвратить навязывание покупателю ненужного товара, если у продавца есть возможность продать товар другому лицу и взыскать убытки136. В связи с этим, по мнению представителей США, при утрате покупателем интереса в товаре суд должен иметь право снизить цену, взыскиваемую с покупателя, до разницы между первоначальной ценой и рыночной ценой товара137. В то же время это предложение было отклонено 24 голосами против 8: большинство посчитало, что в таком случае речь будет идти не о снижении цены, а о фактической замене взыскания цены на иск об убытках и о навязывании кредитору расторжения договора в ответ на его нарушение, что нельзя признать допустимым138.
Таким образом, фактически речь идет о противоборстве принципа святости договора (pacta sunt servanda), концептуально важного для континентальных правопорядков, и целесообразности допущения в ряде случаев эффективного нарушения (efficient breach)139. Причем эта проблематика пересекается с иском об исполнении
внатуре лишь частично: хотя в англосаксонских правопорядках обязанность по митигации фактически вшита в условия иска об исполнении в натуре (такой иск допустим, только если убытки не позволят восстановить интерес кредитора, — критерий adequacy of damages), в других правопорядках иск об исполнении в натуре догматически не обусловлен митигацией потерь140. В связи с этим с точки зрения компаративистики и теоретических подходов корректнее обсуждать этот вопрос
вкачестве самостоятельной проблемы допустимости навязанного исполнения и пределов принципа митигации потерь, а не как элемент иска об исполнении в натуре и тем более не как частный вопрос о том, взыскиваются ли авансы.
135Summary Records of Meetings of the First Committee. 30th meeting.
136Ibid.
137Ibid. См. также: Honnold J. Op. cit.
138В комментариях к проекту Конвенции 1978 г. указывается, что «принцип митигации, по-видимому, не обязывает кредитора выбирать способ защиты, который влек бы наименьшие затраты для нарушившей стороны. Исключение из этого вывода, однако, может быть сделано применительно к выбору способа расчета убытков, т.е. между статьями 76 и 76 Конвенции» (см.: UNCITRAL Yearbook VIII, A/ CN.9/SER.A/1977. Р. 161, 59–60. URL: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/ uncitral/en/yb_1977_e.pdf). В связи с этим, видимо, Конвенция заняла, скорее, германский подход, при котором принцип митигации касается только размера убытков, а выбор способа защиты является сферой дискреции кредитора. Однако окно для широкого применения принципа митигации даже по договорам, к которым применима Конвенция, сохранилось с учетом правила ст. 28 Конвенции, согласно которому суд не обязан удовлетворять иск о понуждении к исполнению в натуре, если он не сделал бы это по своему праву (lex fori). При этом в доктрине признается, что ст. 28 Конвенции может таким образом блокировать взыскание цены за товар при рассмотрении спора судом США, если покупатель отказывается его принять или с очевидностью откажется от приемки, а у продавца есть возможность заключить замещающую сделку, поскольку в этом случае суд сможет применить национальный подход к удовлетворению такого иска. См., напр.: Honnold J. Op. cit.
139См.: Birmingham R. Breach of Contract, Damage Measures, and Economic Efficiency // Rutgers Law Review. 1970. Vol. 24. P. 273–292.
140См.: Chappius C. A Comparative Overview on Performance as a Remedy: A Key to Divergent Approaches // Performance as a remedy: non-monetary relief in international arbitration: ASA special series no. 30 / Schneider M., Knoll J., eds. N.Y., 2011. P. 51–91.
139

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2021
Такая постановка вопроса позволяет по-новому взглянуть на проблему взыскания авансов. Во-первых, если вопрос о взыскании авансов рассматривать лишь как часть общей юридической проблемы навязанного исполнения, то становится очевидным, что его нельзя обсуждать абстрактно (взыскиваются ли авансы вообще, а не в той или иной типовой ситуации). В одних случаях заключение замещающей сделки является разумным, в других интерес кредитора не может быть защищен убытками, в связи с чем сохранение договора и взыскание аванса является допустимым. Из этого следует, что общим правилом запрет на взыскание авансов быть не может.
Во-вторых, выводы о допустимости взыскания авансов должны коррелировать с идентичными выводами в других ситуациях, когда правопорядок сталкивается с утратой интереса в исполнении договора. Если в той или иной ситуации правопорядок считает интерес продавца в сохранении договора недостаточно обоснованным по сравнению с необходимостью защиты покупателя от ненужного для него исполнения, то должен отклоняться не только иск об авансе, но и иные иски об исполнении в натуре (в том числе в ситуации, когда исполнение было предложено, но не принято), если не будут установлены разумные причины, почему эти вопросы необходимо разрешать по-разному.
2.4. Понуждение к выплате аванса и понуждение к выдаче кредита: корректна ли аналогия?
Дискуссия о допустимости понуждения к авансированию в российской литературе нередко считается аналогичной обсуждению того, допустимо ли понуждать банк к выдаче кредита по заключенному кредитному договору или в этой ситуации можно только взыскивать убытки. В связи с этим считается, что поскольку ВАС РФ ранее высказывался против понуждения к кредитованию141, то из этой позиции можно вывести и запрет на понуждение к авансированию в иных договорных типах, так как аванс представляет собой форму коммерческого кредита.
В то же время в германском праве, которое в определенной мере является родственным российскому, вопрос о том, можно ли понудить банк к выдаче кредита, в принципе не стоит. Выдача кредита с догматической точки зрения ничем не отличается от любого иного денежного обязательства, в связи с чем такое обязательство подлежит реализации в натуре в силу принципа реального исполнения142.
141См.: п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147; п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65.
142См.: MüKoBGB/K.P. Berger. 8. Aufl. München, 2019. BGB. § 488. Rn. 25, 26. Кроме того, требование к заимодавцу о выдаче кредита можно уступить или заложить (BGH, Urteil vom 29.03.2001 — IX ZR 34/00 (Hamm.)). При этом на практике ситуация, в которой банк, подписав договор кредита, не выдаст денежные средства, является маловероятной: как правило, значимые дела в практике касаются исков цессионариев, получивших требования от заемщиков и пытающихся их реализовать в судебном порядке. В качестве примера можно привести дело, рассмотренное ВС ФРГ в 2004 г. (BGH, Urteil XI ZR 14/03). Цессионарий требовал выплаты кредита от финансового учреждения, а последнее ссылалось на то, что в требовании надлежит отказать, поскольку финансовое учреждение правомерно расторгло договор после произошедшей уступки требования. Хотя в иске в конечном итоге было отказано, основанием для такого вывода стал тот факт, что договор на момент предъявления иска был правомерно расторгнут. При этом допустимость требования о взыскании авансов при наличии действующего договора ВС ФРГ под сомнение не ставил.
140

Свободная трибуна
Единственным ограничением на понуждение банка к кредитованию, как и применительно к обычному авансу, является предвидимое нарушение контрагента, т.е. ситуация, когда перед выдачей кредита имущественное положение должника резко ухудшилось. Именно из этого правила родилась ст. 321 ГГУ, что мы подробно рассмотрели в п. 1.2 выше.
По-видимому, подход о недопустимости понуждения к кредитованию был импортирован в российский правопорядок по аналогии с решением, принятым в странах общего права. В этих правопорядках традиционно понуждение к кредитованию не допускалось со ссылкой на адекватность взыскания убытков для защиты интереса (личность банка не имеет существенного значения, а сам кредит представляет собой достаточно типизированную финансовую услугу, в связи с чем кредитору всегда проще заключить замещающую сделку, чем настаивать на исполнении)143.
В то же время и в странах общего права такой подход применяется только в случаях, когда кредит представляет собой основной предмет договора (loan is the principal transaction)144. В частности, если кредитование является дополнительным к сделке по покупке недвижимости, то иск о понуждении к кредитованию подлежит удовлетворению145. Также можно понудить к кредитованию, когда оно является лишь частью более сложного коммерческого отношения146. Если замещающую сделку заключить затруднительно, например в случае особой цели кредитования, понуждение к кредитованию также допускается (например, на сегодня в общем праве допускается понуждение к выдаче кредита в целях строительства — construction loan)147.
Более того, в ряде правопорядков прямая аналогия между кредитованием и авансированием не проводится. Например, в Англии понуждение банка к выдаче кредита защищается иском о понуждении к исполнению в натуре (specific performance), который применим к неденежному исполнению, а аванс в двустороннем договоре защищается иском о взыскании согласованной денежной суммы (action for agreed price)148, к которому по общему правилу не предъявляются те же высокие требования, включая необходимость доказывания недостаточности взыскания убытков. Более того, как следует из ст. 49 английского Закона о купле-продаже, английское право рассматривает аванс как часть цены договора (action for the price), а не как кредитное обязательство. Такой же подход можно встретить в Австралии: в одном из дел суд указал, что аванс представляет собой «временное предоставление, кото-
143См., напр.: House of Lords, South African Territories Ltd v. Wallington, 1898 WL 11032, [1898] A.C. 309; Supreme Court of Colorado, Leach v. Fuller, 3 June 1918, 65 Colo. 68.
144См.: Rawlings P. Avoiding the Obligation to Lend. Journal of Business Law // J.B.L. 2012. Vol. 2. P. 89–110.
145Ibid.
146Pacific Industrial Corp SA v. Bank of New Zealand [1991] 1 N.Z.L.R. 368.
147См.: Williams J. Specific performance of agreement to lend or borrow money // American Law Reports. 1978. Vol. 82 P. 1116.
148См.: Schwenzer I., Fountoulakis C., Dimsey M. International Sales Law. 2nd ed. Oxford, 2012. Art. 62. Section II.
141

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2021
рое может подлежать обратному взысканию в случае последующего непредоставления встречного исполнения»149, т.е. часть цены, а не вид кредита.
Всвязи с этим мы считаем, что наличие или отсутствие возможности понудить банк выдать кредит не должно напрямую влиять на вопрос о том, можно ли понудить контрагента выплатить аванс, поскольку аванс не является самостоятельным предметом сделки и, более того, является частью цены договора. При этом, поскольку в англосаксонском подходе недопустимость кредитования, по-видимому, фактически следует из широкого понимания принципа митигации, запрет понуждения к кредитованию в России, возможно, был бы не вполне естествен150.
Влюбом случае вывод о применении этого правила, вероятно, должен влечь также запрет навязывания исполнения в других ситуациях, когда кредитору легко заключить замещающую сделку. При этом запрет понуждать выдать кредит также должен знать исключения при его подтверждении в России сообразно англосаксонским правопорядкам.
2.5.Выбор оптимального решения
Поскольку частный вопрос о взыскании авансов, по нашему мнению, нельзя обсуждать в отрыве от общей проблематики навязанного исполнения и пределов действия принципа митигации потерь, эта проблематика выходит за рамки настоящей статьи и требует отдельного исследования. Однако мы изложим предварительные соображения по данному вопросу в качестве приглашения к дискуссии.
Действительно, понуждение к выплате денежных средств фактически означает, что кредитор по денежному обязательству понуждает другую сторону принять свое неденежное исполнение (например, товар), в котором она могла утратить интерес после заключения договора. При этом в ряде случаев такое понуждение повлечет для заказчика экономические потери (например, в виде ненужных ему товаров), которые будут превышать интерес исполнителя в сохранении договора с данным конкретным заказчиком.
Так, можно представить договор купли-продажи канцелярских товаров, по которому покупатель обязался выплатить аванс, а затем утратил интерес в его исполнении и потому нарушил обязанность предоставить авансирование. Может ли
149High Court of Australia, Automatic Fire Sprinklers Proprietary Limited and Another (Appellants) and Watson (Respondent), August 23, 1946 72 CLR 435 (Opinion of Dixon J.).
150Принцип митигации потерь в России закреплен в ст. 404 ГК РФ и касается только убытков (учитывая также его расположение в главе ГК, посвященной ответственности за нарушение обязательства, но не иных способов защиты). Каких-либо иных положений, обязывающих кредитора в обязательстве заключать замещающую сделку, а не настаивать на исполнении договора, ГК РФ также напрямую не содержит, следуя здесь, скорее, германской традиции. Исходя из такого подхода, ряд судов отклоняют ссылки на ст. 404 ГК РФ вне контекста убытков, прямо указывая, что эта статья применима только к случаям ответственности, но не к согласованным в договоре суммам, см., напр.: постановление Девятого ААС от 14.12.2020 по делу № А40-290556/19. Однако встречается и противоположная практика, когда суды приходят к аналогичным ст. 404 ГК РФ выводам, ссылаясь на ст. 10 ГК РФ и даже наднациональные кодификации частного права, см.: решение АС г. Москвы от 25.12.2020 по делу № А40-53586/2020 (решение отменено АС Московского округа, который прямо указал на несогласие с применением судом ст. 404 ГК РФ к согласованным в договоре суммам, не являющимся мерой ответственности).
142

Свободная трибуна
продавец в этой ситуации взыскать авансовую оплату и впоследствии косвенно вынудить контрагента к приемке ненужных ему товаров? Либо разумный продавец в такой ситуации откажется от договора и продаст свои товары другому лицу, более заинтересованному в его исполнении, и взыщет с первоначального контрагента убытки? Видимо, именно о такой ситуации ведут речь сторонники запрета взыскания авансов, когда говорят о том, что взыскание авансов нецелесообразно, поскольку повлечет втягивание контрагента в синаллагму.
Конечно, на первый взгляд с точки зрения классической германской догматики ответ на эти вопросы был бы достаточно простой. Как отмечалось в п. 1 выше, контрагент оказался втянут в синаллагму уже тогда, когда он принял решение заключить договор: в силу генетического аспекта синаллагмы обязательства сторон возникли уже в момент заключения договора и подлежат исполнению в согласованном виде (pacta sunt servanda). Если же покупатель предполагал, что он может утратить интерес в исполнении, то он должен был выговорить себе право на односторонний немотивированный отказ от исполнения договора.
В то же время с экономической точки зрения попытка взыскать аванс в ситуации, когда должник по авансам утратил интерес к исполнению договора и исполнение второй стороны ему еще не передано, действительно, вряд ли была бы разумной. Издержки на просуживание требования о взыскании аванса вместе с издержками контрагента на то, чтобы перепродать ставшее ненужным ему исполнение другому лицу, превышали бы всякие выгоды кредитора от сохранения договора. Более того, подрывалась бы сама идея обменной сделки — получить нечто более ценное для участника сделки в обмен на что-то менее ценное. В связи с этим в условиях развитого рынка и при наличии типового товара, который легко продать путем заключения замещающей сделки, можно предположить, что разумным в данной ситуации было бы не навязывание товара тому, кто его не хочет принимать и оплачивать, а предложение его тому, кто готов его взять, с взысканием убытков (в виде потери в цене) с первоначального контрагента. Иное поведение ввиду отклонения от обычного поведения можно было бы даже признать злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ).
Тем не менее такой подход может быть использован только в виде исключения (при доказанности условий для легкого заключения замещающей сделки) из общего правила о том, что авансы подлежат взысканию151. Обратное общее пра-
151А.Г. Карапетов предлагает схожий подход, указывая, что взыскание авансов в любом случае следует допускать, если «у кредитора нет реальной возможности найти должнику замену, а также если расторжение договора и заключение альтернативного договора с другим контрагентом существенно затруднены» (Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 1038 (авторы комментария к ст. 12 — А.А. Громов, А.Г. Карапетов). Однако для нас ключевым моментом является то, что взыскание авансов должно быть, наоборот, не исключением, а общим правилом, при этом отказ во взыскании аванса должен быть сравнительно редким (сообразно отказу в иске по ст. 10 ГК РФ). Такой подход влияет на распределение бремени доказывания (возможность заключения замещающей сделки должна доказываться ответчиком, а не кредитором, как в случае, если взыскание авансов является исключением), на степень внимания к фактическим обстоятельствам дела, а также на распространенность случаев взыскания авансов в реальности. Последний аспект важен также с учетом того, что в отличие от многих стран общего права, в которых воспринят широкий принцип митигации, в России во многих проектах замещающую сделку совершить невозможно, поскольку российский рынок нередко куда менее динамичен, чем в Англии или в США, а возможности по взысканию убытков в полной мере в России ограничены. Тем более
143

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 11/2021
вило — запрет на взыскание авансов, пусть даже и с исключениями, — был бы равносилен тому, что К. Кромэ называл «неправильно понятые границы защиты частного права»152. Во-первых, при решении таких правовых ситуаций предпочтение должно отдаваться тому решению, которое максимизирует перечень возможных опций для защиты нарушенных прав, а не ограничивает их. Во-вторых, любое ограничение возможных способов защиты требует конкретного обоснования, которое применительно к авансам не усматривается. Насколько вероятна ситуация, когда кредитор будет действовать вопреки собственным интересам, неся судебные расходы на взыскание аванса и впоследствии на передачу контрагенту ненужного исполнения, если у него есть реальная возможность заключить замещающую сделку и взыскать убытки? Не повлечет ли вывод об обязанности расторгать договор и взыскивать убытки игнорирование судами ситуаций, когда у кредитора имеются скрытые от их взора бизнес-причины настаивать на исполнении договора, которые может быть сложно оценить в суде? Не создаст ли подобный подход также стимул для другой стороны использовать невыплату аванса, понимая присущее любому коммерсанту нежелание обращаться в суд, в качестве рычага для недобросовестного ведения переговоров по изменению договора, например путем пересмотра его цены в ходе исполнения?
Думается, что все эти обстоятельства учитывались цивилистической теорией континентального права, которая неслучайно решила, что выбор способа защиты должен быть сферой автономии кредитора, которого нельзя понуждать к отказу от договора. Как правило, только сам кредитор, а не судья может оценить все выгоды от сохранения сделки по сравнению с заключением замещающей сделки и взыскиванием убытков. Это особенно актуально в российских судах, которые не привыкли углубляться в экономические детали ситуации, а разрешают казусы, как правило, по модельным и чрезмерно типизированным лекалам. В то же время подобная методология неизбежно повлечет трудноустранимые ошибки, когда правопорядок будет навязывать кредитору расторжение договора в необоснованных случаях, теряя экономическую выгоду, которую принесла бы его дальнейшая реализация.
Таким образом, по нашему мнению, риски, связанные с активным разрешением проблемы навязанного исполнения, обычно превышают потенциальные выгоды. В большинстве ситуаций имеющиеся экономические стимулы достаточны, чтобы кредитор не обращался в суд с праздными исками, направленными на навязывание контрагенту ненужного исполнения. Если же кредитор выбрал путь взыскания денег по договору (в том числе авансов) и продолжения исполнения договора
неверным, на наш взгляд, представляется навязывать контрагентам нарушивших свои обязательства сторон (должников, не выплачивающих аванс без доказывания предвидимого нарушения и без отказа от договора) расторжение договора и взыскание убытков.
152Crome C. Op. cit. S. 172. К. Кромэ говорил об этом применительно к § 271 Общего земского права прусских государств, из которого следовало, что в отсутствие соглашения о порядке исполнения истец (продавец) должен был доказать факт исполнения собственного неденежного обязательства для получения права взыскать оплату. Он также считал, что необходимость представления таких доказательств может следовать только из возражений ответчика, поскольку в обратном случае суд по своей инициативе бы защищал частный интерес ответчика, что не соответствует природе судебной власти в гражданском процессе. Думается, что и в российском праве нередко суды могли бы решить проблемы с собственной загруженностью, более корректно проводя пределы частной автономии и оставляя некоторые вопросы, в том числе о взыскании авансов, на обоснование самим сторонам.
144

Свободная трибуна
(несмотря на все судебные, репутационные и иные издержки, связанные с навязыванием исполнения контрагенту), то следует презюмировать, что он действует разумно (ст. 1 ГК РФ) и, проанализировав ситуацию, заключил, что убытки не покроют его интерес в договоре или будут недостаточными. Исключения из этой презумпции должны подлежать доказыванию с учетом конкретных обстоятельств дела и должны быть достаточно редкими.
В связи с этим показательным является дело Палаты лордов White and Carter v. McGregor, в котором рассматривался иск о взыскании платы за размещение рекламы. Реклама была размещена истцом, несмотря на возражения ответчика о том, что в рекламе он более не заинтересован. Ответчик заявлял, что поскольку он уведомил истца о потере интереса в договоре до того, как истец предпринял какие-ли- бо шаги по исполнению договора, то должен был заключать замещающую сделку и взыскивать убытки, но не имел права продолжать исполнение. Большинством голосов (три голоса против двух) Палата лордов отменила судебные решения, которыми в иске было отказано, сочтя необоснованными возражения ответчика об обязанности истца митигировать свои потери. Члены Палаты лордов установили, что заявление ответчика об утрате интереса в услугах влекло существенное нарушение договора и, действительно, давало право истцу отказаться от него. Однако, по мнению большинства членов Палаты лордов, истец не обязан был реализовывать это право, а вправе был настаивать на продолжении исполнения договора, поскольку принцип митигации касается размера убытков, но не может превращать право на отказ от договора в обязанность. При этом лорд Холсон особо отметил, что ему жаль, что ответчик «обременил себя ненужным ему договором и, видимо, зря потратил время и деньги», однако поскольку в договоре согласована выплата денежной суммы, она подлежала взысканию независимо от данных обстоятельств. Отклоняя ссылки на принципы справедливости, Палата лордов также указала, что «иной подход фактически означал бы введение в правопорядок новой доктрины справедливости, по которой сторона должна придерживаться условий договора, только если суд в конкретном случае решит, что это разумно. В такой ситуации иск о взыскании денежного долга фактически стал бы способом защиты, реализуемым по усмотрению суда»153.
Конечно, одновременно в этом деле было выработано потенциальное исключение, когда кредитор все же может быть обязан заключить замещающую сделку и взыскивать убытки. В частности, если «доказано, что лицо не имеет никакого правомерного интереса, финансового или иного, исполнять договор, а не взыскивать убытки, он обязан не докучать другой стороне путем возложения на нее дополни-
153House of Lords, White and Carter Councils Ltd v. McGregor, 6 December 1961, [1962] 2 W.L.R. 17. Это дело сегодня рассматривается в качестве основного прецедента по применимости к иску о взыскании денежных средств (который традиционно рассматривается как часть общего права, а не как подвид иска по праву справедливости об исполнении в натуре — specific performance) критерия адекватности убытков (adequacy of damages), используемого в иске об исполнении в натуре. В результате английский правопорядок склонился к тому, что истцу по иску о взыскании денежных средств не требуется доказывать, что убытки не смогут защитить его интерес, и выбор способа защиты по общему правилу принадлежит именно самому кредитору. См.: Burrows A. Principles of the English Law of Obligations. Oxford, 2016. Para. 4-173, 4-174. Конечно, с учетом того, что это дело было решено лишь простым большинством голосов (3 голоса против 2), оно иногда вызывает критику в Англии и иногда отмечаются попытки судов искусственно преодолевать обязательную силу этого прецедента путем поиска distinguishing features. Однако в целом этот прецедент остается действующим правом в Англии (Ibid. Para. 4-175).
145
