
Учебный год 22-23 / А.В. Егоров - распорядительные сделки
.pdf
ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА
81
рядился в этот момент? Да никакой. Я распоряжусь ей только тогда, когда выберу и выведу ее из стада. Как именно будет происходить этот выбор – вопрос обязательственной сделки. Может быть, право выбора будет у меня (должника), может быть – у кредитора (покупателя). На мой выбор может влиять обязанность передать товар среднего рода и качества (к сожалению, ГК говорит в п. 1 ст. 456 только об обязанности передать товар, предусмотренный договором купли-продажи, и, значит, оставляет открытым вопрос о порядке выбора родовых вещей из их массы, но из существа законодательного регулирования весьма полезно для предсказуемости оборота делать вывод о среднем качестве товара), т.е. я не могу отдать свою самую плохую корову, но и не обязан отдавать лучшую. Но в итоге распорядительная сделка, направленная на передачу права собственности на конкретный объект, состоится только после осуществления подобного права выбора.
3. Даже применительно к продаже индивидуально-определенной вещи продавец изъявляет волю на отчуждение тогда, когда ее передает. Он не повторяет уже изъявленную волю, а именно изъявляет другую волю – на распоряжение этой вещью. У должника должна быть возможность передумать. Он может нарушить обязательство. Более того, у него может быть три или четыре обязательства
вотношении одной и той же вещи. Он исполнит только одно из них. Остальные останутся нарушенными. Вот именно в пользу того, кому он передаст вещь
витоге, он и совершит распорядительную сделку.
4.Исполнение обязательств и распорядительные сделки
Рассмотрим, как понятие распорядительной сделки соотносится с таким институтом, как исполнение обязательства. Наиболее полное исследование отечественной литературы по данному вопросу провел С.В. Сарбаш1.
Есть основания полагать, что «исполнение обязательства» и «сделка» – это разноплановые категории, которые предназначены для выполнения разных задач. Исполнение обязательства – институт обязательственного права, сделка – представленный не только в обязательственном праве институт, критерием выделения которого является вопрос воли и степени влияния воли на возникновение правовых последствий. Одно и то же явление может: а) отвечать признакам сделки, не отвечая признакам исполнения обязательства (например, завещание, зачет, отказ от договора); б) отвечать признакам исполнения обязательства, не отвечая признакам сделки (совершение фактических действий по договору – игра на скрипке, перевозка, передача вещи во владение арендатору2 и др.); в) отвечать признакам и сделки, и исполнения обязательства (передача вещного права или уступка права требования во исполнение заключенной обязательственной
1 Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. С. 27–84.
2 Шапп Я. Основы гражданского права Германии: Учебник / Пер. с нем. М.: БЕК, 1996. С. 87.

ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА № 6 2019 ТОМ 19
82
сделки – договора купли-продажи вещи или купли-продажи имущественного права); г) не отвечать признакам ни того, ни другого. Таким образом, если изображать данные категории на логических кругах Эйлера, получатся два частично пересекающихся между собой круга.
С этой точки зрения можно критически оценить предложение С.В. Сарбаша, сводящееся к тому, чтобы признавать за любым исполнением обязательства характер гражданско-правовой сделки, помещая тем самым логический круг «исполнение обязательства» внутрь логического круга «сделка». «Главное, что объединяет эти действия, – это направленность их на исполнение обязательства и прекращение последнего, а также их характеристика в качестве волевых актов как со стороны должника, так и со стороны кредитора. Наличие этих двух моментов в совокупности с приданием им юридических последствий позитивным правом определенно свидетельствует о том, что перед нами юридические действия»1. «Другим определяющим элементом в характеристике исполнения как сделки является наличие воли на ее совершение, которое выражается в волеизъявлении – действии или воздержании от конкретного действия (действий)»2.
Как представляется, самым слабым местом выстроенной С.В. Сарбашом «сделочной» теории исполнения обязательства является то, что ее автор понимает под волевым актом. Для того чтобы считать нечто сделкой, недостаточно, чтобы взрослый, дееспособный человек в здравом уме и твердой памяти что-то захотел. Он должен захотеть нечто, с чем правопорядок связывает возникновение правовых последствий и за чем правопорядок признает юридическое значение только потому, что субъект этого желает. Иными словами, для совершения сделки нужна правовая воля.
На этот признак справедливо обращает внимание Е.Я. Мотовиловкер: «Думается, что базовый просчет, который допускает С.В. Сарбаш, рассуждая об исполнении обязательства, заключается в следующем: 1) акт сделочного волеизъявления не воспринимается им как специфическое, самостоятельное, чисто юридическое действие, как особая разновидность волевого акта; 2) соответственно, любой совершенный в сфере гражданского права поведенческий акт, который связан с малейшими проявлениями воли, рассматривается автором как волеизъявление. И тогда получается очевидное заблуждение: всякое практическое действие, оформленное договорной обязанностью, называется сделкой»3.
Воля присутствует у человека и тогда, когда он пьет воду, вскапывает огород, идет на работу, обсуждает с приятелем юридический казус и т.п. Большинство действий человек совершает по воле, т.е. относится к ним осознанно и желает их соверше-
1 Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 39.
2 Там же. С. 51.
3 Мотовиловкер Е.Я. Спорные вопросы теории сделок // Вестник гражданского права. 2011. № 4 (СПС «КонсультантПлюс»).

ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА
83
ния. Однако это не означает, что эти действия становятся сделками. Более того, они не становятся сделками и в том случае, если наступают какие-то правовые последствия. Например, человек пьет чужую воду, при этом вода уничтожается как вещь,
авместе с ней уничтожается и право собственности другого лица. Налицо правовые последствия. При этом неважно, желает он их наступления или нет. Они наступят в любом случае: и если желает, и если не желает. Отграничение от сделок не будет проходить и по критерию правомерности/неправомерности. Человек может пить чужую воду (и прекращать право собственности на нее ввиду уничтожения ее как вещи) с согласия ее собственника, т.е. совершать правомерные действия. Это нисколько не изменит наступающие вещно-правовые последствия.
Точно так же не имеет значения, вскапывает ли лицо собственный или чужой огород, действуя по соглашению с его собственником. «Воля на вскапывание» имеется и в первом, и во втором случае, если только человек не находится в состоянии наркотического опьянения, когда ему представляется, что он не копает землю,
ауправляет звездолетом. Но это не означает, что эта воля имеет правовое значение. Ни в коем случае. Ни в первом, ни во втором. Она не становится правовой волей только оттого, что во второй ситуации имеется некоторое правовое отношение, в силу которого субъект обязуется совершить указанное вскапывание огорода. Желает он наступления правовых последствий, не задумывается он о них или активно против них – это никак не влияет на их наступление: обязательство окажется исполнено, если действия будут выполнены в точном соответствии с содержанием обязательства.
Нельзя видеть правовую волю в мытье полов домработницей, в отрицательных обязательствах (не играть на пианино и т.п.), посещении спортивного клуба по абонементу и тому подобных чисто фактических действиях.
Это достаточно тонкий момент, и он не вполне учитывается С.В. Сарбашом и некоторыми иными авторами, которые полагают, что, если услугодатель оказывает услугу и действует осознанно, налицо юридическое действие. Если же услугодатель действует по ошибке, не желая исполнения обязательства, это особый случай. По такой логике получается, что не может быть волевого вскапывания огорода, не направленного на достижение правовых последствий. Однако на эту проблему можно взглянуть и иначе. Нельзя не разделять «волю на вскапывание» (волю к действию, которая, как отмечалось выше, сама по себе не имеет правового значения – такой волей обладают и малолетние дети) и волю на исполнение обязательства (волю на достижение правовых последствий). Это видно из того примера, когда собственник вскапывает собственный огород, не будучи к этому ни перед кем обязанным: воля к вскапыванию есть, воли на исполнение обязательства нет.
Если же их разделять, то нельзя под первой волей (ее можно назвать фактической) понимать вторую (правовую волю). И тогда получается, что вполне могут быть ситуации, когда лицо выполняет какую-либо работу для другого лица по сделке с ним, но никакого правового результата активно не желает. И тем
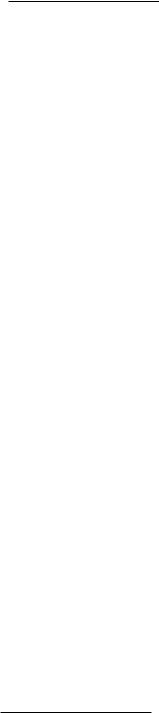
ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА № 6 2019 ТОМ 19
84
не менее результат наступает. И становится понятно, что желание наступления результата не имело значения (см. выше).
Изложенное, хотелось бы надеяться, помогает понять, почему автор настоящей статьи не согласен с высказываниями такого рода: «Исполнение обязательства является правомерным волевым [нет, не в том смысле, который нужен для сделок. – А.Е.] действием, которое влечет прекращение обязанности должника. Следовательно [нет, одно никак не вытекает из другого. – А.Е.], исполнение обязательства является сделкой. Должник, совершая предусмотренное обязательством действие, стремится освободить себя от лежащей на нем обязанности [это не важно, стремится он или нет, могут быть примеры, когда он не будет к этому стремиться. – А.Е.]»1.
Добавим к этому, что сам по себе переход от понятия «юридическое действие»
кпонятию «сделка», который изящно осуществлен С.В. Сарбашом, представляется весьма неочевидным. Существует масса критериев разграничения юридических и фактических действий. Многие авторы, понимая под юридическими действиями такие, которые имеют хоть какое-то значение для права, относили
кчислу юридических действий юридические поступки (переработка вещи, приводящая к изменению собственника; создание авторского произведения, влекущее возникновение исключительного права, и др.). С этой точки зрения можно было бы согласиться с пониманием исполнения обязательства как юридического поступка. Но между юридическим поступком и сделкой пролегает пропасть.
Серьезные затруднения сделочная теория исполнения обязательства должна испытывать по следующему вопросу: как быть с ненадлежащим исполнением обязательства? Оно тоже сделка? Или все-таки нет, так как налицо не соответствующее праву явление? Условно говоря, если музыкант сыграл мелодию строго по нотам, это сделка, а если сфальшивил, то уже нет? Или если по договору купли-продажи передан товар с недостатками, которые обнаружились позже, то это не сделка?
На самом деле уже сама постановка данного вопроса показывает ошибочность смешения двух разноплоскостных понятий.
Исполнение может быть ненадлежащим, а сделкой оно все равно будет, и наоборот. Например, продан товар с недостатками и передана собственность на него, но покупатель не возвращает товар назад (это тоже будет сделка, между прочим), а требует снижения покупной цены. Институты недействительности здесь вообще не будут применимы.
Ксожалению, судебная практика не всегда осознает указанную тонкость даже на самом высоком уровне. Примером является постановление Президиума ВАС от 26 февраля 2013 г. № 12913/12, где суд в целях защиты покупателя признал
1 Гражданское право: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Залесского, М.М. Рассолова. М.: ЮНИТИДАНА, 2002. С. 311 (автор главы – А.И. Косарев). Цит. по: Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 50.

ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА
85
возможность оспаривания действий по исполнению. Договором, заключенным между сторонами в 2004 г., было предусмотрено, что акции переходят в собственность покупателя после оплаты. Платеж по данной сделке поступил через шесть лет по стоимости акций за 2004 г. Продавец подал иск в суд о признании недействительным договора купли-продажи акций, но суды отказали ввиду пропуска исковой давности. Тогда Президиум решил признать недействительным не сам договор, а сделку, направленную на его исполнение (распорядительную сделку), основанием для которой стало злоупотребление правом со стороны покупателя, и тем самым защитил интересы продавца акций. Таким образом, на примере данного дела мы видим, что квалификация действий по исполнению в качестве распорядительных сделок служит дополнительным способом защиты сторон, позволяя оспорить недобросовестные действия сторон, когда нет возможности прибегнуть к другим способам защиты.
Но сам по себе путь, избранный судом, нельзя признать идеально верным. Признавать недействительными не следовало действия по исполнению обязательства. В данном случае переход права был поставлен под отлагательное условие. И это условие, конечно, было ограничено каким-то (подразумеваемым или разумным) сроком. Истечение данного срока привело к тому, что воля на отчуждение акций утратила свое значение. Фактически истечение срока на наступление отлагательного условия должно приводить к тому же последствию, что и наступившая невозможность наступления отлагательного условия, т.е. к окончательной недействительности соответствующей сделки. Но, к сожалению, до тех пор, пока большинство российских ученых отказываются видеть в купле-продаже с оговоркой об удержании правового титула обязательственную сделку купли-продажи и распорядительную сделку передачи собственности на вещь под отлагательным условием ее оплаты1, мы вынуждены искать иные объяснения для достижения того результата, который кажется суду справедливым. В данном случае – оспаривать исполнение сделки. Однако в другом деле суд может взять данную – неправильную – концепцию и, применив ее, получить неправильный – в отличие от данного дела – результат. Этим-то и опасна ошибочная теория в частном праве.
Для того чтобы уметь правильно применять теорию распорядительных сделок, надо сперва научиться их вычленять в общей массе гражданско-правовых сделок.
1 См. убедительную критику такой позиции со стороны А.В. Вошатко: Вошатко А.В. Замечания на книгу С.В. Сарбаша «Удержание правового титула кредитором» // Очерки по торговому праву: Сборник научных трудов / Под ред. Е.А. Крашенинникова. Ярославль: ЯрГУ, 2009. Вып. 16. С. 113–126. Верную правовую квалификацию таким условиям дает А.Г. Карапетов в комментарии к ст. 157 ГК в #Глоссе: Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2018. С. 145.

ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА № 6 2019 ТОМ 19
86
5.Применение общих норм о сделках
краспорядительным сделкам
Многие общие нормы о сделках применимы в отношении распорядительных сделок. Например, это касается нотариальной формы сделок. В частности, если стороны хотят оформить раздел имущества, находящегося в общей долевой собственности по соглашению сторон, они могут заключить это соглашение в нотариальной форме (а в некоторых случаях они даже обязаны это сделать, например, если речь идет о недвижимом имуществе1).
Правила об обязательной письменной форме сделок, совершенных между юридическими лицами и гражданами или свыше определенной суммы (ст. 161 ГК), вполне применимы и в отношении распорядительных сделок. В торговом обороте функцию оформления распорядительных сделок принимают на себя товарные накладные, счета-фактуры, акты приема-передачи, расписки о получении денежных средств и т.п.
Часто эти документы выполняют и доказательственную функцию, т.е. подтверждают совершение фактических действий (реальных актов) по передаче товаров.
В практике судов последних лет все чаще встречаются дела, где суды, признавая исполнение сделкой (о некоторой подмене понятий в данной связи см.
вдругом подразделе настоящей статьи), указывают на необходимость соблюдения при исполнении общих требований о форме сделок2. В частности, в апелляционном определении СК по гражданским делам Оренбургского областного суда от 10 февраля 2015 г. по делу № 33-898/2015 было указано, что поскольку исполнение обязательства является разновидностью сделки (ст. 153 ГК), в отношении исполнения действуют общие правила о форме и последствиях ее несоблюдения. В другом деле было отмечено, что факт возврата займа не может быть подтвержден свидетельскими показаниями; так как исполнение является разновидностью сделки, то при исполнении должны соблюдаться общие правила о форме сделки и последствиях ее нарушения. Иначе говоря, если обязательственная сделка, в данном случае – договор займа, заключена в письменной форме, то и ее исполнение должно быть оформлено письменно, поскольку право должника требовать от кредитора расписку при надлежащем исполнении закреплено
вп. 2 ст. 408 ГК РФ3. Реально можно считать это дело решенным правильно, но с одной оговоркой: передача денег была одновременно связана с распорядительной сделкой, а не просто с исполнением обязательств.
1 Часть 1 ст. 42 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
2 АпелляционноеопределениеСКпогражданскимделамСвердловскогообластногосудаот15апреля 2014 г. по делу № 33-3585/2014.
3 Апелляционное определение Московского городского суда от 4 декабря 2014 г. № 33-38501/14.

ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА
87
На распорядительные сделки вполне распространяется правило ст. 154 ГК
оделении сделок на односторонние и многосторонние. Сделки по передаче права
иустановлению обременения на него чаще всего являются двусторонними (спорны передаточные распоряжения в отношении ценных бумаг – см. ниже), а сделки по прекращению права (отказ от права) часто могут быть и односторонними.
Общие положения о недействительности сделок (ст. 166 и 167 ГК) вполне применимы к распорядительным сделкам: они могут быть как оспоримыми, так
иничтожными. Если они оспоримы, они могут быть подтверждены (одобрены) стороной, их совершившей (п. 2 ст. 166). Если они недействительны, суд может обязать другую сторону возвратить полученное (актуально для распорядительных сделок транслятивного характера, передачи права собственности, уступки права и т.п.).
Нарушение распорядительной сделкой правил законодательства (ст. 168 ГК) или основ правопорядка (ст. 169 ГК) помыслить сложно. Чаще всего закон будет нарушен обязательственной сделкой. Но теоретически, если оборот каких-то объектов будет запрещен и закону будет придана обратная сила, может оказаться ничтожной распорядительная сделка с соответствующим объектом, совершенная во исполнение обязательственной сделки, которая была заключена ранее вступления в силу подобного закона и потому не могущая быть признана недействительной сама по себе.
Тем не менее в качестве примера нарушения распорядительной сделкой прямого запрета закона, приводящего, разумеется, к ее ничтожности, можно назвать попытку выхода участника из ООО, если в данном ООО кроме него не осталось иных участников. Как правильно указал ВС РФ в определении от 11 апреля 2017 г. № 305-ЭС16-14771, односторонняя сделка по выходу участника ООО из общества, которая нарушает положение п. 2 ст. 26 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об
ООО), запрещающее выход участника из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, является ничтожной по п. 2 ст. 168 ГК как противоречащая явно выраженному законодательному запрету.
Вто же время распорядительная сделка вполне может быть мнимой (мнимая уступка, мнимый отказ от права собственности, мнимый выход из ООО и т.п.), а также притворной (прикрывающей иную сделку) (ст. 170 ГК).
И, конечно, к распорядительным сделкам применимы правила о недействительности сделок ввиду пороков дееспособности стороны сделки или ее воли (ст. 171–172, 175–179 ГК). Статья 174.1 ГК прямо придумана для распорядительных сделок. Статьи 173 и 174 ГК рассчитаны на обязательственные сделки, но исключить их применение к распорядительным сделкам нельзя (например, если директор юридического лица за взятку совершает отказ от права залога,
очем другая сторона (залогодатель) прекрасно осведомлена).
Вто же время не все нормы о сделках могут адекватно применяться в отношении распорядительных сделок.

ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА № 6 2019 ТОМ 19
88
Статья 165 ГК о понуждении к государственной регистрации сделки или об исцелении сделки, требующей нотариальной формы, вряд ли может быть применима к распорядительным сделкам, поскольку они не могут «исполняться». Исполнение предполагает наличие обязательственной связи между сторонами, обязательства, которое может быть «исполнено». Распорядительная сделка подобной связи не устанавливает.
Может вызывать вопросы применение к распорядительным сделкам правил ст. 157 ГК об условных сделках. Целый ряд условных сделок не допускает постановки их под условие. Это четко следует из правовой природы зачета, отказа от права собственности. Здесь правовая определенность важнее, чем желание субъекта сделки учесть какие-то сопутствующие обстоятельства. В Германии по той же причине запрещается постановка под условие распорядительной сделки по передаче права на недвижимое имущество. Однако там же возможна постановка под условие распорядительной сделки по передаче права на движимую вещь. Самый распространенный пример – оговорка об удержании титула на вещь до момента ее полной оплаты (это распорядительная сделка под отлагательным условием; при этом договор купли-продажи ни под какое условие не ставится, он безусловно действует).
Как представляется, любые односторонние распорядительные сделки (в том числе преобразовательные) по общему правилу не должны допускаться под условием, поскольку они возлагают на другую сторону неоправданный риск неопределенности ее правового положения. Например, кредитор имеет право на заявление одностороннего отказа от договора (односторонняя преобразовательная/ распорядительная сделка). Он заявляет отказ, но ставит его действие в зависимость от сложно проверяемого обстоятельства. Что происходит в этом случае? Другой стороне приходится долго выяснять, а вступил ли отказ в силу (наступило ли это условие). Это несправедливо.
Есть, конечно, вариант, при котором «простые условия» (вроде своевременной оплаты) будут разрешены, а более сложные – запрещены, но этот вариант не может быть поддержан ввиду практической невозможности разграничить события или действия, которые могут обозначаться как условия действия сделки, на простые и сложные.
Однако в литературе встречается и иной подход. Так, А.Г. Карапетов указывает: «В практическом плане в обороте крайне распространены случаи постановки под условие возникновения, изменения или прекращения отдельных секундарных, обязательственных или иных прав, обязанностей, возражений и т.п. в рамках отношений по сделке… Иногда утверждается, что в такого рода случаях, когда под условие ставится не сделка в целом, а часть ее правового эффекта (например, отдельные права или обязательства), нет повода что-то запрещать, но следует просто избегать использования понятий «отлагательное условие» или «отменительное условие» и, соответственно, необходимо исклю-

ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА
89
чать применение правил ст. 157 ГК РФ к подобным ситуациям. В этом нет никакого смысла. Такое решение просто ни из чего не вытекает, не соответствует европейской традиции частного права и на ровном месте формирует правовой вакуум, отсекая от данного рода частично условных сделок весь массив не только норм законодательства об условных сделках (которых не так много), но и тех правовых позиций, которые вырабатываются в доктрине и судебной практике применительно к отлагательным и отменительным условиям в контексте толкования ст. 157 ГК РФ»1.
Позволим себе усомниться в том, что подобные «условные отказы» «крайне распространены» в обороте. Если бы это было так, то по данному вопросу было бы огромное количество практики. А ее фактически нет. Такие «отказы» правильно рассматривать как предупреждение о будущем отказе и заявлять потом еще один отказ, безусловный. В интересах обеспечения предсказуемости правоотношений в обороте этот вариант представляется наилучшим.
Второй пример. Можно ли отказаться от договора, в котором право на отказ поставлено в зависимость от нарушения другой стороной условий договора, до того, как подобное нарушение будет иметь место? Нам представляется, что это невозможно. Понятно, что вплоть до указанного нарушения у кредитора нет распорядительной власти на совершение отказа от договора. Единственно возможной является следующая модель: у кредитора возникает правомочие (распорядительная власть) отказаться от договора, и он его реализует, заявляя об отказе должнику. Не может арендодатель заранее отказаться от договора аренды с тем, чтобы его отказ вступил в силу на следующий день после того, как арендатор третий раз опоздает внести арендную плату (предположим, такое право предоставлено арендодателю договором аренды). Не могут стороны подобное регулирование («автоматическое» прекращение договора) установить и в самом договоре. Тому несколько причин. Во-первых, как уже упоминалось, все распорядительные сделки должны быть прямо поименованы в законе (санкционированы государством). Стороны не могут придумывать ничего нового. Этого принципа следует придерживаться вслед за германской наукой в целях стабильности, предсказуемости и определенности оборота. Во-вторых, в отечественном праве нет ни одной нормы, которую можно было бы рассматривать как закрепляющую автоматическое прекращение договора в случае того или иного нарушения с одной из сторон.
6. Практический смысл выделения распорядительных сделок
Перечислим тезисно основные прикладные особенности распорядительных сделок, актуальные для российского правопорядка:
1 Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 76–77.

ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА № 6 2019 ТОМ 19
90
1.В ряде случаев распорядительные сделки не следуют автоматически за обязательственными, а являются в каком-то смысле случайными, хоть они вовлекаются в орбиту иного правоотношения, например обязательственного или корпоративного.
Рассмотрим сделку уступки права требования, которая совершается между комиссионером и комитентом в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 993 ГК РФ. Совершенно необязательно, что эта сделка вообще когда-нибудь будет заключена между комиссионером и комитентом, ведь правда? Если третье лицо, которому комиссионер продаст товар комитента, своевременно его оплатит, то право требования комиссионера к нему прекратится исполнением и ему нечего будет уступать комитенту, даже если бы он этого захотел. Таким образом, договор комиссии по общему правилу как раз предполагает его исполнение в отсутствие каких-либо последующих уступок.
Второй пример – распределение имущества ликвидируемого юридического лица среди его учредителей. Мы должны каким-то образом оценивать эту сделку. Какая она? Это договор? Да, конечно, договор. Помимо воли приобретателя имущества (участника) ему нельзя отдать никакой объект. Обязательственный ли это договор? Нет. Никаких обязательств данный договор не порождает. Одно лицо говорит «я отдаю», другое говорит «я принимаю». И все. Таким образом,
вп. 8 ст. 63 ГК РФ описана чистейшая распорядительная сделка, не сопровождающая никакую обязательственную сделку, на которую можно было бы «списать» эффект распорядительной сделки.
2.С 2008 г. Закон об ООО разграничивает между собой договор, устанавливающий обязательство совершить сделку, направленную на отчуждение доли
вуставном капитале ООО, и непосредственно саму сделку, направленную на отчуждение доли.
Если говорить о купле-продаже доли, то договором, устанавливающим обязательство совершить сделку, направленную на ее отчуждение, будет сам договор купли-продажи. В нем стороны согласовывают все существенные условия: доля в уставном капитале какого именно ООО продается, каков размер доли, по какой цене она продается и т.д.
Этот договор не является сделкой, направленной на отчуждение доли. Он лишь устанавливает обязательство совершить ее. Поэтому этот договор называют обязательственной сделкой.
Авот акт передачи доли – он и будет сделкой, направленной на отчуждение доли, которая именуется распорядительной сделкой.
Именно эта распорядительная, а не обязательственная сделка и должна удостоверяться нотариусом, если руководствоваться нормой закона1. Не должен нотариус проверять условия обязательственной сделки.
1 ЗайцевО.Р.ВОООготовитсясделкасдолями.Когданужнообращатьсякнотариусу//Арбитражная практика. 2014. № 9. С. 28; Егоров А.В. Выделение самостоятельной сделки по передаче права. В чем преимущества принципа абстракции // Арбитражная практика. 2015. № 3. С. 63.
