
Учебный год 22-23 / А.В. Егоров - распорядительные сделки
.pdf
ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА
71
вкакой-либо иной сделке или правоотношении. Прототипом каузальных обязывающих сделок являются «взаимные договоры», например купля-продажа, мена, наем, подряд. В них каждая сторона вступает в обязательственное правоотношение для того, чтобы тем самым обязать другого к встречному предоставлению. При помощи своего обязательства передать вещь в собственность покупателя продавец желает обязать последнего к уплате покупной цены, и наоборот. Обязательство другого лица является дополнительным правовым результатом сделки, идущим дальше собственного обязательства и однозначно являющимся целью обеих сторон исходя из содержания сделки. Оправданно понимать под «каузой» или юридическим основанием какого-либо обязательства не столько экономическую цель сделки, которая может простираться слишком далеко, сколько предопределенный содержанием сделки по воле ее участников дополнительный правовой результат, идущий далее собственного обязательства по сделке. В договоре займа, например, указанный дополнительный правовой результат, которого заемщик желает достигнуть вследствие своего обязательства по возврату суммы займа и процентов, заключается во временной передаче ему капитала, в договоре поручительства – в обеспечительной цели. Спорно, в чем он заключается в безвозмездных сделках, таких как дарение, ссуда, безвозмездное хранение1.
Не всегда обязывающая сделка является «каузальной», т.е. включает в себя дополнительный правовой результат, предопределенный собственным вступлением лица в обязательство. Примеры – обязывающее долговое обещание (§ 780 ГГУ), приравненное к нему «конститутивное признание долга» (§ 781 ГГУ), акцепт
ввекселе и составление долговой расписки на предъявителя (§ 793 ГГУ). Абстрактные обязывающие сделки могут совершаться только в виде, допускаемом законом; как правило, они требуют соблюдения особой формы.
Признак распорядительной сделки, именуемый В.В. Бердниковым «самостоятельностью», оказывается достаточно размытым и без дополнительных пояснений также не может быть принят. Строго говоря, на любую сделку можно взглянуть как на самостоятельную, даже на оферту и акцепт, которые, совпадая друг с другом, образуют нечто самостоятельное, двустороннюю сделку, но пока они не совпали, вполне могут существовать по отдельности. С другой стороны, и обязывающие сделки можно охарактеризовать как самостоятельные. Две стороны встретились на рынке и заключили договор купли-продажи товара или одна из них поручилась за третье лицо (должника другой стороны). Как такие сделки можно признать несамостоятельными?! Только если ввести какое-то произвольное дополнительное требование, точнее, определяющее, что понимать под самостоятельностью. Ради чего это делается, понять сложно. Раз обязывающие сделки тоже самостоятельны, то зачем выделять такой признак у распорядительных сделок? Оставим этот вопрос без ответа.
1 Larenz K. Op. cit. S. 328–329.
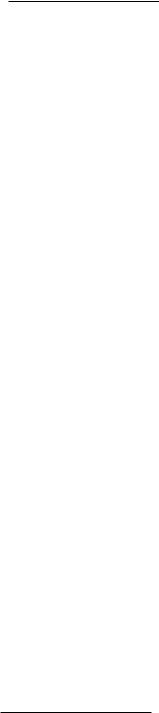
ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА № 6 2019 ТОМ 19
72
Практически те же соображения могут быть высказаны в отношении «бесповоротности». Обязывающий договор купли-продажи бесповоротен? В какомто смысле да, ведь это юридический факт, он состоялся, и признать его несостоявшимся нельзя, можно только аннулировать его эффект. В другом смысле нет, не бесповоротен, ведь можно отменить эффект договора, расторгнув его (как обязательство).
В то же время следует согласиться с В.В. Бердниковым в том, что недопустимо использовать в качестве синонимичных выражения «распорядительная сделка» и «вещный договор», поскольку второй лишь подвид первой.
2.2.4. Уступка права требования
Далее обратим внимание на следующий вид распорядительных сделок – уступку права требования. Как «традиция» переносит право на вещь, так и уступка переносит право требования от правообладателя (цедента) к приобретателю (цессионарию). По сути уступка – самая бесспорная транслятивная распорядительная сделка, поскольку она подробно урегулирована в ГК РФ. В конечном счете и судебная практика согласилась с этим. Начиная с Обзора ВАС РФ по уступке (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации») через постановление Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г. № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» (п. 1) в практике проводится принцип разделения на обязательственную сделку (куплю-продажу имущественного права и т.п.) и распорядительную сделку (уступку права требования).
Особенность уступки может состоять в том, что она может совпадать с обязательственной сделкой в одном документе (п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г. № 54)1. Однако это не мешает ученым видеть две сделки в подобном документе. В тех же случаях, когда продавец имущественного права желает получить деньги авансом и только потом совершать уступку (отдать право требования и тем самым исполнить свое обязательство продавца), у сторон не остается другого варианта, кроме как совершить сначала обязательственный договор купли-продажи и только потом (после платежа) заключать уступку.
В.В. Байбак и А.Г. Карапетов пишут: «…ничто не мешает сторонам договориться о том, что цедент будет обязан совершить отдельное распорядительное волеизъявление в будущем, и тогда обязательственный договор и распорядительная сделка разрываются во времени, и никаких сомнений в том, что здесь имеют место две сделки (обязательственная и распорядительная), ни у кого
1 Бевзенко Р.С. Ответственность цедента за действительность уступаемого права // Корпоративный юрист. 2006. № 9 (СПС «КонсультантПлюс»).

ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА
73
не возникает…»1. Будем надеяться, что так оно и есть на самом деле (отсутствие у кого-либо сомнений) и наша доктрина развивается, хотя 15–20 лет назад сомнений в правовой природе уступки было очень много. А.А. Павлов и С.В. Сарбаш соглашаются с вышеуказанным мнением своих коллег – соавторов комментария2. Тем не менее и другая – самая распространенная и упрощенная – ситуация (когда уступка и купля-продажа сливаются в одном документе) не должна сбивать с толку ни ученых, ни практиков. По сути в одном документе будут представлены две сделки, и это значит, что если недействительность поразит один из ее элементов (например, распорядительную сделку, и, значит, право не сможет перейти к цессионарию ввиду ареста или по причине его отсутствия у цедента), то второй элемент все равно сохранится (в приведенном примере – обязательственный характер купли-продажи права требования, по которому будет возникать ответственность за неисполнение обязательства передать право требования).
Кто высказывался в пользу распорядительного характера уступки? Сторонником квалификации уступки права требования как распорядитель-
ной сделки был М.М. Агарков3. Последовательно в своих публикациях отстаивал взгляд на уступку как абстрактную распорядительную сделку Е.А. Крашенинников4; эта же идея проводится в работах его учеников и последователей (А.В. Вошатко5, Ю.В. Байгушевой6 и др.). На абстрактность уступки и ее характер как распорядительной сделки еще в 2006 г. указывал Р.С. Бевзенко7.
Л.А. Новоселова, рассуждая о правовой природе уступки права требования применительно к Обзору судебной практики ВАС РФ (информационное письмо от 30 октября 2007 г. № 120), приходит к выводу о том, что она является распорядительной сделкой. Она пишет: «Как правило, договор (соглашение об уступке) непосредственно не создает права у приобретателя в отношении подлежащего передаче имущества. Так, заключение договора купли-продажи приводит к возникновению обязанности продавца передать имущество покупателю; у последнего возникает лишь право в отношении продавца. Для исполнения
1 Комментарий к постановлению Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах примененияположенийглавы24ГражданскогокодексаРоссийскойФедерацииопеременелицвобязательстве на основании сделки» // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 2. С. 40.
2 Там же. С. 41.
3 Гражданскоеправо:Учебник / Под ред. М.М.Агаркова,Д.М.Генкина.М.:Юрид.изд-воНКЮСССР, 1944. Т. 1. С. 398.
4 Крашенинников Е.А. Основные вопросы уступки требования. С. 7–10.
5 Вошатко А.В. Договор уступки и каузальная сделка // Очерки по торговому праву: Сборник научных трудов / Под ред. Е.А. Крашенинникова. Вып. 8. С. 32.
6 Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Односторонние и многосторонние сделки // Вестник ВАС РФ. 2012. № 7. С. 30–50.
7 Бевзенко Р.С. Указ. соч.

ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА № 6 2019 ТОМ 19
74
этой обязанности продавец должен передать (с соблюдением необходимых формальностей) имущество покупателю»1.
Для исполнения договора лицо, отчуждающее право требования, должно совершить специальное юридическое действие, составляющее предмет договора. Такое действие совершается посредством сделки цессии (уступки права требования), юридическое значение которой аналогично действию по передаче вещи для исполнения договоров об отчуждении имущества. Иного механизма перемещения имущества в виде не оформленных в ценной бумаге прав требования от одного лица другому не существует. «Специфика этого исполнения, – пишет Е.А. Крашенинников, – заключается в том, что совершаемые действия носят не обычный материально-вещественный, а юридический характер»2. Так, рассматривая отношения, возникающие при передаче права требования в дар, М.И. Брагинский отмечает, что уступка прав требования представляет собой юридико-техническое средство, посредством которого даритель выполняет действия, составляющие предмет договора дарения3. Обобщив мнения ученых по данному вопросу, В.В. Васнев написал в 2006 г.: «В отличие от большинства договоров договор уступки права есть только сделка, но не обязательство. Потому такие характеристики, как возмездность и безвозмездность, реальность и консенсуальность, к нему неприменимы. В отличие от реального договора цессия исчерпывается передачей имущества, не порождает никаких прав и обязанностей для сторон»4.
Совершение распорядительной сделки для исполнения существующего обязательства не является чем-то необычным – такого рода отношения в современном обороте весьма распространены. Нередко сделка цессии и договор, служащий для нее основанием, совершаются одновременно и оформляются единым документом, фактически сливаясь. Но юридически и в этих случаях мы имеем дело с двумя сделками. Например, соглашение может предусматривать, что цедент уступает цессионарию определенное право требования, а последний обязуется передать цеденту такое-то имущество (денежную сумму). Это соглашение о купле-продаже права, совмещенное с актом (сделкой) передачи имущества. Природа названного соглашения сходна с договором купли-продажи материальной индивидуальноопределенной движимой вещи, предусматривающим, что право собственности на нее переходит к покупателю с момента заключения договора5.
1 Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. М.: Статут, 2003. С. 10.
2 Крашенинников Е.А. Допустимость уступки требования // Хозяйство и право. 2000. № 8. С. 7.
3 См.:БрагинскийМ.И.,ВитрянскийВ.В.Договорноеправо.Кн.2:Договорыопередачеимущества. М.: Статут, 2002. С. 342.
4 Васнев В.В. Уступка прав из обязательств, которые возникнут в будущем // Вестник ВАС РФ. 2006. № 10 (СПС «КонсультантПлюс»).
5 Новоселова Л.А. Комментарий к Обзору практики рассмотрения споров, связанных с уступкой права требования // Вестник ВАС РФ. 2008. № 1. С. 8–9.

ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА
75
Задумаемся, какую пользу обороту может оказать правильная теория распорядительных сделок применительно к уступке.
На наш взгляд, здесь можно отметить как минимум один момент. Он посвящен уступке будущих требований. Будущим требованием тоже можно распорядиться. Но когда такое распоряжение вступит в силу? Оно вступит в силу не ранее возникновения соответствующего требования (через «юридическую секунду» после его возникновения), но – внимание! – только при одном немаловажном условии: у отчуждателя на момент наступления юридической силы распоряжения должна иметься распорядительная власть в отношении данного требования. Если вдруг такая власть у него отсутствует (например, он признан банкротом) или он не вправе ее осуществлять (признан недееспособным), то изначальное распоряжение не производит юридического эффекта. Но не является ни оспоримым, ни ничтожным, однако юридической силы не имеет (это третий вид недействительности сделок, увы, прямо неизвестный действующему ГК РФ, но вытекающий из природы вещей)1.
Фактически точь-в-точь данную доктринальную идею повторяет в своей практике ВС РФ. Кратко правовая позиция, сформулированная в определении ВС РФ от 6 октября 2016 г. № 305-ЭС16-8204, может быть сформулирована следующим образом: если после совершения сделки уступки будущего права, но до возникновения самого права и оснований для его перехода цессионарию против цедента возбуждается дело о банкротстве, переход права по такому договору невозможен и соответствующее право оказывается в конкурсной массе цедента.
Таким образом, воля была выражена обладателем права не только на обязательственную сделку купли-продажи права требования, но и на распорядительную сделку уступки, но отсутствие распорядительной власти к моменту перехода права помешало реализации выраженной воли. Причем отсутствие распорядительной власти, конечно, способно поразить юридическую силу у распорядительной сделки. Сама по себе обязательственная сделка купли-продажи права требования останется в силе.
2.2.5. Прощение долга
Еще один институт обязательственного права, который получает характеристику распорядительной сделки, – договор прощения долга2. На примере этой распорядительной сделки стоит разобрать, как работает отсутствие распорядительной власти. Если долг прощает тот, кто не является кредитором, эта сделка является недействительной. Но задумаемся, а почему? Какому закону она про-
1 Подробнее см.: ЕгоровА.В.Залог и банкротство: актуальные вопросы // Несостоятельность (банкротство): Научно-практический комментарий новелл законодательства и практики его применения / Под ред. В.В. Витрянского. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2012. С. 37–39.
2 Крашенинников Е.А. Правовая природа прощения долга // Очерки по торговому праву: Сборник научных трудов / Под ред. Е.А. Крашенинникова. Вып. 8. С. 46–48.

ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА № 6 2019 ТОМ 19
76
тиворечит? Ведь в отличие от права собственности, где хотя бы сказано, что правомочие распоряжения входит в содержание собственности (ст. 209 ГК РФ), и на эту норму можно сослаться, чтобы легально обосновать недействительность распоряжения от несобственника, в обязательственном праве такой общей нормы нет. Тем не менее норму о том, что простить долг может кредитор, следует понимать таким образом, что иные лица таким правом не обладают. Это специальное основание недействительности распорядительных сделок, которое объединяет их всех друг с другом и противопоставляет обязательственным и прочим сделкам.
Второе основание недействительности прощения долга – отсутствие распорядительной власти уже у кредитора (например, если его признали банкротом). Причем в данном случае речь пойдет не об оспоримости такой сделки как сделки в ущерб кредиторам (п. 2 ст. 61.2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), а о ее ничтожности.
2.2.6. Иные авторы
Следующий автор, Ладо Чантурия, один из ключевых разработчиков реформы гражданского законодательства Грузии1, пишет о распорядительных сделках следующее: «Распорядительные сделки в гражданском праве играют большую роль. Их целью является воздействие на уже существующие права – их изменение, передача другим, правовое обременение либо отмена2. Легальная дефиниция распоряжения в ГК Грузии, так же как в гражданских кодексах других стран, отсутствует, однако анализ действующих норм дает возможность выделить следующие виды распоряжений: отчуждение, правовое обременение и отказ от права»3.
Это высказывание важно по целому ряду признаков. Во-первых, оно принадлежит перу не германского ученого и доказывает, что распорядительные сделки знают не только в Германии. Во-вторых, автор рассуждает не только о вещном договоре как распорядительной сделке. Далее по тексту среди примеров распорядительных сделок он называет отказ от права собственности. В-третьих, из него вытекает, что для признания распорядительных сделок не требуется их легальной дефиниции. Поэтому фраза российского учебника о том, что введение распорядительных сделок в ГК РФ «не предполагается», неточна не только потому, что они
1 В.В. Витрянский пишет о нем: «Профессор Ладо Чантурия, будучи одним из известнейших грузинскихцивилистов,обладаетбольшимисолиднымопытомпрактическойработы,вчастности,вдолжности Председателя Верховного Суда Грузии. Он является не только одним из основных разработчиков Гражданского кодекса Грузии и других законодательных актов, но и активным участником подготовки модельногозаконодательствадлястранСНГ»(ВитрянскийВ.В.Несколькослов о книге иееавторе/ЧантурияЛ.Л.Введениевобщуючастьгражданскогоправа(сравнительно-правовое исследование с учетом некоторых особенностей постсоветского права). М.: Статут, 2006. С. 5).
2 Larenz K. Op. cit. S. 322.
3 Чантурия Л.Л. Указ. соч. С. 242.

ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА
77
и так уже есть в ГК, но и потому, что, строго говоря, введения их как самостоятельной категории в закон не требуется для признания их существования.
Процитируем еще некоторые высказывания указанного авторитетного грузинского ученого, описывающие характерные особенности распорядительных сделок: «Распоряжением считаются только такие сделки, которые ставят целью изменение права и непосредственно вызывают такое изменение… Правомочие на распоряжение правом представляет собой составную часть данного права. Эта точка зрения утвердилась в науке гражданского права1, она закреплена и в ст. 147, 152 ГК Грузии2. При рассмотрении понятия распоряжения практическое значение имеет, принадлежало ли данному лицу правомочие на распоряжение правом. Как правило, право распоряжения имеет владелец этого права – собственник либо пользователь. Однако предусмотрены случаи, когда закон отнимает у владельца права правомочие на распоряжение. Примерами такого ограничения служат наложение ареста на вещь либо, при ведении дел о банкротстве, передача права распоряжения управляющему. Распоряжение правом может осуществляться как непосредственно владельцем этого права, так и путем присвоения другим лицам правомочия на распоряжение…»3.
Согласен с тем, что следует разделять обязательственные и распорядительные сделки при отчуждении вещей, М.А. Церковников. Он полагает, что «после принятия ГК РСФСР 1964 г. применительно к российскому законодательству все же по общему правилу следует вести речь о системе каузальной передачи (регистрации на основании договора – применительно к недвижимости по действующему ГК РФ)4.
Таким образом, с точки зрения закона купля-продажа сама по себе не является итоговым актом распоряжения. Она, безусловно, направлена на переход права от продавца к покупателю и обосновывает такой переход. Но само право приобретается по общему правилу посредством иных актов: при передаче или регистрации, для которой продавец и покупатель выражают волю на переход права путем подачи заявления регистратору5.
Кроме того, в пользу действительности продажи чужого говорят уже сами правила об ответственности за эвикцию (ст.ст. 461, 462 ГК РФ). Трудно объяснить их расположение и содержание в Кодексе, если считать весь договор ничтожным…
1 Larenz K. Op. cit. S. 323.
2 Подобную норму содержит и ст. 209 ГК РФ, а также ст. 188 ГК Республики Казахстан.
3 Чантурия Л.Л. Указ. соч. С. 242–243.
4 Об общих чертах этой модели в отношении движимых вещей на примере швейцарского права см.: Steinauer P.-H. Les droits réels. 3e éd. Berne: Stämpfli, 2002. T. 2. P. 263–271.
5 Можно сказать, имеет место удвоение, о котором пишет К.И. Скловский со ссылкой на И.Н. Трепицына (см.: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. М.: Статут, 2010. С. 303). Но надо думать, что сторонники принципа разъединения обязательственной и распорядительной сделок не видят в купле-продаже никакого распоряжения.

ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА № 6 2019 ТОМ 19
78
И самое главное, новая ст. 174.1 ГК РФ не видит полной недействительности даже в договоре о распоряжении имуществом, которое специально запрещено или ограничено»1.
М.А. Церковников соглашается с теми, кто предлагает отказаться от взгляда на куплю-продажу как на распоряжение или этап распоряжения, оставив ей как римскому контракту emptio-venditio чисто обязательственные последствия (впрочем, вероятно, включая характерную для современного права «обязанность перенести право собственности»), а акт распоряжения считать отдельной сделкой, совершаемой на основании и во исполнение купли-продажи, и видит следы этого подхода в правилах об отчуждении доли в обществах с ограниченной ответственностью2, в разъяснениях ВАС РФ об уступке права требования3, а также в новой ст. 174.1 ГК РФ4.
В.В. Ровный приходит к выводу о том, что принцип разделения на обязательственные и распорядительные сделки возможно использовать и в российском гражданском праве, поскольку выделение распорядительных сделок не противоречит существующему определению сделки и даже поддерживается некоторыми нормами гражданского законодательства5.
3. Критика теории распорядительных сделок
Одним из последовательных критиков теории распорядительных сделок является К.И. Скловский. В своих работах (начиная как минимум с 2003 г.) он отстаивает позицию о том, что никакого дополнительного волеизъявления при отчуждении объектов, кроме того, которое входит, по его взглядам, в то, что в Германии называют обязательственной сделкой, не требуется.
1 Церковников М.А. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя. М.: Статут, 2016. С. 42–43, 55.
2 Пункт 11 ст. 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Подробнее см.: Зайцев О.Р. Новая редакция Закона об ООО и антирейдерский закон – работа над ошибками // Закон. 2009. № 11. С. 172–185; Карнаков Я.В. О недостатках и противоречиях нового режима оборота долей в уставном капитале ООО // Вестник ВАС РФ. 2012. № 6. С. 16–57; Иванов С.С. О сделке, направленной на отчуждение доли // Закон. 2012. № 8. С. 130–138. Цит. по: Церковников М.А. Указ. соч. С. 42–43.
3 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации». Об этом разъяснении ВАС РФ см., например: Бевзенко Р. Ответственность цедента за действительность уступаемого права // СПС «КонсультантПлюс»; Горбатов К.А. Абстрактность и каузальность цессии // Вестник гражданского права. 2012. № 3. С. 155–173; Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. М.: Статут, 2003. С. 99. Цит. по: Церковников М.А. Указ. соч. С. 42–43.
4 Церковников М.А. Указ. соч. С. 42–43. 5 Ровный В.В. Указ. соч. С. 58–65.

ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА
79
Приведем несколько цитат: «…переход права собственности является не результатом действия договора как индивидуального соглашения, но результатом действия правопорядка, заранее описанным объективным правом и недоступным воле сторон. Стороны могут лишь выбрать одни из предложенных частных вариантов в рамках предзаданного механизма, не затрагивая его сути (например, увязать момент перехода права собственности не с передачей вещи, а с платежом и т.п.), а воля на отчуждение выражается один раз и навсегда в выборе лицом того договора, которому правопорядок присвоил способность перенести право собственности. После этого выбора воля сторон в части решения об отчуждении не может быть изменена или уточнена (в том числе путем ее вторичного подтверждения), пока существует договор. Мне эти суждения кажутся достаточно очевидными и вполне состоятельными…»1.
На очень многие критические стрелы К.И. Скловского достаточно убедительно ответил Д.О. Тузов, поэтому нам вряд ли стоит подробно повторять те же самые аргументы, тем более что это потребовало бы значительного места в работе. Попробуем это сделать лишь тезисно.
Первое. Позиция о том, что есть одна единая воля в купле-продаже и никакой другой воли не требуется, противоречит всей истории развития частного права на континенте. Что mancipatio, что de lege cessio в римском праве были абстрактными и простейшими распорядительными сделками. Одно лицо отдавало право, а второе его принимало. Поэтому говорить о том, что такого больше нет в российском праве, означает просто рвать со всей традицией его развития, включая советский этап и таких классиков, как М.М. Агарков, И.Б. Новицкий, Е.А. Флейшиц, М.А. Гурвич и др.
Второе. Данная позиция противоречит практическим потребностям оборота. В купле-продаже акций есть передаточное распоряжение, которое оторвано от договора купли-продажи акций, оформляется отдельно и может быть оспорено в самостоятельном порядке. Более того, встречаются дела, в которых суды сохраняют в силе переход права на основании передаточного распоряжения, несмотря на признание недействительными договоров купли-продажи акций, послуживших основаниями для составления передаточных распоряжений (постановление АС Центрального округа от 5 апреля 2019 г. по делу № А48-4764/2017: «Таким образом, с учетом того, что договоры купли-продажи акций ЗАО «ПГ «АЛСИКО» признаны недействительными в связи с не подписанием их продавцом, но имеются подписанные истцом передаточные распоряжения (которые не оспорены и не признаны недействительными), права на акции перешли от истца к покупателям»). Вообще-то такие фразы означают наличие в нашем правопорядке не просто распорядительных сделок, но абстрактных распорядительных сделок.
1 Скловский К.И. Разделение действия сделки: принципы и предрассудки // Aequum ius. От друзей и коллег к 50-летию профессора Д.В. Дождева / Отв. ред. А.М. Ширвиндт. М.: Статут, 2014. С. 149.

ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА № 6 2019 ТОМ 19
80
При отчуждении товарных знаков Роспатент проверяет лишь простейшую сделку: волеизъявление обладателя товарного знака на его отчуждение, обязательственная сделка, на основе которой производится уступка товарного знака, не принимается во внимание. Иными словами, оборот стихийно складывается в том самом направлении, которое не нравится К.И. Скловскому.
Третье. Рассматриваемая позиция может быть адекватной только для одной ситуации, а именно когда продается индивидуально-определенная вещь и собственность на нее передается сразу же, в момент заключения договора куплипродажи. Данную ситуацию можно объяснить тем, что имеет место одна единая воля (К.И. Скловский), а можно тем, что на самом деле воли две, просто они совпадают в едином документе (германская доктрина и многие российские ученые). Какое решение лучше? Ответ на данный вопрос лежит в необходимости нахождения универсального подхода. Правопорядку нужно решение, которое одинаково хорошо будет работать как в простейшем случае (купля-продажа за наличные), так и в более сложных ситуациях: купля-продажа с исполнением обязательства продавцом после оплаты товара покупателем; купля-продажа родовых вещей; купля-продажа с оговоркой об удержании правового титула.
Германское решение является таковым, а позиция К.И. Скловского – нет. Почему «нет»?
1.Потому что она приводит к выводам о недействительности купли-продажи чужого. Тем самым нарушаются интересы покупателя вещи, который лишается иска к продавцу, основанного на действительной обязательственной сделке. Эта эпопея, связанная с многочисленными ошибками судебной практики, потихоньку, после совместных разъяснений ВАС РФ и ВС РФ в 2010 г.1 и их повтора
впостановлении пленума ВС РФ в 2015 г.2, начинает сходить на нет. И не надо эти былые ошибки подпитывать.
2.Потому что она откровенно ошибочна применительно к продаже родовых вещей. Если я обязался передать покупателю мешок пшеницы за 500 руб., то, приходя в свой амбар и насыпая этот мешок или приходя на склад, где уже лежат насыпанные мешки, я выбираю тот мешок, который отдам покупателю, и именно тут проявляется моя воля на распоряжение конкретным объектом. Никакой такой воли на момент заключения договора купли-продажи у меня не было. Тогда я лишь принял на себя обязательство. Я мог вообще не знать, есть ли у меня готовые мешки пшеницы на складе или мне придется их где-то раздобыть. Этот аспект вообще не имеет отношения к обязательственной сделке. Тот же пример – я пообещал кому-то продать одну корову из стада. Какой коровой я распо-
1 Пункт 43, абз. 6 п. 61 постановления Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
2 Пункт 83 постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
