
Учебный год 22-23 / SSRN-id1505368
.pdf
ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА
33
в экономическом смысле слова, т.е. участникам, обладающим тем или иным набором прав по отношению к юридическому лицу, но при управлении организацией в не меньшей степени учитываются также интересы других лиц, с которыми данная корпорация связана и которые тем самым могут оказывать на нее влияние39. Круг таких лиц, которые являются держателями некого «актива влияния» на организацию, может быть чрезвычайно широким40, в него могут входить наемные работники, кредиторы, потребители и коммерсанты из местного для данной фирмы сообщества, а в более широком плане также любые группы влияния, которые так или иначе оказывают воздействие на юридическое лицо41. При подобном понимании «бенефициаров», в интересах которых осуществляется корпоративное управление, внутренняя структура юридического лица может строиться не по модели корпорации (акционерного или иного хозяйственного общества), может избираться организационно-правовая форма, наиболее учитывающая интересы конкретной группы влияния, позиция которой имеет критическое значение для осуществления определенного вида хозяйственной деятельности. При этом наблюдается поразительная картина: лица, обладающие указанным критическим значением и огромным влиянием на деятельность организации, не будучи наделенными формализованными инструментами экономической власти, контроля (акциями, долями в уставном капитале, правом членства или правом голоса42), тем не менее фактически реализуют подобный
39 See, e.g., MasahikoAoki, A Model of the Firm as a Stockholder-Employee Cooperative Game, 70Am. Econ. Rev. 600 (1980); John C. Coffee, Jr., Unstable Coalitions, 78 Geo. L. J. 1497, 1501 (1990); Elaine Sternberg,
Stakeholder Theory Exposed, 2 Corp. Gov. Q. 4 (1996); Margaret M. Blair & Lynn A. Stout, A Team Production Theory of Corporate Law, 85 Va. L. Rev. 247 (1999);David Millon, New Game Plan or Business as Usual? A Critique of the Team Production Model of Corporate Law, 86 Va. L. Rev. 1001 (2000); Rilka O. Dragneva and William B. Simons, Corporate Governance Revisited: Can the Stakeholder Paradigm Provide a Way out of «Vulture» Capitalism in Eastern Europe? 27 Rev. Cent. & East Eur. Law 93 (2001); Margaret M. Blair & Lynn A. Stout,
Director Accountability and the Mediating Role of the Corporate Board, 79 Wash. U. L.Q. 403 (2001); LynnA. Stout, Bad and Not-So-Bad Arguments for Shareholder Primacy, 75 S. Cal. L. Rev. 1189 (2002); Stephen M. Bainbridge, Director Primacy: The Means and Ends of Corporate Governance, 97 Nw. U. L. Rev. 547 (2003).
40 Edward R. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, at 53 (Pittman Books Limited, 1984):
определение лица, имеющего долю влияния [stakeholder], может включать в себя любое лицо или группу лиц, влияющих или под воздействием которых может изменяться достижение тех целей, которые преследует корпорация… К примеру, некоторые корпорации вынуждены считать террористические группи-
ровки в качестве групп влияния [stakeholders] – quoted from: Michael C. Jensen, Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, 14 J. Appl. Corp. Fin. 9 n.1 (2001).
41 Так, для НКО, создаваемых с целью сбора и перераспределения средств (благотворительных организаций), широко распространенным является мнение, согласно которому наиболее крупные жертвователи обладают наибольшим влиянием на деятельность подобных организаций, тем самым подобные жертвователи наделяются неким аналогом корпоративного контроля – cf., e.g., Mihir A. Desai and Robert J. Yetman, Constraining Managers without Owners: Governance of the Not-for-Profit Enterprise, NBER Working Paper No. 11140 at 22 (2005), available at: http://www.nber.org/papers/W11140 [25.02.2007].
42 Право голоса вполне обоснованно традиционно рассматривается как проявление контроля – cf., David L. Ratner, Government of Business Corporations: Critical Reflections on the Rule of «One Share One Vote», 56
Cornell L. Rev. 1, 19 (1970).

ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА №3 2007 ТОМ 7
34
контроль иным образом, при этом подобное положение, в общем, устраивает обе стороны – как саму организацию, так и наиболее влиятельных для ее деятельности лиц.
Таким образом, в известных областях экономики имущественный капитал может иметь меньшее значение, чем человеческие ресурсы, иными словами, ценность человеческого капитала [human capital]43 может перевешивать ценность денежного капитала [money capital]44. При подобной ситуации лица, непосредственно участвующие в генерировании денежных поступлений, не являющиеся инвесторами, вкладывающими свои деньги, тем не менее допускаются к распределению доходов от деятельности юридического лица45. Допуск подобных лиц
43 Так называемые нефинансовые инвестиции [nonfinancial investment], выступающие формами проявления человеческого капитала, которые могут предоставляться работниками или менеджерами, в литературе предлагается классифицировать на репутационный капитал [reputational capital], капитал, имеющий значение лишь для определенной компании (компаний) [firm-specific capital], клиентуру [client-specific capital] и, наконец, интеллектуальный капитал [intellectual capital] – cf., WilliamA. Klein, The Modern Business Organization: Bargaining Under Constraints, 91 Yale L.J. 1521, 1536-37 (1982); David B. Wilkins and G. Mitu Gulati, Reconceiving the Tournament of Lawyers: Tracking, Seeding, and Information Control in the Internal Labor Markets of Elite Law Firms, 84 Va. L. Rev. 1581, 1638-41 (1998); G. Mitu Gulati, WilliamA. Klein and Eric M. Zolt, Connected Contracts, 47 UCLA L. Rev. 887, 923-25 (2000); Margaret M. Blair, Ownership and
Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-First Century (Washington, D.C.: The Brookings Institution).
44 При этом нередко отсутствие или недостаток человеческого капитала не может быть заменен денежным капиталом. Так, юридическая фирма, которая остро нуждается в юристе, имеющем особую специализацию, может оказаться неконкурентоспособной на рынке услуг или его сегменте, если она не найдет подобного специалиста. Возможно, что привлечение одного юриста, имеющего огромный опыт в данной области деятельности и глубокие знания, будет иметь бóльший эффект, чем привлечение десяти юристов, не имеющих подобной специализации. Аналогичная картина наблюдается в прочих сферах консалтинга: в образовании, науке, медицине и всех сферах деятельности, где важен «человеческий фактор». В подобных отраслях экономики важны не объемы (денежных) инвестиций, а имеет значение то, кто конкретно осуществляет известный проект. Принимая во внимание, что, как правило, подобные сферы экономики не приносят высокого дохода либо сопряжены с чрезмерным риском (к примеру, венчурные компании в области высоких технологий, науки, медицины), в них возможен лишь один вариант организации бизнеса: либо деятельность осуществляется с привлечением квалифицированных работников, менеджеров, управленцев и они принимают участие (прямо или косвенно) в распределении доходов от подобной деятельности, либо бизнес (хозяйственная деятельность, осуществляемая некоммерческой организацией) не получает дальнейшего развития. Соответственно в подобных областях инвестор скорее согласится на раздел прибыли с работником и тем самым сохранит бизнес, чем откажется от подобного работника и начнет искать ему замену, переплачивая нескольким лицам вместо одного. Таким образом, в подобных сферах экономики работник начинает в известной мере диктовать свои условия работодателю, что входит в противоречие с концепцией прибавочной стоимости Карла Маркса, применимой главным образом лишь в отношении коммерческого сектора экономики. При достижении баланса интересов инвестора и работника в некоммерческом секторе устанавливается известный status quo, который требует особой организационно-правовой формы юридического лица. С достижением экономического равновесия [equilibrium] праву остается лишь дать правовую форму, которой зачастую и выступает НКО.
45 Cf., Henry Hansmann, The Ownership of Enterprise 228 (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1996): «…это, однако, не означает, что некоммерческая организация не вправе выплачивать разумную компенсацию любому, кто отдает ей свой труд или имущество; только чистый доход –

ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА
35
к распределению доходов осуществляется как раз с помощью НКО, создаваемых для осуществления соответствующей деятельности. Следовательно, здесь опятьтаки открывается логика построения законодательства о юридических лицах, вызывающая к жизни форму НКО вообще и разнообразие форм подобных организаций в частности46.
В случае, если степень коммерциализации конкретной НКО достигает такого уровня, когда реальные получатели дохода от деятельности подобной организации готовы пожертвовать преимуществами от ведения хозяйственной деятельности с использованием НКО в обмен на фиксированный корпоративный контроль и стабильность в распределении доходов, для такой деятельности избирается корпоративная оболочка коммерческой организации (в отечественной терминологии – хозяйственного общества), соответственно НКО преобразуется в юридическое лицо другого типа – коммерческую организацию. Однако если ведение хозяйственной деятельности через НКО дает больше благ реальным получателям дохода, чем если бы они осуществляли аналогичную деятельность с использованием коммерческой организации, юридическое лицо сохраняет форму НКО, при этом происходит укрепление контроля над ним со стороны наиболее влиятельных работников и менеджеров, именно их интересы приобретают приоритетное значение при управлении такой организацией47. Соответственно ситуация консервируется и не происходит преобразования некоммерческой организации в коммерческую, при этом позитивное право оказывается не в состоянии каким либо образом изменить подобное положение, в том числе воздействуя на него стимулирующим или дестимулирующим образом.
Указанное выше изложение приводит к заключению, что как в отечественных условиях, так и в сравнительно правовом плане какие либо серьезные ос-
вот что не подлежит распределению. Вместо того чистая прибыль должна быть удержана в самой организации и направлена на финансирование той деятельности, ради осуществления которой была создана такая организация. Как результат подобного «ограничения на распределение» некоммерческая организация по определению не имеет владельцев, то есть лиц, которые бы имели долю как в правах контроля, так и в распределении доходов» (перевод мой. – Д.С.).
46 Множественность форм НКО, типичная не только для отечественного правопорядка, объяснятся не в последнюю очередь наличием различных групп влияния, для учета интересов которых создаются не только специальные виды НКО, но и их подвиды. При этом если провести детальное рассмотрение всех НКО, то можно построить диаграмму, которая бы указывала степень той или иной группы влияния (от отдельных лиц до общества в целом), в интересах которой, собственно, и вводится та или иная форма НКО. Это, конечно, не исключает необходимость систематизации таких организаций на основе понятных и логически выверенных критериев. Между тем, как показывает зарубежный опыт, двумя типичными моделями для всех европейских государств (исключение составляют Великобритания и Ирландия), задающими крайние точки для всего спектра форм некоммерческих организаций, выступает форма ассоциации как договорного образования и форма учреждения, в упрощенном виде понимаемая как обособленное иму-
щество – see, Report, Legal Framework of NGOs in Western European Countries, 2 (2006), available at: www.icnl.org/knowledge/library/index.php [10.02.2007].
47 Edward L. Glaeser, supra note 32 at 4, 29–30.

ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА №3 2007 ТОМ 7
36
нования для ограничения развития некоммерческих организаций48, их взаимопереплетения с коммерческими организациями, в том числе путем недопущения их реорганизаций, отсутствуют. Вместе с тем в области права сказать laissez faire явно недостаточно, в противном случае это может привести к разрушению не только системы законодательства о юридических лицах, но и всего гражданского права. Соответственно что же в таком случае должно сказать законодательство о юридических лицах в части, относящейся к некоммерческим организациям?
Во-первых, определить место таких организаций в системе юридических лиц, для чего следует недвусмысленно обозначить отношение законодателя к назначению подобных организаций. Для этих целей законодатель должен либо последовательно развивать функциональный подход и закономерно прийти к детальному описанию перечня разрешенных видов (сфер) деятельности НКО, а также и закреплению санкций за нарушение установленных ограничений, либо переключиться на экономический подход, сопровождающийся отказом или существенным смягчением целевого критерия и фиксации лишь запрета на распределение прибыли между членами такой организации49.
48 За рамками настоящего рассмотрения остается вопрос о допустимости участия НКО в отдельных сферах народного хозяйства, поскольку это должно определяться не на уровне законодательства, посвященного общим вопросам функционирования юридических лиц, а путем закрепления точечных запретов или ограничений для отдельных видов хозяйственной деятельности. Как правило, подобные ограничения вводятся путем закрепления требования о минимальном размере имущественной обеспеченности деятельности юридического лица в сферах, где государство осуществляет регулирующую политику в форме специального надзора или лицензирования, к примеру в области рынка ценных бумаг или страхования. Однако, как отмечается в экономической литературе, даже такие ограничения могут оказаться избыточными или неэффективными, если на смену им приходит раскрытие информации о реальном имущественном положении лица – see, Steven Shavell, Minimum Asset Requirements, NBER Working Paper No. 9335 at 2, 10 (2002), available at: http://www.nber.org/papers/w9335 [30.10.2006]. Таким образом, в сферах, где государство проводит особую регулирующую политику, к НКО, если они допускаются в соответствующую сферу экономики, будут предъявляться требования по минимальной обеспеченности имуществом (показатели чистых активов и собственных средств) и обязательному раскрытию информации. Там, где участие НКО нежелательно (к примеру, для деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по ведению реестра акционеров или депозитария – см.: Степанов Д. Вопросы теории и практики эмиссионных ценных бумаг // Хозяйство и право. 2002. № 5. С. 87), подобные запреты должны предусматриваться законодательством, посвященным соответствующему виду деятельности. Таким образом, даже с позиций минимальной имущественной обеспеченности развитие некоммерческих организаций не препятствует регулирующей функции государства. Cf., Lakdawalla and Philipson, supra note 28 at 13 (отмечается необходимость отделения проблем, связанных с распространением НКО, от государственного регулирования, которое определяет всю производственную деятельность, осуществляемую такими организациями).
49 В рамках глобального проекта по сравнительному изучению некоммерческого сектора, который был начат еще в 1989 г. и в настоящее время включает изучение НКО уже более 40 государств Европы, Америки и Азии, универсальными критериями для большинства правопорядков являются следующие признаки рассматриваемых организаций: (а) организационное единство, (b) самостоятельное управление делами такой организации,
(c)нераспределение прибыли, (d) частный характер деятельности, (e) добровольность участия – see, Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, and Helmut K. Anheier, Social Origins of Civil Society: An Overview, Working

ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА
37
Во-вторых, как при первом, так и при втором подходе законодатель должен очертить перечень видов деятельности, которыми НКО по тем или иным соображениям заниматься не могут, причем сделать это необходимо предметно: описать не в общих словах, а поименовать конкретные виды деятельности. При функциональном подходе юридико-техническое исполнение поставленной задачи может быть достигнуто a contrario, т.е. путем перечисления всего того, что можно, с закономерным в таком случае запретом всего остального, при этом подобное перечисление позволит, собственно, реализовать в законченном виде функциональный подход. При этом подобное перечисление разрешенных видов деятельности для некоммерческих организаций должно содержаться в гражданском законодательстве, определяющем статус таких организаций. Напротив, при экономическом подходе отдельные виды деятельности, которыми НКО не вправе заниматься, должны найти отражение в законодательных актах, по общему правилу не относимых к гражданскому законодательству: скорее всего подобные ограничения, проистекающие из регулятивных функций и патерналистских вмешательств государства, будут рассредоточены в рамках административного законодательства (лицензирование, разрешения, сертификация, концессии и т.п.).
Наконец, в третьих, если некоммерческая организация в любом случае – вне зависимости от избранного законодателем подхода – предполагает запрет на распределение прибыли среди ее участников, то в законодательстве, определяющем вопросы создания и функционирования таких организаций, должен быть последовательно проведен принцип: если у учредителей (участников, членов – для НКО, основанных на членстве) нет права на участие в распределении прибыли, то закономерно, что по общему правилу они не должны иметь прав на имущество такой организации (обязательственных, например в виде ликвидационной квоты, и тем более вещных, правда, за исключением учреждений, где такие права заложены в самое основание правовой конструкции учреждения), в противном случае запрет на распределение прибыли оказывается неработающим. Раздел имущества НКО между ее членами должен допускаться в исключительных случаях, когда на то есть серьезные политико правовые основания, формализованные в законе. Сюда же следует добавить намеренно небрежное отношение законодателя к вопросам распределения корпоративного контроля: в НКО, основанных на членстве, контрольные полномочия участников должны всячески ослабляться, иначе такие участники будут принимать решения, направленные на фактическое распределение прибыли и раздел организации.
Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no. 38, 2 (2000), available at: http://www.jhu. edu/~ccss/pubs/pdf/cnpwp38.pdf [30.10.2006]. Таким образом, применительно к рассматриваемой проблеме правовой политики можно прийти к заключению, что ограничение на распределение прибыли носит универсальный характер для всех НКО, а критерий основной цели деятельности таковым не является.

ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА №3 2007 ТОМ 7
38
Итак, после определения проблемных вопросов правовой политики можно перейти к позитивному их изложению и обоснованию уже применительно к современному российскому праву.
Возможные направления правовой политики
1. Отношение российского законодателя к некоммерческим организациям и возможный вектор движения правовой политики
При решении первого вопроса, какой подход – функциональный или экономический – взять за основу при развитии правовой политики в данной области, необходимо проанализировать текущее положение, а также оценить возможные последствия для отечественного права от избрания того или иного варианта.
Совершенно очевидно, что нынешнее отношение отечественного законодателя к НКО можно обозначить одним словом – негативное. Проявляется подобное отношение как в вопросах разработанности и «качества» законодательства, посвященного НКО, так и в крайне неприязненном восприятии процессов коммерциализации НКО. При этом подобная тенденция не только не имеет оснований к увяданию, а скорее, наоборот, показывает перспективы к дальнейшему усилению.
В частности, запретительный вектор регулирования НКО – в противовес общему дозволительному и правонаделяющему регулированию, характерному для всего гражданского права, – проявился в ходе недавнего внесения поправок в целый блок законодательных актов Российской Федерации, посвященных некоммерческим организациям50. В результате системного изменения указанного законодательства нормативно-явочный порядок государственной регистрации юридических лиц, который при действующем законодательстве о государственной регистрации юридических лиц приблизился к уведомительному порядку, для НКО фактически был заменен разрешительным порядком.
Так, для НКО в ст. 23.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (далее – ФЗ о НКО) был создан дополнительный – к общему перечню оснований, перечисленных в ГК РФ и в Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – набор оснований для отказа в государственной регистрации таких организаций, а также в государственной регистрации изменений в учредительные документы (ср. п. 1 ст. 23 в системной связи с п. 1 ст. 23.1 ФЗ о НКО). В частности, согласно п. 1 ст. 21.1 ФЗ о НКО
50 Федеральный закон от 11.01.2006 № 18-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 282.

ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА
39
вгосударственной регистрации НКО может быть отказано среди прочего, если учредительные документы такой организации противоречат Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации, если ранее зарегистрирована НКО с таким же наименованием, если необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные ФЗ о НКО, представлены не полностью либо оформлены в ненадлежащем порядке (курсив мой. – Д.С.).
Кроме того, если ранее ГК РФ в п. 1 ст. 50 и вслед за ним ФЗ о НКО в п. 1 ст. 2 закрепляли функциональный (целевой) подход к нормированию НКО лишь общим образом, то отныне указанный подход получил более детальное, процедурное отражение в тексте ФЗ о НКО. Так, в силу п. 3 ст. 32 ФЗ о НКО отныне НКО обязана представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества51. Согласно п. 5 ст. 32 ФЗ о НКО тот же уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием деятельности НКО целям, предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству Российской Федерации, для чего уполномоченный государственный орган наделяется довольно широкими полномочия, в том числе допускающими в случае выявления совершения НКО действий, противоречащих целям, предусмотренным ее учредительными документами, право вынести ей письменное предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца. Наконец,
всилу п. 10 ст. 32 ФЗ о НКО неоднократное непредставление НКО в установленный срок сведений, предусмотренных названной статьей, является основанием для обращения уполномоченного органа или его территориального органа в суд с заявлением о ликвидации такой НКО.
Однако самые «интересные» нормы, появившиеся в связи с указанными поправками, были размещены не в ФЗ о НКО, а в ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 18 ФЗ о НКО любая НКО может быть ликвидирована на основании и в порядке, кото-
51 Требования к формам указанной отчетности в настоящее время содержатся в Приложении № 3 к постановлению Правительства РФ от 15.04.2006 № 212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций» (СЗ РФ. 2006. № 17 (ч. II). Ст. 1869). В частности, в силу указанных требований некоммерческие организации обязаны детально описывать основную деятельность в отчетном периоде (согласно цели и предмету деятельности, определенным учредительными документами), в том числе решавшиеся задачи, виды регулярной деятельности, осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные на конец отчетного периода, с указанием количества, наименований, целей, основных мероприятий, сроков начала и окончания (для каждого мероприятия), количество и состав участников, мероприятия, направленные на достижение уставных целей и задач, детально описывать свою предпринимательскую деятельность, источники формирования имущества, описывать все вопросы внутреннего управления (проведение общих собраний (съездов, конференций), количество участников (членов) на конец отчетного периода, количество проведенных общих собраний (съездов, конференций), наконец, указывать многие иные сведения. Очевидно, что при подобной излишней «зарегулированности» деятельности многим НКО легче вовсе не создаваться, чем осуществлять деятельность в столь формализованных рамках.

ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА №3 2007 ТОМ 7
40
рые предусмотрены ГК РФ, названным ФЗ о НКО и другими федеральными законами. Между тем согласно обновленной версии абз. 3 п. 2 ст. 61 ГК РФ НКО может быть ликвидирована по решению суда помимо прочего при систематическом осуществлении такой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям (курсив мой. – Д.С.). Более грубого проявления совершенно не дифференцированного, особенно в вопросах формализации того, что понимать под деятельностью, противоречащей уставным целям НКО, функционального (целевого) подхода к нормированию деятельности НКО представить крайне сложно.
При этом сложилась парадоксальная ситуация: при неизменном – по крайней мере официально декларируемой неизменности основных принципов государственной регистрации юридических лиц – порядке государственной регистрации коммерческие организации, как и прежде, продолжают создаваться нор- мативно-явочным порядком, а фактически в уведомительном порядке, однако НКО отныне создаются, проходя через такие жесткие требования нормативноявочного порядка, что на деле это означает дачу государством каждый раз соизволения на создание подобных организаций. Понять подобное различие в подходах, если руководствоваться формальными юридическими принципами законодательного регулирования (равенства участников, пропорциональности правовых средств преследуемым целям правового регулирования, легитимности цели), крайне сложно.
Очевидно, что такие различия продиктованы политическими соображениями, оценкой которых здесь заниматься нет никакого желания. Единственное, о чем хотелось бы напомнить, это то, что любое принесение в жертву политике текущего момента базовых принципов права рано или поздно даст о себе знать. Новейшее российское законодательство о НКО, всемерно ограничивающее возможности для создания таких организаций52, особенно с иностранным участием, судя по всему, нарушает базовые права человека, а потому если Россия не собирается встать на путь изоляционизма, подобные ограничения, как это уже случилось с ограничениями на создание религиозных объединений, получат негативную оценку со стороны международных правозащитных организаций и рано или поздно будут провозглашены нелегитимными53.
52 О сложностях, которые созданы на сегодняшний день и далее лишь укрепляются для НКО, говорят уже не только представители таких организаций, но даже деловая пресса (см.: Корня А. Ликвидация правозащитников // Ведомости. 2006 30 янв. С. А2; Она же. Силки для общества. НКО будут больше тратить на бухгалтерию // Ведомости. 2006. 12 апр. С. А2.
53 Согласно ст. 11 Европейской конвенции о защите прав человека каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с другими, при этом осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц.
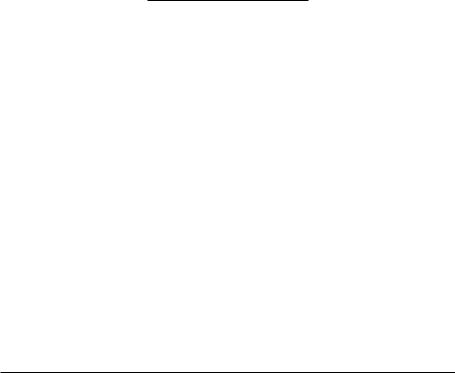
ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО (ГРАЖДАНСКОГО) ПРАВА
41
С позиций общих принципов нормирования НКО российский законодатель совершенно очевидно в настоящее время придерживается функционального (целевого) подхода, причем в свете указанного запретительного вектора правового регулирования названный подход приобретает самые неприглядные, дремучие формы, особенно это видно в ныне закрепленных полномочиях соответствующих органов на обращение с требованием в суд о принудительной ликвидации НКО, если фактически осуществляемая ею деятельность противоречит ранее провозглашенным целям. Подобное полномочие государственных органов – закономерное следствие целевого подхода, достигающее своего финального момента.
Между тем указный подход, особенно в его наиболее жестких проявлениях, уже пытались реализовать в законодательной политике, однако, как показывает исторический опыт, ни к чему хорошему это не приводило, хотя при этом подобный негативный опыт почему-то быстро забывается. Так, в 1874 г. в штате Пенсильвания, США, был принят закон, ограничивающий возможность создания НКО одной или несколькими целями, которые должны быть «законны и не вредоносны для общества»54. При этом в момент создания НКО ее учредителям следовало выбрать ту или иную цель деятельности из перечня, очерченного законом, включавшего в себя пятнадцать возможных целей. Для того, чтобы
По одному из дел, недавно рассмотренных Европейским судом по правам человека, где обсуждался вопрос легитимности введенных Россией в 1997 г. ограничений на создание религиозных объединений, а также об обязательности перерегистрации ранее созданных религиозных организаций и объединений, указанный Суд признал, что Российской Федерацией были допущены нарушения Европейской конвенции о защите прав человека в отношении Московского отделения «Армии спасения». При этом Суд помимо рассмотрения собственно жалобы заявителя сформулировал ряд общих принципов, которые, по его мнению, определяют подходы к созданию и правовому регулированию любых добровольных объединений. Суд, раскрывая содержание приведенной выше ст. 11 Конвенции, указал, что право на создание объединения составляет неотъемлемую часть прав, предусмотренных ст. 11 Конвенции: то, что граждане должны обладать возможностью создавать юридическое лицо с тем, чтобы действовать сообща в области общего интереса, составляет один из наиболее важных аспектов права на свободу объединений, без которого указанное право будет существенно умаляться в любом случае. В свете приведенного, а также прочих указанных Судом общих принципов возможности создания юридического лица с целью действовать сообща в области общего интереса, будучи одним из важнейших аспектов свободы объединений, Суд закономерно пришел к выводу, что отказ национальных органов власти предоставить статус юридического лица объединению физических лиц в конечном счете препятствует заявителю в реализации им права на свобо-
ду объединения (see, Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia, no. 72881/01, 5 October 2006, § 59, 71).
Через полгода Суд повторил аналогичную позицию по другому делу, опять же против Российской Федерации, где было установлено схожее нарушение прав Церкви Сайентологии (see, Case of Church of Scientology Moscow v. Russia, no. 18147/02, 5 April 2007, § 64, 71–75). Иными словами, право на объединение предпо-
лагает возможность получения любым объединением статуса юридического лица, в противном случае, если государственные органы будут решать, предоставлять статус юридического лица объединению или нет, названное право будет нарушено в самом его основании. Указанная правовая позиция является для Суда ключевой по рассматриваемому вопросу (see, Sidiropoulos and Others v. Greece, judgment of 10 July 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-IV, p. 1614, § 40, Gorzelik and Others v. Poland, no. 44158/98, 17 February 2004, § 88).
54 See, William H. Wood, What Are Improper Corporate Purposes for Nonprofit Corporations?, 44 Dick. L. Rev. 264 (1940); Hansmann, supra note 26 at 554.

ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА №3 2007 ТОМ 7
42
вновь создаваемые организации неуклонно соблюдали указанные ограничения, было предусмотрено, что все вновь создаваемые НКО обязаны проходить процедуру одобрения их создания через суд, который решал, вправе та или иная организация начать свою деятельность или нет. Наконец, прокурор штата был приставлен к осуществлению надзора за последующей деятельностью таких организаций, причем если ранее заявленные цели деятельности не соблюдались, то подобная организация могла быть ликвидирована по иску прокурора55. Между тем практика применения указанного закона, о которой американские юристы сегодня предпочитают не вспоминать как о позорной странице своей правовой истории, крайне интересна и поучительна.
Как оказалось на деле, довольно безобидные на первый взгляд критерии «законной и не вредоносной для общества» цели деятельности вовсе не так просты. К примеру, в 1880 г. было отказано в регистрации НКО «Институт электротерапии», уставом которой предполагалось объединение ее членов на профессиональной основе, практикующих лечение электрическими волнами, поскольку для указанной деятельности требовалась «более высокая квалификация»56, между тем на сегодняшний день уже не одно десятилетие подобные методы лечения используются повсеместно. В 1914 г. получила отказ в регистрации Ассоциация хиропрактиков Пенсильвании по причине того, что термин «хиропрактик» не имел законодательного определения, однако сейчас хиропрактика (массаж позвоночника и шеи) – научно признанная область медицины57. В названных и многих других случаях учредители НКО лишались права образования организации лишь потому, что цель создания или деятельности НКО казалась суду противной закону.
Примеры «вредоносных для общества» целей создания НКО еще более занимательны, при этом их количество огромно. Так, в 1983 г. было отказано в получении статуса организации «Русский Американский Защитник», поскольку применявшим закон чиновникам стало очевидно, что «возможная организация будет состоять только из русских, преследующих цели создания и насаждения дисциплины по образцу военной организации»58. Вслед за русскими такая же судьба постигла «Компанию «Д» Ирландских добровольцев», «Певческое общество Германии», «Итальянскую организацию общего блага»59. Иначе как анекдотичным нельзя назвать отказ в создании преследующего социальные цели «Китайского Клуба», случившийся в 1891 г. Основанием для отказа был указан
55 Симптоматично, что в российском законе аналогичное право прокурора было зафиксировано именно в связи с внесением указанных выше поправок (ср. п. 1.1 ст. 18 ФЗ о НКО в действующей редакции).
56 See, Wood, supra note 54 at 265.
57 Id.
58 Id., at 266.
59 Id.
