
Учебный год 22-23 / Второй семестр
.pdf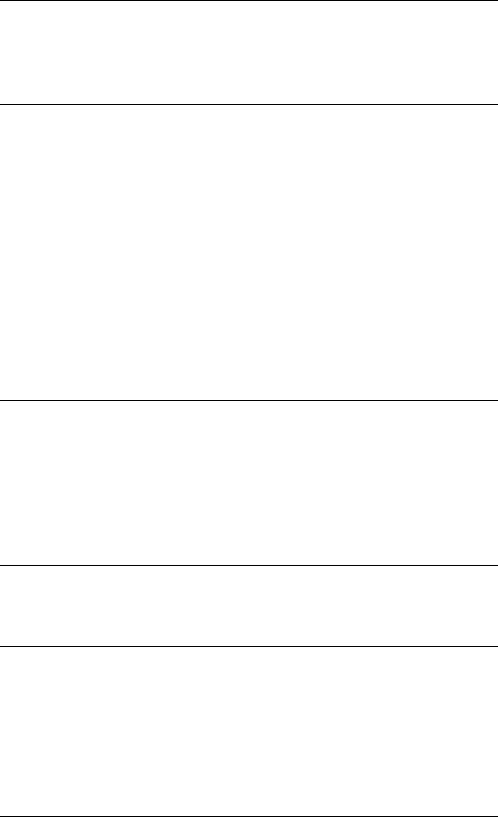
утверждать, как делают некоторые российские юристы, что оно полностью предоставлено, если вещь просто оплачена лизингодателем. Собственно, лизингополучатель ощущает эффект такого финансирования, лишь если пользуется вещью. Поэтому говорить о какой-либо плате или убытках в ее размере, если договор уже прекращен не по вине лизингополучателя, не приходится.
Для потребительского лизинга правило иное: когда договор лизинга заключен с потребителем, если продажа расторгнута или аннулирована, договор лизинга также расторгнут или аннулирован.
Когда лизингополучатель не вносит платежи, часто имеет место расторжение. И наниматель обязан внести часть платежей как неустойку. Он должен вернуть вещь, и продавец обязывается взять ее назад. Если договорная неустойка (даже в форме возмещения за расторжение) чрезмерна, она должна быть уменьшена (ст. 1152 ФГК) <1>.
Когда арендатор находится в банкротстве, продолжение договора может быть навязано лизингодателю, несмотря на полностью обратное условие договора. Если же произошло расторжение, право на прошлые платежи должно быть установлено судебным решением, а возврат вещи может быть осуществлен только по правилам о банкротстве <1>.
3. Цена закрытия сделки
Однобокий подход к квалификации лизинга вряд ли приведет к удовлетворительному результату: иногда нельзя отбросить ни арендный, ни "купле-продажный", ни кредитный элементы, какими бы несовместимыми они ни казались. Любопытно проследить сочетание этих элементов на примере так называемой цены закрытия сделки.
Лизингодателями предъявляются иски о взыскании будущих лизинговых платежей после досрочного расторжения договора лизинга.
Такое требование формально обосновывается условием договора лизинга об обязанности лизингополучателя при досрочном расторжении договора внести часть или вообще всю сумму лизинговых платежей, которые должны были бы быть уплачены, если бы договор не был расторгнут. Причем подобное требование предъявляется наряду с требованием о возврате объекта лизинга лизингодателю.
Содержательное объяснение этого требования, видимо, в том, что лизингодатель совсем не заинтересован в
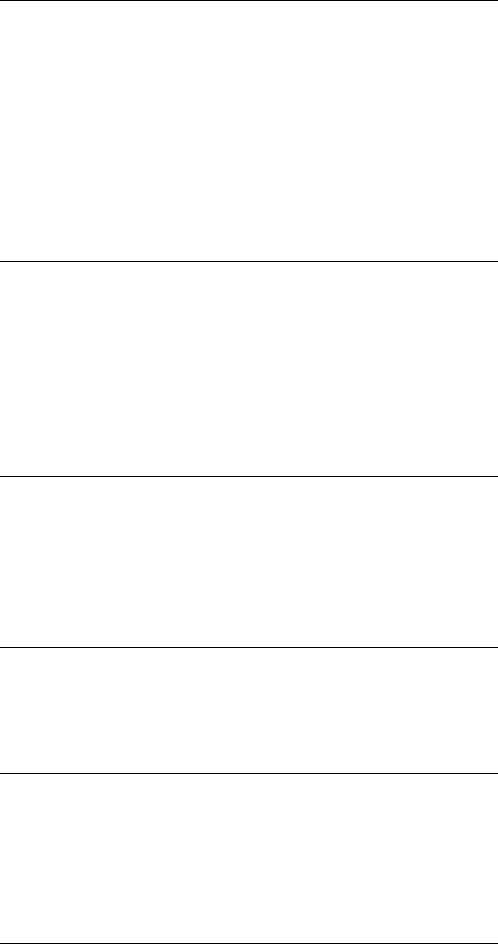
возврате имущества, которое часто больше не передать в лизинг.
Если смотреть на эту проблему формально, с "арендных" позиций, то в силу ст. 625 ГК РФ к отдельным видам договора аренды, в том числе к финансовой аренде (лизингу), применяются общие положения об аренде, если иное не установлено правилами указанного Кодекса об этих договорах. Соответственно, положения иного федерального закона, регулирующие лизинговые отношения, не могут противоречить общим положениям об аренде, предусмотренным ГК РФ. Согласно ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить арендную плату за
пользование имуществом.
В силу п. 3 ст. 28 ФЗ о лизинге обязательства лизингополучателя по уплате лизинговых платежей наступают с момента начала использования лизингополучателем предмета лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга. Это правило вкупе с приведенными выше может быть, видимо, истолковано лишь как допускающее некую отсрочку лизингополучателю, но не как взыскание платы за время, когда вещь возвращена и принята назад лизингодателем.
Можно сделать вывод, что формально внесение лизинговых платежей осуществляется лишь за период пользования лизингополучателем объектом лизинга. Взыскание платы по договору за время, в течение которого пользование не будет осуществляться, недопустимо, поскольку означало бы обогащение лизингодателя без всякого предоставления с его стороны.
В случае если стороны договора лизинга, включая в договор это условие, имели в виду непосредственно внесение платы за будущее время, такое условие должно расцениваться как ничтожное на основании ст. ст. 168, 180, 614 ГК РФ. Впрочем, эта ситуация скорее гипотетическая.
Если же стороны подобным образом установили меру ответственности, направленную на компенсацию убытков лизингодателя, то единственный вариант - квалифицировать это условие как предусматривающее неустойку, которая взыскивается в случае расторжения договора вследствие совершенного лизингополучателем нарушения его обязательств.
В принципе, такой подход вполне допустим и в
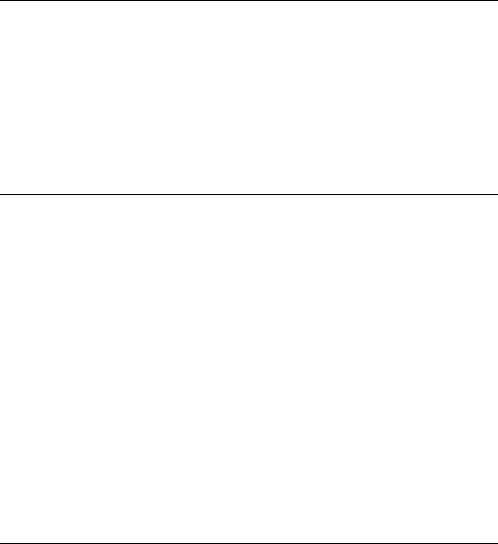
ситуации одностороннего отказа лизингополучателя от договора без всякого нарушения его сторонами. Здесь он как бы "откупается" от договора, но это ни в коей мере не отступное или какая-либо плата: обязательств, которые бы прекращались таким отступным, еще нет. Они возникают постольку, поскольку лизингополучатель имеет возможность, используя предмет лизинга, финансироваться. Прекращая до срока договор, лизингополучатель посягает на интерес лизингодателя в процентах за такое финансирование. Поэтому компенсация направлена на компенсацию расходов, связанных с тем, что вещь будет либо некоторое время не в лизинге, либо продана по невысокой цене.
Если исходить из "кредитной теории", то может показаться, что нужно взыскивать всю сумму, которую лизингодатель уплатил продавцу, профинансировав тем самым лизингополучателя. Однако это будет неверно. Как было указано выше, финансирование здесь не просто в предоставлении займа, а прежде всего еще и в пользовании. Лизингополучатель зарабатывает на платежи, используя предмет лизинга.
Кроме того, если мы посмотрим на лизингодателя просто как на займодавца, то непонятно, почему он имеет в качестве обеспечения право собственности на предмет лизинга, а не залог. Нельзя не напомнить, что обеспечительная уступка права собственности если и допустима, то лишь тогда, когда залог неэффективен или невозможен (например, есть только заклад движимостей, и другая форма залога недопустима). Кроме сделок репо, говорить о таком обеспечении как безусловно всегда допустимом по российскому праву объективно не приходится. Можно резюмировать эту мысль так: сверхобеспечение "оплачивается" лизингодателем тем, что он рискует при расторжении договора получить назад не сумму займа с процентами, а вещь, которая хотя и формально, но является его собственностью.
При этом нужно иметь в виду, что при расторжении договора лизинга в связи с неисполнением лизингополучателем его обязательств или возникновением обстоятельств, риск наступления которых лежит на лизингополучателе, лизингодатель вправе взыскать с лизингополучателя убытки (ст. ст. 15, 393, 453 ГК РФ). Такие убытки согласно сложившейся практике могут оказаться равными размеру арендной платы, которая была
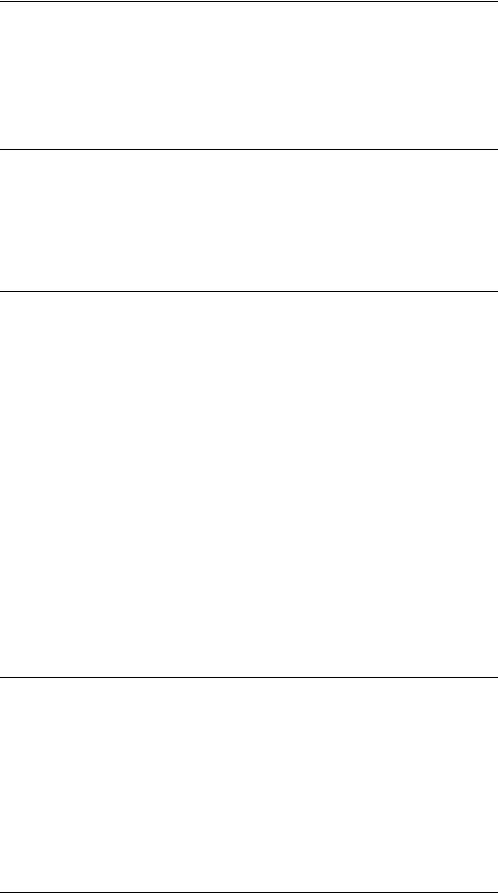
бы получена за будущее время (с момента досрочного возврата объекта лизинга до обозначенного в договоре момента возврата).
Если размер компенсации таких потерь установлен в договоре в виде "цены закрытия сделки", платы за расторжение и т.п., ее нужно рассматривать как неустойку, которая может снижаться по ст. 333 ГК РФ. Собственно, как показано выше, такой подход принят и во французском праве.
4. Риск неисполнения со стороны продавца
Обязательства лизингодателя по договору лизинга поставлены в зависимость от действий иного лица - продавца. Поэтому встает вопрос о том, на кого из сторон договора ложатся риски, если продавец не передаст лизингополучателю предмет лизинга.
Согласно п. 2 ст. 22 ФЗ о лизинге риск невыполнения продавцом обязанностей по договору купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки несет сторона договора лизинга, которая выбрала продавца, если иное не предусмотрено договором лизинга. В силу п. 2 ст. 670 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, арендодатель не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, когда ответственность за выбор продавца лежит на арендодателе. В последнем случае арендатор вправе по своему выбору предъявлять требования, вытекающие из договора куплипродажи, как непосредственно продавцу имущества, так и арендодателю, которые несут солидарную ответственность.
В практике имели место два толкования этих положений.
1. Подход на "арендной природе" лизинговых отношений: если предмет финансовой аренды не передан лизингополучателю, то он не должен вносить лизинговые платежи в силу ст. 614 ГК РФ. Приведенные положения ст. 22 Федерального закона о лизинге и ст. 670 ГК РФ согласно этому подходу означают, что лизингополучатель не может требовать от лизингодателя возмещения убытков, вызванных тем, что предмет лизинга ему не передан, если продавца выбирал именно лизингополучатель.
В целом такой подход соответствует общему учению о риске в двустороннем договоре: когда одно обязательство (предоставление вещи в пользование) исполнить
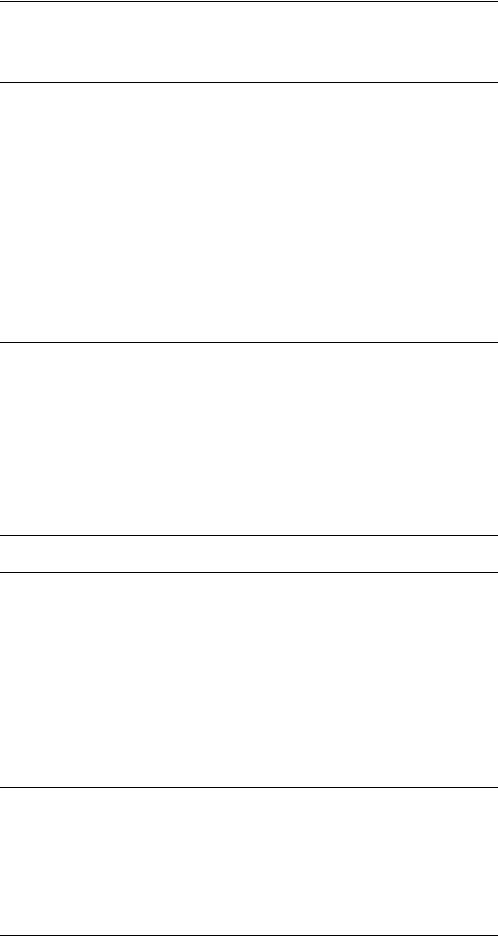
невозможно в силу обстоятельства, которое не находится во власти обязанной стороны, то и встречные обязательства прекращаются или не возникают вовсе.
В нашем случае это означало бы, что договор лизинга фактически прекращался бы, а лизингодатель взыскивал бы назад уплаченную цену и убытки с продавца.
2. Второй подход исходил из буквального понимания "финансового аспекта" лизинга. В ситуации когда продавца выбирал лизингополучатель, было бы несправедливо не обеспечить возмещение убытков лизингодателю, который фактически выдал кредит. При этом подходе названные положения закона толкуются так, что при неисполнении выбранным лизингополучателем продавцом обязательства передать предмет лизинга именно лизингополучатель обязан возместить лизингодателю убытки в виде невнесенных лизинговых платежей (реальный ущерб как сумма "кредита" и упущенная выгода как "проценты").
Собственно , позиция, изложенная в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 14 октября 2008 г. N 6487/08 и от 14 июля 2009 г. N 5014/09, соответствует практическому выводу из второго подхода: высшая судебная инстанция оставила в силе судебные акты, которыми был удовлетворен иск лизингодателя к лизингополучателю о взыскании убытков в виде неполученных лизинговых платежей, поскольку продавца выбирал последний.
Возражения против такого подхода:
-> Лизингодатель в большинстве случаев заключает договор купли-продажи не с любым лицом, которого укажет лизингополучатель: кандидатура продавца согласовывается, и лизингодатель не обязан заключать договор по простому указанию лизингополучателя. Продавец может быть навязан профессиональным лизингодателем лизингополучателю. И если при этом в договоре по какой-то причине будет указано обратное, последнему будет очень сложно доказать, что в действительности продавца выбирал не он.
-> Если бы предмет лизинга был передан, лизингодатель не получил бы право требовать единовременной уплаты всех лизинговых платежей: они могли бы уплачиваться долгие годы. И при этом никто не мешает лизингодателю взыскать свои убытки собственно с неисправного продавца.
На наш взгляд, неверно в таких случаях говорить о
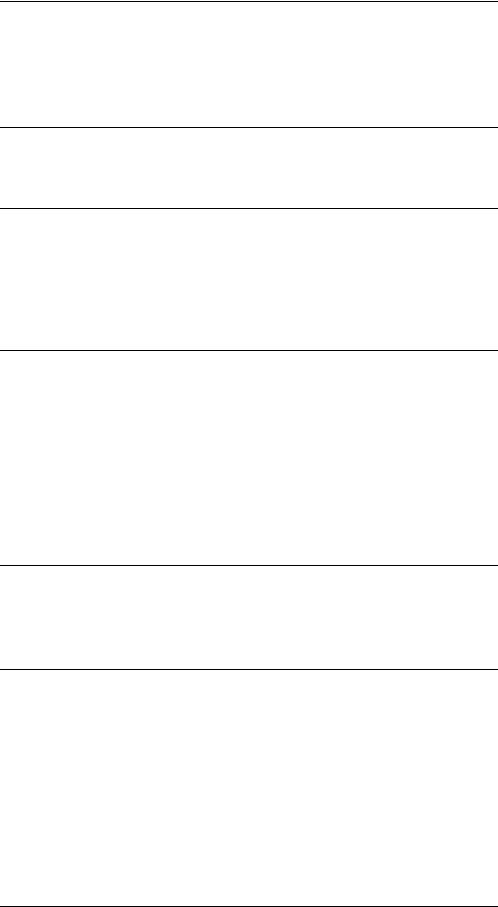
необходимости полного возмещения лизингодателю всех неполученных лизинговых платежей как убытков лизингополучателем, который не использовал предмет лизинга: он кредитуется не в момент уплаты цены продавцу, а в процессе пользования.
По крайней мере закон не обязывает к этой странной ситуации, когда лизингополучатель без встречности со стороны контрагента под видом "убытков" досрочно вернет ему всю сумму лизингового кредита с процентами и сделает это лишь потому, что он якобы выбирал продавца.
В любом случае лизингополучатель, возместивший лизингодателю убытки, вправе, в свою очередь, взыскать свои убытки с неисправного продавца (п. 1 ст. 670 ГК РФ).
5. Лизинг недвижимости
Еще один аспект, который хотелось бы затронуть, касается вещей, которые могут быть предметом лизинга
согласно ст. 666 ГК РФ. Он проявился в практике Президиума ВАС РФ.
Статья 666 ГК РФ указывает, что предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи, кроме земельных участков и других природных объектов. Согласно ст. 3 Федерального закона о лизинге предметом лизинга могут быть здание (сооружение), предприятие и иной имущественный комплекс. При этом п. 4 ст. 35 ЗК РФ содержит запрет на раздельное отчуждение земельного участка и строения, которое на нем находится, если они принадлежат одному лицу.
Формальное прочтение этих положений дает основания утверждать, что договор лизинга с выкупом переданного строения, заключенный без указания на судьбу участка под домом, принадлежащего лизингодателю, ничтожен.
Цель , ради которой законодателем из предмета лизинга изъяты земельные участки, до конца не ясна. По всей видимости, такая редакция ст. 666 ГК РФ была продиктована состоянием права частной собственности на землю в момент ее принятия. И действительно, при формальном прочтении это положение плохо согласуется с попыткой законодателя провести в жизнь принцип единой судьбы земельного участка и строений на нем, которая предпринята при принятии нового земельного законодательства.
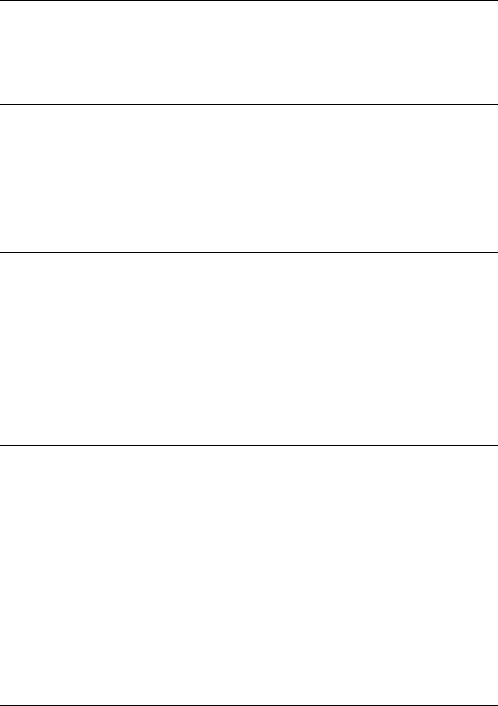
Приведенное выше формальное толкование могло бы попросту парализовать действие ст. 3 Федерального закона о лизинге в части допустимости лизинга зданий (сооружений) и вывести из предмета договора лизинга не только земельные участки, но и недвижимость вообще. А это вряд ли возможно.
Иностранный опыт показывает, что недвижимость вполне может быть предметом лизинга. По тому же французскому праву кредит-наем прежде всего касается недвижимости для профессионального использования.
При этом то, что предметами лизинга должны являться "коммерческие", производственные объекты, объясняется так. Значение собственности на такие объекты в современном мире невелико. Важнее, кто их использует. Собственность на них дает лишь гарантию, лишенную обычных "правомочий" собственника.
Так или иначе, формальное прочтение ст. 666 ГК РФ было признано недопустимым высшей судебной инстанцией. В Постановлениях от 16 сентября 2008 г. N 4904/08 и N 8215/08 Президиум ВАС РФ дал ограничительное толкование ст. 666 ГК РФ, указав, что предметом договора лизинга не могут быть только земельные участки, являющиеся самостоятельным предметом договора лизинга.
При этом было отмечено, что в части перехода права на земельный участок необходимо руководствоваться ст. 273 ГК РФ или договором между собственником земельного участка и лизингополучателем. Иными словами, в договоре лизинга может быть не указано на переход права собственности на земельный участок: этот переход права произойдет в силу ст. 273 ГК РФ. Это важно в связи с тем, что во многих случаях договор об отчуждении здания, не предусматривающий отчуждения земельного участка, на котором расположено здание, считается ничтожным, если оба объекта принадлежат одному отчуждателю.
Егоров: Лизинг текущие проблемы метода сальдо
Пункт 2 ПП ВАС №17: по общему правилу в договоре выкупного лизинга имущественный интерес лизингодателя заключается в размещении и последующем возврате с прибылью денежных средств, а имущественный интерес лизингополучателя – в приобретении предмета лизинга в собственность за счет средств, предоставленных
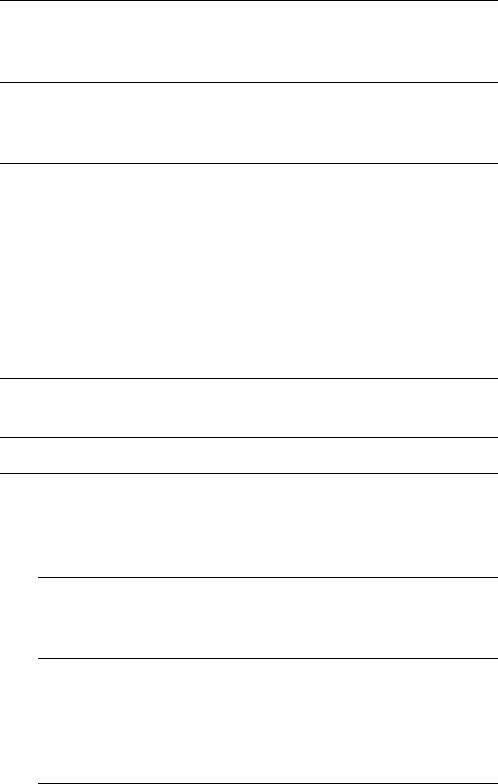
лизингодателем, и при его содействии —> выбрал экономическое содержание (финансирование) и предпочел его юридической форме, закрепленной в ГК РФ (аренда).
Все остальные проблемы лизинга рассматриваются именно через финансирования лизингодателем лизингополучателя.
Основы данного подхода заложил КС, охарактеризовав лизинговую деятельность как один из видов инвестиционной деятельности, в которой:
– лизингодатель, приобретая имущество в свою собственность при помощи финансовых средств (в том числе бюджетных) и передавая его во владение и пользование лизингополучателю, оказывает лизингополучателю своего рода финансовую услугу;
– при этом он возмещает стоимость данного имущества за счет поступающих от лизингополучателя периодических лизинговых платежей, образующих его доход от такой инвестиционной деятельности.
Общие последствия расторжения договора применительно к договору лизинга
Вотношении лизинга применимы следующие выводы:
+само по себе расторжение договора лизинга не прекращает те обязанности сторон, которые связаны с предшествующими нарушениями или с ненадлежащим расторжением договора лизинга;
+расторжение договора не прекращает обязанности по возмещению убытков, связанных с нарушением договора лизингодателем;
+то, каковы обязанности сторон при расторжении договора лизинга, необходимо определять, ориентируясь на существо отношений. При этом очевидно, что существо отношений лизинга разобрано в ПП ВАС № 17.
«В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из
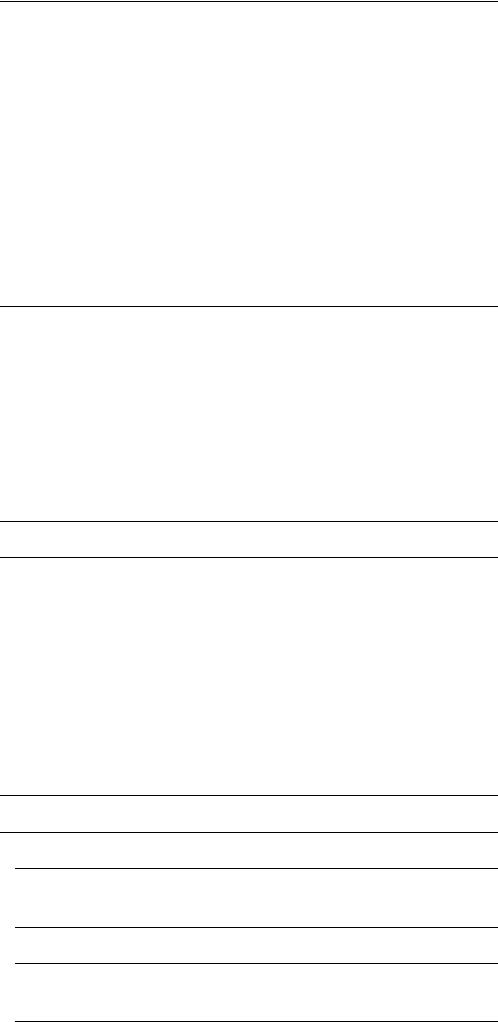
существа обязательства» (абз. 2 п. 4 ст. 453 ГК РФ)
Разложенное по полочкам в ПП ВАС № 17 существо обязательств сторон из договора лизинга всецело санкционировано законом, и из этого существа вытекает «иное», не позволяющее применять к сторонам договора лизинга нормы о неосновательном обогащении. Если вдруг мы начнем их применять, то на сумму финансирования, не компенсированного еще лизингополучателем, должны начисляться проценты по ставке из ст. 395 ГК РФ, а не договорные проценты. Это больно ударит по лизингодателям. Также неисполненное обязательство по неустойке превратится в обязательство из неосновательного обогащения. Произойдут иные, совершенно непонятные и никому не нужные метаморфозы.
Даже для того, чтобы обосновать обязанность лизингодателя вернуть лизингополучателю излишек от продажи предмета лизинга, не требуется прибегать к правилам о неосновательном обогащении. Получив по договору больше, чем ему причиталось (не только возврат финансирования и плату за него, но и суммы сверх того), лизингодатель получил недолжное и обязан вернуть это в силу своих договорных отношений по лизингу; это договорная ликвидационная обязанность.
Ликвидационная стадия обязательства в лизинге
По смыслу кредитной теории, в случае расторжения договора лизинга при неполной выплате лизинговых платежей должен происходить заключительный (компенсационный) платеж. В зависимости от обстоятельств он производится в пользу лизингодателя или лизингополучателя, имея в виду основной интерес лизингодателя, направленный на возврат предоставленного кредитования и согласованных процентов за фактическое время пользования кредитом. В числе обстоятельств учитываются:
-оставшаяся непогашенной сумма основного кредита
-убытки лизингодателя
-проценты, приходящиеся на время пользования финансированием
-рыночная стоимость предмета лизинга
-какой из сторон достается предмет лизинга (см. п. 3 ПП ВАС № 17).
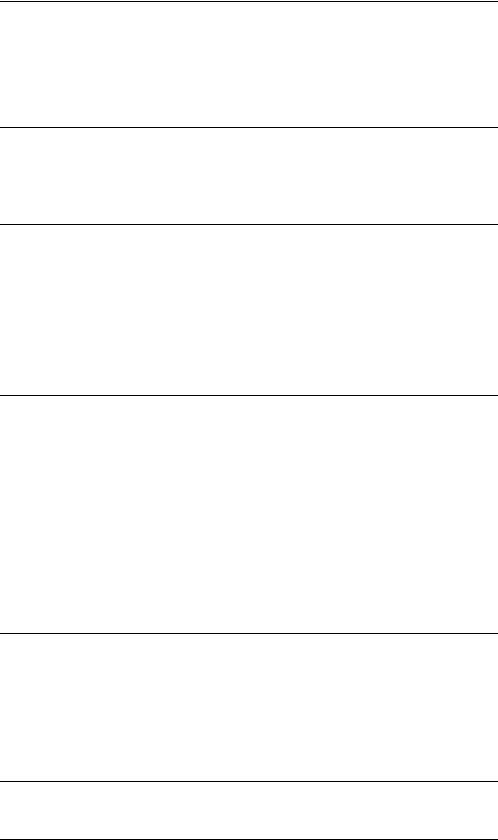
Вопрос : почему в п. 3 ПП ВАС № 17 не упоминаются убытки лизингополучателя, причиненные ему в том случае, если расторжение договора лизинга по заявлению лизингодателя оказалось незаконным —> Речь идет о квалифицированном умолчании.
Разработчики ПП ВАС № 17 не имели в виду невозможность взыскания лизингополучателем убытков. Просто данная ситуация является довольно нетипичной. Но суд указывают, что никаких ограничений по заявлению своих убытков лизингополучателю при расчете сальдо нет
Метод сальдо и проблемы его применения в судебной практике
Понятие метода сальдо
Механизм подведения баланса взаимных обязательств сторон именуется методом сальдо.
Согласно методу сальдо, после сопоставления судом взаимных обязательств сторон высчитывается одно итоговое обязательство. Именно оно и подлежит судебной защите. При этом не применяются правила о зачете встречных требований, которые неизбежно применялись бы, если бы речь шла об обычных встречных требованиях истца и ответчика друг к другу.
Например , если истцом выступает лизингодатель и ему принадлежит право на возмещение финансирования – 100, плата за финансирование – 20 и убытки – 10, то суд обязан принять во внимание стоимость возвращаемого предмета лизинга, даже если ответчик (лизингополучатель) не заявил никакого встречного иска. Если эта стоимость окажется ниже 130 (100+20+10), то суд взыщет в пользу лизингодателя лишь разницу. Например, если по оценке суда предмет лизинга стоит 75, то суд присудит в пользу лизингодателя 55 (130-75).
Если бы не применялся метод сальдо, то ответчику для достижения того, чтобы в этом примере с него взыскали всего 55, потребовалось бы обязательно предъявить встречный иск. Суд удовлетворил бы два требования (130 в пользу лизингодателя и 75 в пользу лизингополучателя) и произвел бы зачет.
Таким образом, метод сальдо упрощает процессуальные действия сторон, но не более того.
Правовая природа платежа по сальдо
