
Арбитражный и Гражданский процесс учебный год 2022-23 / Курылев С. В
.pdf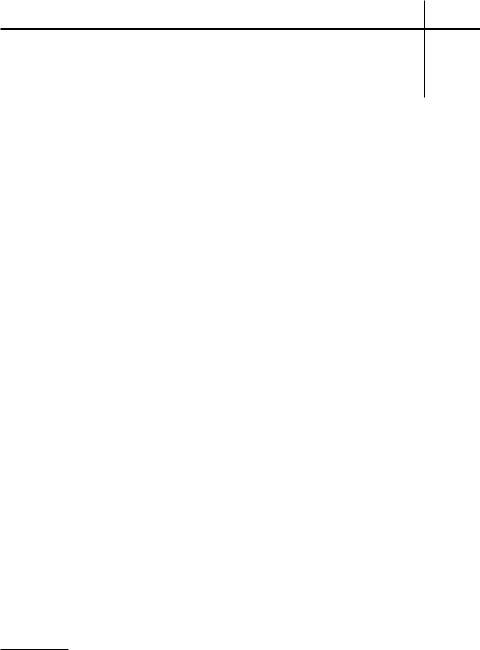
К сорокалетию истории советского гражданского процессуального права |
521 |
Хотя в течение долгого времени разработка процессуального законодательства шла в направлении подготовки ГПК СССР, однако 11 февраля 1957 г. Шестой сессией Верховного Совета СССР
четвертого созыва был принят Закон «Об отнесении к ведению союзных республик законодательства об устройстве судов союзных республик, принятии гражданского, уголовного и процессуальных кодексов» и соответственно изменен пункт «х» ст. 14 Конституции
СССР. Таким образом, тенденция к расширению государственного суверенитета союзных республик захватила область процессуального законодательства, и в настоящее время гражданское судопроизводство должно регулироваться общесоюзными «Основами законодательства о судоустройстве и судопроизводстве» и республиканскими процессуальными кодексами.
Возникает вопрос, не свидетельствует ли Закон от 11 февраля 1957 г. о появлении принципиально новой тенденции развития гражданского процесса, направленной на сужение сферы действия принципа единого для СССР процессуального законодательства.
Решая этот вопрос, необходимо учитывать следующее. Объективная база, которая могла бы обусловливать и оправдывать возможность появления существенных различий в будущих рес публиканских законах, – это наличие в советских республиках определенных существенных особенностей. Однако в настоящее время таких экономических и национально-культурных особенностей, которые требовали бы различного регулирования порядка осуществления правосудия, нет1. И здесь неуместна какая-либо аналогия с колхозным правом, которое, чтобы не быть тормозом
вразвитии колхозных отношений, должно считаться с существующим огромным разнообразием экономических условий деятельности различных колхозов. Для гражданского процессуального права
всилу характера регулируемых им отношений, не имеющих своим объектом производство или распределение каких-либо материальных благ, имеют непосредственное значение главным образом не особенности экономики различных районов, а особенности быта, культуры, национальных традиций.
Между тем, несмотря на действие в течение длительного времени (с 1938 г.) на территории СССР единых правил судоустройства, нам ни из печати, ни из бесед с местными работниками (например,
1 Пашерстник А.Е. Теоретические вопросы кодификации общесоюзного законодательства о труде. М. : изд-во Академии наук СССР. 1955. С. 99–104, 162. Все то, что высказывает А.Е. Пашерстник в пользу единого трудового законодательства, в силу природы гражданскогопроцессасправедливовещебольшейстепенидляединогогражданского процессуального законодательства.

522 |
Проблемы гражданского процессуального права |
ссудьями Бурят-Монгольской АССР) не известно ни одного факта, когда бы эта единая судебная система и единые для многих народов СССР1 правила судопроизводства вступали бы в противоречие
скакими-либо местными национальными особенностями.
Не содержалось конкретных примеров таких особенностей в области процесса и в выступлениях делегатов на Шестой сессии.
И если сейчас между ГПК союзных республик нет скольконибудь существенных различий, а имеющиеся несущественные различия нельзя объяснить какими-либо местными, национальными особенностями, то тем меньше оснований предположить увеличение числа таких различий в будущем процессуальном законодательстве, ибо все то лучшее в процессуальных законах, что проверено многолетним опытом, будет, несомненно, воспринято кодексами всех республик, если даже и не получит непосредственного закрепления в общесоюзных Основах.
Возможные же расхождения могут получиться лишь в результате разных технических решений некоторых вопросов. Более того, трудно предположить, что и в области технических решений процессуальных вопросов может оказаться какое-либо серьезное разнообразие, например, потому что союзные республики будут широко экспериментировать в области процесса с целью проверки на практике жизненности и эффективности различных решений, как, в частности, это происходит при создании машин. Если экспериментальный способ отыскания лучших процессуальных форм был оправдан, a в ряде случаев и неизбежен в первые годы существования советского гражданского процесса, то трудно признать его целесообразным сейчас, после сорока лет развития гражданского процесса. Проверка на практике различных опытных образцов является необходимостью при строительстве не существовавшей ранее машины. Гражданское же процессуальное законодательство в настоящее время нуждается не в каком-либо существенном обновлении, а лишь в кодификации. Иначе говоря, те опытные образцы, из которых надо выбрать лучшее, уже были в действии и развитии около сорока лет.
Наконец, для появления существенного разнообразия в регламентации процессуальной деятельности в различных республиках нет и юридической возможности, т.к. можно предполагать, что главные вопросы судопроизводства будут урегулированы
1 ГПК РСФСР, например, без каких-либо изменений действует также на территории Киргизской ССР, Казахской ССР, Эстонской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР, на территориях входящих в РСФСР автономных республик, областей и округов.

К сорокалетию истории советского гражданского процессуального права |
523 |
в«Основах законодательства о судоустройстве и судопроизводстве». Поэтому, нам кажется, что сделанный 11 февраля 1957 г. шаг
внаправлении некоторой децентрализации законодательства не предполагает какого-либо существенного ограничения принципа единого процессуального законодательства.
Тенденция к унификации процессуальных форм в масштабе Союза ССР обусловлена всем историческим ходом развития советского гражданского процесса, и она должна действовать в будущем независимо от того, какими законами – союзными или республиканскими – будет регулироваться порядок судопроизводства. Сказанное подтверждается уже сейчас. 11 февраля 1957 г. принимается закон, которым законодательство о судоустройстве и процессе относится к ведению союзных республик, а 31 января 1957 г., буквально накануне принятия этого закона, издается Положение о порядке рассмотрения трудовых споров, которое в общесоюзном масштабе регулирует целый ряд процессуальных вопросов рассмотрения трудовых дел.
Об усилении роли правосознания судей. Возникает другой вопрос: как быть с имеющими значение для процессуального законодательства несущественными особенностями союзных республик, отдельных местностей в пределах одной и той же республики и даже с особенностями отдельных конкретных дел?
Например, в северных районах СССР заработная плата рабочих и служащих выше, чем в центральных. Было бы поэтому неправильным устанавливать одинаковый для всех местностей размер вознаграждения свидетелям за отвлечение их от постоянных обязанностей, размер штрафа за нарушения процессуальных обязанностей и т.д. Для лица, получающего заработную плату 300 руб лей, и 50 рублей штрафа (ст. 50 ГПК) является санкцией, в достаточной мере обеспечивающей выполнение обязанности по даче показаний суду. Для лица с заработком в 3000 рублей такая санкция, конечно, ничтожна.
Отвечая на поставленный вопрос, следует подчеркнуть, что, кроме децентрализации законодательства, существуют по крайней мере еще три более экономных и простых способа учета при правовом регулировании местных особенностей:
1)включение в общесоюзный или республиканский законодательный акт отражающих местные особенности норм с ограниченной в пространстве сферой действия1;
1 Пашерстник А.Е. Указ. соч. С. 107–108.
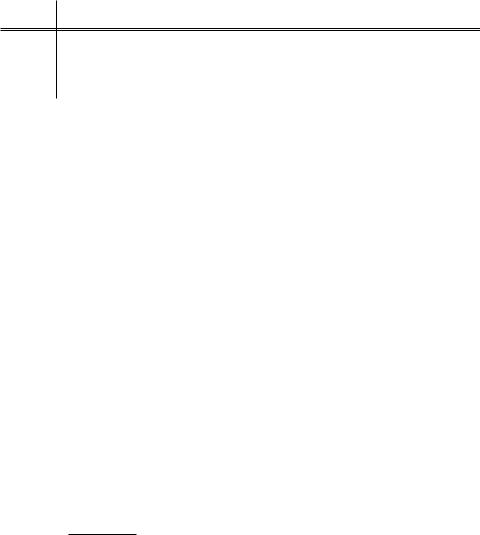
524 |
Проблемы гражданского процессуального права |
2) включение в законодательный акт в необходимых случаях бланкетных норм, дающих возможность местным органам власти определять их конкретное содержание с учетом местных особенностей;
3) конструирование норм, предусматривающих местные особенности, таким образом, чтобы у суда для учета этих особенностей имелась возможность выбора различных решений при применении закона.
В зависимости от характера особенностей, если они подлежат учету при правовом регулировании общественных отношений, определяется и способ их отражения в правовых нормах. Для особенностей, имеющих территориально ограниченное распространение, более целесообразным являются первый и второй способы их регламентации; для особенностей, не имеющих пространственно фиксированного положения (возраст гражданина, его образование, профессия и т.д.), – третий1.
Рассматривая сквозь призму истории будущее гражданского процесса, мы склоняемся к выводу, что гражданское процессуальное законодательство имеет объективные условия для развития
внаправлении расширения полномочий местных органов суда
врегулировании процессуальных отношений, на расширение роли правосознания судей в решении процессуальных вопросов2. Такое направление является отображением политики Советского государства настоящего времени, направленной на развитие самодеятельности местных органов. Оно подтверждается произведенной в 1954 г. децентрализацией судебного надзора, появляющимися в печати высказываниями3. В каких конкретно формах будет выражаться эта тенденция развития, каких процессуальных институтов коснется, как долго она просуществует – предугадать сейчас, понятно, невозможно.
1На выбор способа отражения особенностей оказывают влияние и иные обстоятельства (обеспеченность судебных органов достаточно квалифицированными кадрами и т.д.).
2Повышение роли правосознания судей в настоящее время, в отличие от периода созданияГПК,имеетоснову–неотсутствиеразвитогозаконодательства,авысокийуро- вень политической и деловой квалификации судей. В то же время пределы расширения сферы действия правосознания судей должны оканчиваться там, где кончается необходимость учета местных особенностей, конкретных обстоятельств дела; они не должны идти в ущерб процессуальным гарантиям.
3См., например, статью заместителя Министра юстиции РСФСР Г. Анашкина «Об общественных судах» (Известия, 1956. 14 дек.), которая встретила сочувственное отношение у многих судебных работников. Естественно, что общественные суды, если они будут восстановлены, в силу своего характера многие процессуальные вопросы будут решать по правосознанию.
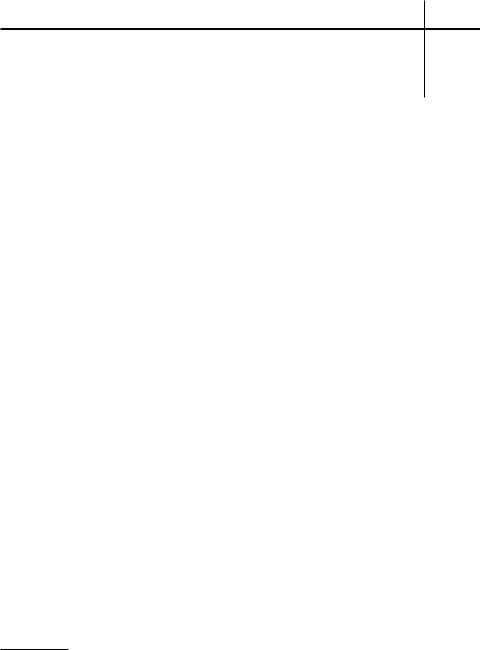
К сорокалетию истории советского гражданского процессуального права |
525 |
Об упрощении и удешевлении гражданского судопроизводства. В заключение отметим, что есть, на наш взгляд, все основания считать, что период, который мы по господствующей в нем тенденции назвали условно периодом упрощения и удешевления судопроизводства, не закончен. В осуществление требования упрощения и удешевления гражданского судопроизводства в ближайшее время можно ожидать появления ряда серьезных процессуальных актов.
Исходя из рассмотренных раньше несомненных преимуществ установленного 13 апреля 1954 г. нового порядка судопроизводства по делам о недоимках, по обязательным поставкам сельскохозяйственных продуктов, можно думать, что он с некоторыми изменениями будет распространен и на производства по взысканию иных видов недоимок и административных штрафов. Это сократит объем работы суда без какого-либо ущерба для ее качества, восстановит оперативность взыскания недоимок, что диктуется требованиями финансовой политики государства.
Следует, далее, считать назревшим вопрос об упрощении порядка расторжения брака1. Действующие сейчас правила бракоразводного судопроизводства установлены в период борьбы за укрепление процессуальных гарантий. Поэтому не случайно, нам кажется, что в числе этих правил есть немало и такого, что является результатом увлечений этим укреплением. Бракоразводный процесс настолько укреплен, что походит сейчас на дом со сложнейшей системой запоров и столь тщательно охраняем от проникновения жуликов, что из него почти невозможно выбраться самому хозяину.
Целесообразным и вероятным также представляется введение единоличного и упрощенного производства по ряду несложных по характеру и не имеющих важного воспитательного значения гражданских дел, в частности, некоторых дел особого производства, споров организаций с транспортными предприятиями в связи с перевозкой груза и др. Участие народных заседателей при рассмотрении подобных дел является излишним усложнением процесса и ничем не оправданным отвлечением граждан от их непосредственной работы2.
1КиселевВ.Существуетлилюбовь?(Литературнаягазета,1956.13сент.),статьиАнтимонова Б., Пергамент А. (Социалистическая законность, 1954. № 9. С. 24), Ковалевой Е. (Социалистическая законность, 1956. № 12. С. 39).
2Можно ожидать аналогичного характера изменений и в других процессуальных институтах, рассмотрение которых мы не можем сделать из-за недостатка места.
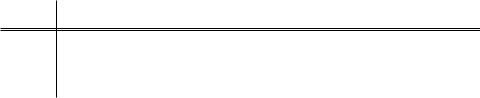
526 |
Проблемы гражданского процессуального права |
***
Сорок лет существования советского гражданского процесса свидетельствуют о том, что советское гражданское процессуальное право, будучи с самого начала своего возникновения социалистическим по содержанию, характеризовалось большим разнообразием тенденций развития, обусловленных особенностями того или иного периода существования Советского государства. Однако среди этого разнообразия неизменным являлось направление демократизации, упрощения и удешевления судопроизводства, укрепления процессуальных гарантий. В этом направлении должно идти развитие советского гражданского процесса и в дальнейшем.

Проблемы теории права
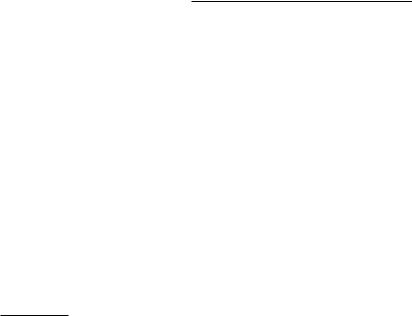
О структуре юридической нормы
(Статья)
По вопросу о структуре юридической нормы, о понятии ее отдельных элементов в советской юридической литературе нет достаточной ясности. Между тем этот вопрос имеет не только теоретическое, но и практическое значение: то или иное его решение дает основания к соответствующим рекомендациям нормотворческим органам о формулировке правовых норм, юрисдикционным органам о правилах применения закона.
1. Состав элементов юридической нормы.
Традиционный взгляд усматривает в норме три элемента: гипотезу, диспозицию и санкцию1. При этом такое расчленение проводится для норм любой отрасли права и лишь в отношении уголовно-правовых норм делается некоторое отступление, а именно указывается, что в этих нормах гипотеза и диспозиция
1 Карева M.П., Айзенберг А.М. Правовые нормы и правоотношения. М., 1949. с. 13–14; Теория государства и права. М., 1949. С. 117; Денисов А.И. Теория государства и права. М., 1948. С. 401; Ткаченко Ю.Г. Нормы советского социалистического права и их применение. М., 1955. С. 18; Теория государства и права. М., 1955. С. 347 и др.
Не имеет самостоятельного значения и взгляд Н.Г. Александрова, различающего в норме два элемента: воспроизводящего идеально известные общественные отношения и воздействующего на отражаемые отношения (Александров Н.Г. Сущность права. М., 1950). В литературе справедливо указывалось на ошибочность данного взгляда (см.: Социалистическая законность, 1951. № 8. С. 90; Керимов Д.А. Законодательная деятельность советского государства. М., 1955. С. 86–87). Выделить каким-либо путем в юридической норме формулируемые Н.Г. Александровым элементы было бы неправильно по теоретическимсоображениям(КеримовД.А.Тамже)иневозможнопрактически.Исам Н.Г. Александров не делает такой попытки, придерживаясь при анализе правовых норм традиционного взгляда на ее структуру (см. Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе. М., 1950. С. 162).
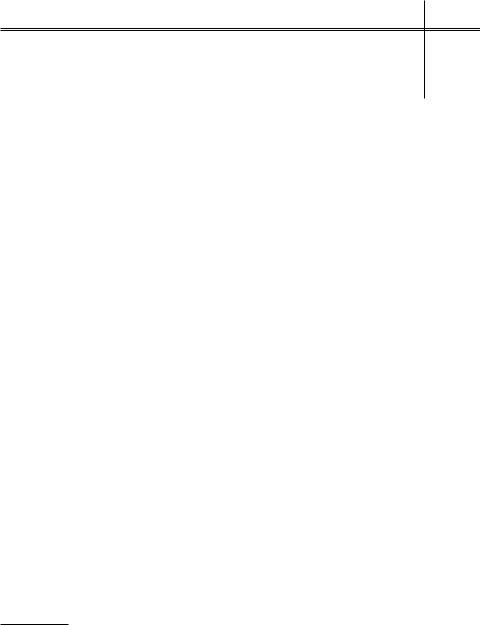
О структуре юридической нормы |
529 |
якобы сливаются (или гипотеза подразумевается)1. Что касается понятий отдельных элементов нормы, то, несмотря на кажущуюся одинаковую словесную формулировку понятий элементов, в действительности взгляды различных авторов существенно расходятся.
По мнению одних, гипотеза нормы представляет собой указание на совокупность определенных юридических фактов, с которыми норма связывает возникновение юридических отношений2. При таком понимании гипотезы, отнесенном к области уголовного права, очевидно, что та часть уголовно-правовой нормы, которая содержит указание на признаки соответствующего преступного деяния, должна именоваться не диспозицией, как принято в настоящее время, а гипотезой. При этом ее ни в коем случае нельзя признать слившейся с диспозицией, ибо диспозиция содержит не признаки наказуемого деяния, а указывает на его следствие – правоотношения, возникающие в результате деяния. Причина же и следствие никогда не могут сливаться воедино, причина во времени всегда предшествует следствию. Поэтому при рассматриваемом понимании гипотезы в уголовно-правовой норме невозможно отыскать какой-либо третий элемент, кроме гипотезы и последствий (санкции).
Другие авторы понимают под гипотезой часть юридической нормы, излагающей условия, при наличии которых данная норма подлежит исполнению (применению)3. Такое понимание гипотезы очевидно шире, чем предыдущее, ибо, кроме указания на юридические факты, в гипотезу нормы включаются и указания на все иные юридические релевантные обстоятельства, с которыми связывается предусматриваемое нормой правоотношение. Например, Ю.Г. Ткаченко, рассматривая в качестве примера нормы правило, установленное в ст. 58 ГК РСФСР, относит к гипотезе нормы указание: «Если данное лицо является собственником, то ему принадлежит...» Следовательно, в данном случае гипотезу нормы, по мнению Ю.Г. Ткаченко, составляет указание не на юридические факты как действия или события, вызывающие, изменяющие или прекращающие правоотношения, а на юриди-
1Карева M.П., Айзенберг A.M. Указ. соч. С. 15; Теория государства и права. М., 1955. с. 347; Ткаченко Ю.Г. Указ. соч. С. 21 и др.
2Гурвич М.А. Решение советского суда в исковом производстве. М., 1955. С. 52.
3Ткаченко Ю.Г. Указ. соч. С. 18, 21; Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе. М., 1950. С. 92. Однако у Н.Г. Александрова нет достаточной четкости в определении гипотезы нормы, ибо в другом месте указанной работы (с. 162) он трактует понятие гипотезы уже как указание только на юридические факты.
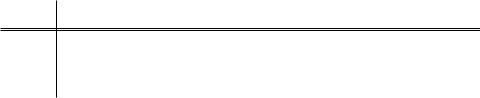
530 |
Проблемы теории права |
ческое состояние – право собственности. С рассматриваемой точки зрения в гипотезу нормы должно, следовательно, входить указание на правоспособность, дееспособность, вменяемость
ит.д. Норма же уголовного права при расчленении ее на понимаемые подобным образом элементы должна выглядеть примерно так: «Каждому лицу (гражданину СССР или иностранцу, не пользующемуся правом экстерриториальности), достигшему 12летнего возраста, не находящемуся в состоянии невменяемости, необходимой обороны и т.д. (гипотеза) запрещается (ст. 137 УК РСФСР) умышленно лишать жизни другое лицо (диспозиция), в противном случае оно подлежит лишению свободы на срок до 8 лет (санкция)».
Такая конструкция нормы вызывает по крайней мере два возражения. Во-первых, она, как и предыдущая, не дает нам единого понимания структуры юридической нормы. Если быть логически последовательным, то, очевидно, описанным образом надо конструировать не только нормы уголовного права, но и другие, в частности гражданско-правовые, нормы. А последние в этом случае будут выглядеть примерно следующим образом: «Каждому лицу, обладающему правоспособностью (гипотеза), разрешено (ст. 180 ГК РСФСР) заключать сделку купли-продажи (диспозиция), в последнем случае у него возникает право требовать полагающегося по сделке купли-продажи (вновь диспозиция?!), и это право охраняется иском (санкция)». Короче говоря, включение в гипотезу нормы указания на общие предпосылки правоотношений (вменяемости, правоспособности и т.д.) позволяет увидеть в уголовноправовой норме три элемента, однако в гражданско-правовой норме в результате такого включения появляется четвертый элемент, т.е. единого для всех норм понятия структуры опять-таки не получается.
Во-вторых, указанная трактовка структуры нормы и понятия гипотезы влечет и неприемлемую, на наш взгляд, модификацию понятия диспозиции нормы. Если под гипотезой нормы понимать указание на общие предпосылки правообязанностей лица, то диспозицию нормы, как это видно из приведенного выше примера, должно составлять указание не на конкретное, предусматриваемое нормой правоотношение, а указание на общую правообязанность (правовой статус) субъектов права – обязанность не совершать преступлений и других правонарушений, право заключать дозволенные законом сделки и обладать иными правами. Так, в частности,
ипоступает Ю.Г. Ткаченко, рассматривая в качестве диспозиции
