
Биографиии Биологов / Митрофанов В. (ред.) Иосиф Абрамович Рапопорт - ученый, воин, гражданин. Очерки, воспоминания, материалы
.pdfД.Б. Корман
ХИМИЧЕСКИЕ МУТАГЕНЫ В РАЗРАБОТКЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ1
Известно, что почти все современные противоопухолевые препараты обладают мутагенными свойствами, а некоторые из них могут быть отнесены к супермутагенам - это в первую очередь производные этиленимина (тиофосфамид, дипин, имифос и др.) и нитрозомочевины (нитрозоалкилмочевины).
Однако мутагенность таких препаратов установили уже после того, как обнаружили их противоопухолевую активность. Нитрозометилмочевина (НММ), супермутагенность которой впервые выявил и детально изучил И.А. Рапопорт, - первое и, вероятно, пока единственное эффективное противораковое средство, изучать которое стали, исходя из его мутагенной активности.
Первые эксперименты по изучению противоопухолевых свойств нитрозометилмочевины начались по инициативе И.А. Рапопорта в конце 1962 г. Тогда Н.М. Эмануэль организовал в Институте химической физики АН СССР лабораторию по изучению противоопухолевой эффективности и механизмов действия различных химических соединений, в первую очередь ингибиторов свободно-радикальных процессов (антиоксидантов). Активную роль в организации и работе этой лаборатории играл проф. Е.М. Вермель, один из основоположников отечественной противоопухолевой химиотерапии. Е.М. Вермель был хорошо знаком с И.А. Рапопортом еще с конца 40-х годов, они часто обсуждали различные биологические проблемы. В одной из таких встреч и родилась идея искать новые эффективные противоопухолевые препараты среди супермутагенов. В то время Рапопорт очень активно занимался производными нитрозомочевины, и именно с этой группы было решено начать поиски.
С таким предложением И.А. Рапопорт и Е.М. Вермель пришли к Н.М. Эмануэлю, который сразу одобрил идею и выделил для работы группу сотрудников. Первые же опыты на 45 крысах с перевиваемой саркомой показали очень высокую активность НММ: опухоли даже больших размеров полностью рассасывались почти у всех животных. С этих экспериментов началось систематическое исследование алкильных производных нитрозомочевины - метил-, этил-, пропил-, диметилнитрозомочевины.
В результате большой серии сравнительных опытов по изучению противоопухолевой активности, токсичности, химиотерапевтических индексов, кумулятивных свойств и пр. для последующих клинических исследований была выбрана нитрозометилмочевина. На основе испыта-
1 Опубликована ранее в журнале "Природа" (1997. № 1. С. 12-16).
169
ний в ведущих онкологических клиниках страны, проводившихся в 1965 г., была установлена эффективность этого препарата при ряде опухолей. В 1973 г. Фармакологический комитет МЗ СССР рекомендовал НММ для медицинского применения и промышленного производства.
Группа нитрозоалкилмочевин в современной противоопухолевой химиотерапии представлена кроме НММ еще рядом препаратов. Значительная часть их создана в США также в начале 60-х годов, в ходе проводившегося тогда тотального скрининга на противоопухолевую активность всех известных химических соединений. В 1963 г. после проверки нитрозометилмочевины также обнаружили ее высокую активность и, что особенно привлекло внимание, эффективность при интрацеребрально перевитых опухолях, что в те годы было уникальным для противоопухолевых препаратов.
Однако сотрудники Национального ракового института США, получившие эти результаты, не стали проводить широких предклинических испытаний НММ. Позднее они рассказывали, что понимали бесперспективность коммерциализации у них известного химического соединения ввиду невозможности его патентования как нового вещества, а значит, и невозможности заинтересовать в нем фармацевтические фирмы. Поэтому они синтезировали на основе НММ ряд хлорэтильных производных нитрозомочевины, в том числе бисхлопэтилнитрозомочевину (BCNU), циклогексилхлорэтилнитрозомочевину (CCNU), быстро провели с ними все необходимые предклинические исследования и в 1966 г. приступили к клиническим испытаниям. В середине 70-х годов было получено разрешение на медицинское использование этих препаратов. В 70-80-х годах в разных странах (СССР, США, Япония, Франция) было синтезировано и изучено большое число различных производных нитрозомочевины, часть из них также вошла в арсенал современной противоопухолевой химиотерапии.
В настоящее время нитрозоалкилмочевины составляют одну из основных групп препаратов для химиотерапии больных злокачественными опухолями2.
Отличиенитрозоалкилмочевинотдругихпротивоопухолевыхсредств обусловлено своеобразием их физико-химических свойств и механизмов действия, сочетающих реакции алкилирования и карбамилирования. Среди характерных особенностей можно выделить широту спектра противоопухолевой активности в отношении экспериментальных опухолей; способность интенсивно проникать через гематоэнцефалический барьер и воздействовать на опухоли центральной нервной системы; циклонеспецифичность, т.е. летальное действие как на делящиеся (пролиферирующие), так и на покоящиеся клетки опухолей; отсутствие перекрестной резистентности с противоопухолевыми препаратами других классов.
Широту спектра действия препаратов этой группы характеризует, в частности, большое число экспериментальных опухолей различного гистогенеза и происхождения, высокочувствительных к нитрозоалкилмо-
2Эмануэль Н.М, Карман Д.Б., Островская Л.А. и др. Нитрозоалкилмочевины - новый класс противоопухолевых препаратов. М., 1978.
170
чевинам. Так, эффективность НММ выявлена по отношению к 30 различным типам экспериментальных опухолей, включая спонтанные и индуцированные.
Значительная активность нитрозоалкилмочевин при опухолях мозга определяется, очевидно, их высокой растворимостью в липидах, что позволяет легко проникать через клеточные мембраны и гематоэнцефалический барьер. Установлено, что некоторые нитрозоалкилмочевины, в том числе и НММ, после системного (внутрибрюшинного или внутривенного) введения накапливаются в ткани головного мозга преимущественно в опухолевых участках. Вероятно, именно с этим связана высокая эффективность таких препаратов при интрацеребральных трансплантированных и индуцированных опухолях головного мозга.
Важная фундаментальная особенность биологического действия нитрозоалкилмочевин - их циклинеспецифичность. Для большинства цитостатиков (веществ, подавляющих деление клеток) характерно преимущественное действие на растущие клетки и устойчивость к ним покоящихся клеток опухоли. Нитрозоалкилмочевины способны оказывать летальное воздействие не только на пролиферирующие клетки, но и на покоящиеся.
Высокой чувствительностью покоящихся опухолевых клеток к нитрозоалкилмочевинам, очевидно, объясняется активность этих соединений при медленно растущих экспериментальных опухолях, а также при опухолях большого размера, значительную часть клеток которых составляют покоящиеся. Например, для разных генераций спонтанного рака молочной железы у специальной линии мышей СЗН, отличающихся интенсивным ростом клеточной популяции, установлена обратная зависимость между исходным пролиферативным пулом опухоли и чувствительностью к НММ. Наибольшая активность препарата наблюдалась в случаях, когда фракция размножающихся клеток не превышала 20%. Эту же зависимость характеризует обнаруженное на некоторых перевиваемых опухолях возрастание активности НММ с увеличением размеров опухоли.
Важное свойство нитрозоалкилмочевин, впервые обнаруженное для НММ, - индукция в растущих опухолевых клетках длительно существующих (остаточных) структурных повреждений хромосом. В нормальных клетках хромосомные аберрации быстро удаляются. Например, у мышей с перевитым асцитным раком Эрлиха хромосомные аберрации в клетках костного мозга, индуцированные введением терапевтической дозы НММ, исчезают через 48-72 часа после введения препарата, тогда как в опухолевых клетках высокий уровень хромосомных аберраций сохраняется спустя 7-10 суток. Следует отметить, что существует прямая линейная корреляция между уровнем остаточных цитогенетических повреждений в популяции пролиферирующих опухолевых клеток и противоопухолевым эффектом соединений, вызывающих эти изменения.
На большом числе опухолевых штаммов показано, что опухолевые клетки с приобретенной устойчивостью к действию алкилирующих агентов, антифолиевых препаратов, антагонистов пуринов и пиримидинов, ингибиторов синтеза ДНК - чувствительны к нитрозоалкилмочевинам. Это послужило основанием для разработки терапевтических схем, где сочетаются Нитрозоалкилмочевины с другими цитостатиками.
171
Совместное применение НММ с препаратами разных групп (циклофосфан, метотрексат, 5-фторурацил, блеомицин, адриамицин, цисплатин и др.) дало усиленный положительный эффект.
В современной клинической противоопухолевой химиотерапии нитрозоалкилмочевины - одна из основных и широко используемых групп в лечении ряда злокачественных опухолей3.
За время, прошедшее с момента начала клинических испытаний НММ, препарат был применен более чем у 10 тыс. больных различными опухолями. В настоящее время его назначают в случаях лимфогранулематоза, лимфосаркомы, меланомы, мелкоклеточного рака легкого.
Результаты лечения больных лимфогранулематозом НММ позволяют считать ее одним из наиболее эффективных терапевтических средств при этом заболевании. Применение ее в виде монохимиотерапии у 48 больных лимфогранулематозом IIБ-IVБ стадий привело к выраженному объективному улучшению у 38 (79%) больных, при этом у 12 больных отмечены полные ремиссии, продолжающиеся в среднем 6,5 месяца, а у отдельных больных несколько лет. Особого внимания заслуживает тот факт, что НММ одинаково эффективна как у больных, ранее не получавших химиотерапию, так и у больных, многократно леченых разными препаратами и облучением и ставших к ним резистентными. Эти клинические данные подтверждают заключение, сделанное на основании экспериментальных исследований, об отсутствии перекрестной резистентности между НММ и цитостатиками других классов.
Разработаны и испытаны различные схемы комбинированной химиотерапии лимфогранулематоза, включающие НММ. Согласно обобщенным данным ряда исследований применение таких схем у 163 больных привело к полным ремиссиям у 73 (45%) больных и частичным ремиссиям (уменьшению размеров опухолевых узлов более чем на 50%) - у 42 (26%). Полные ремиссии в результате такой комбинированной химиотерапии продолжались в среднем 1,5 года, у ряда больных - более 5-15 лет.
Близкая эффективность нитрозометилмочевины отмечена при лечении больных лимфосаркомой. И в этом случае отсутствует перекрестная резистентность с другими препаратами, применяемыми для лечения этой опухоли.
Важное значение имеет положительное действие НММ при лечении больных меланомой. Эта опухоль нечувствительна практически ко всем современным препаратам, и потому ее терапия представляет в настоящее время серьезную проблему. Применение НММ у 81 больного с генерализованной меланомой кожи привело к объективному эффекту у 19 больных, в том числе у 7 (9%) отмечено полное исчезновение всех проявлений заболевания. Различные схемы комбинированной химиотерапии, включающие меланомы, сопровождались полной (924 больных) и частичной (46 больных) ремиссией. Несмотря на, казалось бы, скромные цифры, на самом деле они свидетельствуют о значительной ценности НММ для современной противоопухолевой химиотерапии, посколь-
3Дементьева Н.П. Нитрозометилмочевины в клинической химиотерапии злокачественных опухолей // Вопросы онкологии. 1988. № 1. С. 8-17.
172
ку для этого контингента больных практически не было иного способа лечения. Для больных мелкоклеточным раком легкого НММ - также один из наиболее активных препаратов как в монохимиотерапии, так и в различных комбинациях с другими препаратами.
Клиническое применение НММ подтвердило высокую способность препарата проникать через гематоэнцефалический барьер и воздействовать на опухоли центральной нервной системы. Описано довольно много случаев эффективного действия НММ при метастатическом поражении головного и спинного мозга у больных лимфогранулематозом, лимфосаркомой, мелкоклеточным раком легкого, меланомой. Терапевтический эффект заключается в купировании или значительном уменьшении клинических проявлений поражения ЦНС, вплоть до ликвидации параличей и парезов.
Многие аспекты клинического применения нитрозометилмочевины требуют дальнейших исследований. Необходимы специальное изучение эффективности НММ при первичных опухолях головного мозга, разработки новых схем комбинированной химиотерапии опухолей с уже доказанной чувствительностью к препарату, поиски дозовых и временных режимов применения препарата с учетом данных, полученных при экспериментальных исследованиях последних лет.
Более 30 лет прошло с того времени, когда И.А. Рапопорт предложил применять супермутагены в качестве противоопухолевых средств. Вплоть до последних дней жизни он активно интересовался, как идут дела с исследованием нитрозометилмочевины, с внедрением препарата в практику. Годы не только подтвердили справедливость и перспективность выдвинутой им идеи, но и принесли реальную пользу сотням больных людей, что, как мне кажется, И.А. Рапопорт считал одним из главных своих достижений, хотя прямо об этом никогда не говорил.
Ю.А. Ревазова
МУТАГЕНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ1
Химический мутагенез зародился еще в 1932 г., и это не оговорка: В.В. Сахаров, М.Е. Лобашев впервые продемонстрировали способности химических веществ, таких как уксусно-кислый свинец, йодистый калий и ряд других, вызывать мутации на классическом генетическом объекте - дрозофиле2. И хотя эффекты были невелики (превышающие спонтанный темп мутирования в 2-3 раза), тем не менее у ионизирующей радиации появился соперник. Достойным этот соперник стал много поз-
1 Ранее опубликована в журнале "Природа" (1997. № 1. С. 35-39).
2Лобашев М.Е., Смирнов Ф.А. К природе действия химических агентов на мутационные процессы у Drosophila melanogaster // ДАН СССР. 1934. Т. 3. Вып. 3. С. 307; Сахаров В.В. Йод как химический фактор, действующий на мутационный процесс у Drosophila melanogaster // Биол. журнал. 1932. Т. 1. С. 1-8.
173
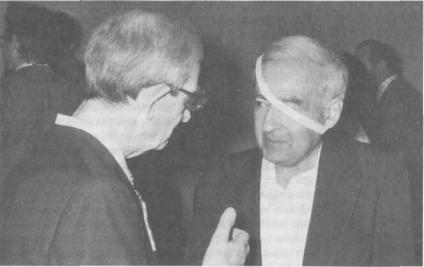
И.А. Рапопорт и академик Ю.Б. Харитон (80-е годы)
же - в середине 40-х годов, когда научная общественность получила возможность практически одновременно ознакомиться с работами И.А. Рапопорта и Ш. Ауэрбах, которые открыли сильные мутагены - формальдегид и азотистый иприт3. Именно середина 40-х годов считается периодом открытия химического мутагенеза, истинной датой его рождения.
Как у всякой настоящей науки, в химическом мутагенезе тесно переплетены теоретическое и практическое направления, причем эта связь проявилась очень рано и в основном благодаря удивительной способности И.А. Рапопорта предвидеть области применения его открытий. Обнаружив мутагенную активность у определенных химических соединений, он обратил внимание на возможную их опасность в случае, когда эти соединения или их производные окажутся в контакте с людьми или вообще в биосфере; тем самым И.А. Рапопорт заложил основы направления "Мутагены окружающей среды".
Уже с конца 50-х годов, работая в одном из ведущих химических институтов страны, Иосиф Абрамович проявил поистине героическое мужество, первым возвысив голос против обвальной, модной в те годы, всеобъемлющей химизации. Он организует работу по проверке новых и впервые синтезируемых органических растворителей, лаков и красок в форме договоров с отраслевым Всесоюзным научно-исследователь- ским институтом органических покрытий и красителей. И.А. Рапопорт
3Auerbach Сh., Robson G.M. Chemical Production of Mutation // Nature. 1946. Vol. 157. P. 302; Рапопорт И.А. Карбонильные соединения и химический механизм мутаций // ДАН
СССР. 1946. Т. 54. № 1. С. 65.
174
был единственным не только в СССР, но и в мире ученым, который тогда уже забил тревогу по поводу развертывавшейся химизации сельского хозяйства, заявив на страницах научных публикаций, в средствах массовой информации решительный протест использованию ядохимикатов, пестицидов, дефолиантов и даже неразумному увлечению минеральными удобрениями. Лишь 15 лет спустя мировая наука обратилась к этой проблеме, и приоритет И.А. Рапопорта в ней был признан - его избрали вице-президентом Первого ежегодного европейского конгресса по мутагенам окружающей среды в г. Амстердаме в 1972 г.
Первые проверки на возможную мутагенную активность пищевых добавок и лекарственных препаратов были осуществлены, начиная с 1960 г., сотрудниками И.А. Рапопорта - Г.И. Ефремовой, Л.М. Филипповой и др.4 Особенно много внимания уделял Рапопорт психотропным препаратам, скрининг которых как возможных мутагенов осуществлялся в его лаборатории непрерывно вплоть до последних дней его работы. С теоретической точки зрения химический мутагенез стал прекрасным инструментом решения проблем структуры и функционирования генетического материала. Практический же аспект заключался в конструировании тестсистем для выявления всех возможных типов мутаций, индуцируемых изучаемыми веществами, поскольку одного объекта и единой методики для одновременного тестирования генных, хромосомных и геномных мутаций нет. Последнее соображение стало базовым для огромного числа методических руководств и монографий ученых разных стран.
В 60-е и 70-е годы в нашей стране были созданы методические руководства по оценке потенциальной мутагенной опасности промышленных загрязнителей, пестицидов, правда, большая часть их получила правовую основу позже. Однако при определении этой опасности помимо установления предельно допустимых концентраций химических веществ в питьевой воде, атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны, в пищевых продуктах необходимо помнить и о так называемых отдаленных последствиях, т.е. изучать мутагенную, канцерогенную, тератогенную активности этих соединений.
Долгий аналитический период в прикладном химическом мутагенезе сменился периодом обобщения накопленных данных, в результате чего были сформулированы новые научные проблемы и задачи. В первую очередь к ним относится проблема комбинированного мутагенного воздействия. Действительно, трудно представить себе, чтобы человек подвергался воздействию только одного химического вещества, даже когда он находится в условиях лекарственной монотерапии. Человек дышит атмосферным воздухом, в котором содержится десяток мутагенов и канцерогенов, он пьет водопроводную воду, в которой после хлорирования могут образоваться тригалометаны, обладающие выраженной мутагенностью и канцерогенностью. Кроме того, мы все используем предметы бытовой химии, а в воздухе жилых помещений присутствует формальдегид.
4Ревазова Ю.Л. Гигиеническое значение исследования генетической активности промышленных соединений. Канд. дисс. М., 1967.
175
Помимо тригалометанов, которые были обнаружены еще в 1974 г., к настоящему времени в питьевой воде выявили немало других соединений, которые обладают мутагенной и канцерогенной активностью. Есть мутагены в воде плавательных бассейнов, в сточных водах (промышленных и бытовых), а также в тканях рыб и гидробионтов, населяющих загрязненные водоемы. Ясно, что в организм человека мутагены могут поступать не только с питьевой водой, но и с пищевыми продуктами. Тестирование продуктов питания на мутагенность привело к выявлению многих мутагенов: природных ингредиентов (флавоноиды, фураны, гидразины), пищевых контаминантов (пестициды, микотоксины) и мутагенных соединений, образующихся в процессе приготовления пищи. Этот список можно продолжить. Стало очевидным, что нельзя ограничиваться изучением мутагенных свойств отдельных веществ. Необходимо оценивать суммарное загрязнение всех компонентов окружающей среды. Была создана и в значительной степени стандартизирована методическая база исследований, разработана методология мониторинга загрязнения окружающей среды генотоксикантами, причем такого рода работы ведутся не только за рубежом, но и в нашей стране5.
Влияние комплексного загрязнения на здоровье человека трудно предсказать. Связано это с тем, что составляющие это загрязнение химические вещества могут взаимодействовать по-разному, ослабляя или усиливая действие друг друга. Причем надо учитывать, что по-разному они ведут себя как в окружающей среде, так и в организме человека, детоксицирующие биохимические системы которого работают индивидуально. Нельзя забывать и об одновременном возможном воздействии различных физических (СВЧ, ионизирующие излучения, ультрафиолет и т.д.) и биологических (вирусные и бактериальные инфекции, состояние физиологического и психоэмоционального стресса и пр.) факторов внешней и внутренней среды человека6. Более того, сложность решения этой проблемы усугубляется нерешенностью других, тесно с ней связанных проблем: модификации мутационного процесса, генетического гомеостаза и репарации генетических повреждений. Пожалуй, именно эти направления научных и научно-практических исследований привлекают в последние годы ученых всех стран. Действительно, представим себе вполне здорового человека, который столкнулся в процессе трудовой деятельности, например, с солями кадмия. Даже малые (относительно порога чувствительности генома) дозы могут стимулировать системы репарации генетических повреждений, и в случае, если возникают предмутационные изменения, - они устраняются. Другие дозы этого или другого мутагена, угнетающего репарацию, могут вызвать уже необратимые мутации. Более того, среди физиологически активных веществ ученые сейчас выделяют специальный класс - модифика-
5Соколовский В.В., Журков B.C. Методические указания по экспериментальной оценке суммарной мутагенной активности загрязнений воздуха и воды. М., 1990; Бочков Н.П., Чеботарев А.Н. Наследственность человека и мутагены внешней среды. М., 1989.
6Мутагены и канцерогены окружающей среды и наследственность человека. Материалы международного симпозиума. М., 1994.
176
торов мутационных процессов, относя к ним вещества, влияющие на стабильность (или дестабилизацию) не только генетических структур, но и таких систем человеческого организма, как иммунная, гормональная, биохимическая, центральная нервная система. И это понятно, поскольку в любом живом организме все взаимосвязано и серьезные сбои в работе одной из систем непременно будут сопровождаться нарушением других, в том числе нарушением генетического гомеостаза. Поэтому оценка реального генетического риска при контакте человека с мутагенами окружающей среды крайне затруднена.
В настоящее время существуют много косвенных подходов, базирующихся в основном на оценке частот соматических мутаций и наследственных болезней у человека, повышении частоты спонтанных абортов и врожденных пороков развития, увеличении онкозаболеваемости, памятуя о высокой (до 85%) корреляции мутагенных и канцерогенных свойств химических веществ. Реальность этих оценок в какой-то степени сомнительна по весьма тривиальной причине - отсутствии длительных комплексных мониторинговых исследований содержания генотоксикантов в окружающей среде генетического здоровья населения.
Я не упомянула еще об одном важном и очень современном направлении научных исследований - об антимутагенезе. Вместе с тем число публикаций, а соответственно работ в этой области, чрезвычайно велико. К сожалению, много раз высказываемые И.А. Рапопортом слова о необходимости исключения мутагенов из среды обитания человека не реализованы, и, видимо, в ближайшее время это практически невозможно. Поэтому поиск веществ, снижающих мутагенные эффекты на уровне стимуляции репарации генетических повреждений, подавлении свободнорадикальных реакций, которые возникают в организме под действием многих мутагенов или на основе иных механизмов, весьма актуален.
Попытаемся подытожить вышесказанное и ответить на вопросы: Чем сейчас живет генетическая токсикология? Каковы основные, еще нерешенные задачи стоят перед ней?
Итак, в первую очередь необходимо изучить комбинированное воздействие химических загрязнений окружающей среды, физических и биологических факторов на генетическое здоровье населения; разработать критерии генетической опасности комплексных загрязнений среды обитания человека и оценить реальность генетического риска. А затем обеспечить разноуровневую защиту генома человека, включающую изменение производственной технологии с целью уменьшения содержания генотоксикантов в среде, учет индивидуального состояния иммунологической, биохимической, гормональной и других систем организма человека, параметров кинетики генотоксикантов в нем, а также поиск и практическое использование специфических и неспецифических антимутагенов.
Трудно в одной статье даже перечислить все те научные направления и проблемы, которые выросли из приоритетных работ и идей Иосифа Абрамовича Рапопорта в области генетической токсикологии. Достаточно сказать, что главный журнал для специалистов-генетиков, работающих в области химического мутагенеза, - "Mutation Research" - регулярно выпу-
177
екает семь специальных номеров, которые включают публикации и обзоры по токсикологической генетике, ДНК-репарации, генетической нестабильности и старению, фундаментальным и молекулярным аспектам мутагенеза и др. Сотни монографий и сотни журналов в разных странах публикуют работы в области химического мутагенеза, значительная часть которых посвящена проблемам генотоксикантов среды и генетического здоровья человека. Безусловно, это научное направление за 50 лет существования химического мутагенеза не только не потеряло своей актуальности, но еще очень долго будет предметом пристального внимания ученых разных стран.
О.Г. Строева
ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ - НОВОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, СОЗДАННОЕ И.А. РАПОПОРТОМ
Особые свойства низких концентраций парааминобензойной кислоты (ПАБК) в качестве полимодификационного фактора, способного активировать большой спектр полезных для организмов биологических процессов на фенотипическом уровне, были открыты И.А. Рапопортом на дрозофиле в 1939 г.1 С середины 70-х годов Иосиф Абрамович вместе со своими сотрудниками начал интенсивное лабораторное изучение свойств ПАБК2, с 1979 г. - полевые испытания (большой личный вклад в эти разработки внесла сотрудница И.А. Рапопорта Н.С. Эйгес), а с 1983 г. - внедрение ПАБК в практику совхозов и колхозов разных областей и республик СССР с целью повышения урожайности за счет активации ненаследственных ресурсов сельскохозяйственных растений и животных. Так возникло новое научно-практическое направление, в котором ПАБК стала главным объектом экспериментальных исследований и теоретических обобщений3 с последующим внедрением результатов в практику.
Это внедрение потребовало со стороны Иосифа Абрамовича гигантских усилий: надо было убедить как практиков применить ПАБК на колхозных и совхозных полях и в личных хозяйствах (что очень скоро встретило большой отклик), так и вышестоящие организации в необходимости налаживания промышленного синтеза ПАБК для использования в сельском хозяйстве всех регионов Советского Союза4. Пос-
1Рапопорт И.А. Фенотипический анализ независимой и зависимой дифференцировки // Тр. ИЦГЭ. М.: Изд-во АН СССР, 1948. Т. 2. Вып. 1. С. 3-135; Онтогенез. 1992. Т. 23. №4-6; 1993. Т. 24. №1, 2.
2Иосиф Абрамович Рапопорт. Биобиблиография ученых. М.: Наука, 1993.
3Рапопорт И.А. Значение генетически активных соединений в фенотипической реализации признаков и свойств // Химический мутагенез в селекционном процессе. М.: Наука, 1987.
4См. приложение V.
178
