
Глава 18
НЕОКЛАССИКА:
АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЙ
МАРЖИНАЛИЗМ
Правильнее говорить не об англо-американской школе маржинализма, а об англо-американском маржинализме, внутри которого возникла кембриджская школа во главе с А. Маршаллом. Но зачинателем английского маржинализма был У. С. Джевонс, резко бросивший вызов классической школе; в противоположность этому Маршалл пытался сгладить различия и подчеркнуть преемственность между классикой и неоклассикой. Синтезный подход обеспечил Маршаллу роль лидера, притягивавшего непосредственных продолжателей, расширявших и углублявших его теоретические построения. Именно теорию Маршалла имел в виду Т. Веблен, когда в статье «Предпосылки экономической науки» (1900) ввел определение «неоклассическая».
Американский маржинализм имел свои особенности сравнительно с английским: Дж. Б. Кларк в анализе проблем производства и распределения как проблем аллокации ресурсов и ценообразования на эти ресурсы был ближе скорее к австрийской школе; а И. Фишер, также в духе австрийской школы уделившей приоритетное внимание теории капитала и процента, был, в отличие от Маршалла (тем более от австрийцев), сторонником явной математизации экономической теории. Кларк и Фишер был предвестниками будущего американского лидерства в неоклассической теории; теория предельной производительности Кларка обеспечила полноту маржиналистской микроэкономики, а денежная теория Фишера подготовила развитие макроэкономики в русле мэйнстрима.
«Механика полезности» У. С. Джевонса и развитие теории обмена Ф. Эджуортом
У. С. Джевонс: путь к обновлению экономической теории. Уильям Стэнли Джевонс (1835—1882), родившийся в Ливерпуле, в молодости уехал подзаработать в качестве пробирщика на Австралийский монетный двор в Сиднее, учрежденный вскоре после открытия в Австралии богатых золотых россыпей. Пребывание на отдаленном континенте не только приучило Джевонса к экономному расчету средств, но и стимулировало его интерес к статистическим методам исследования в связи с увлечением метеорологией и климатологией. Вернувшись в Англию, Джевонс завершил университетское образование в Лондоне и стал профессором логики, философии и политической экономии в Манчестерском университете (1863—1876), а затем в Лондонском университетском колледже (1876—1880). Он был первым после У. Петти экономистом, избранным в Лондонское королевское общество (1872), и получил также широкое признание как автор логико-методологического трактата «Принципы науки» (1874). Научный багаж логика и статистика имел весьма существенное значения для реформирования Джевонсом основ экономической теории.
Ее понимание как математической науки, применяющей дифференциальное исчисление к количественным категориям, связанным с повседневной хозяйственной жизнью (богатство, полезность, ценность, спрос, предложение, труд, капитал, процент), Джевонс изложил впервые в тезисах, присланных в Британскую ассоциацию развития науки (1862) и опубликованных в журнале Лондонского статистического общества (1866). В этих тезисах уже обозначены основы учения Джевонса об обмене, труде и капитале:
общая методологическая предпосылка — модель человека, мотивируемого меняющимися по интенсивности и продолжительности чувствами удовольствия и страдания;
понятие конечной степени полезности (final degree of utility — последнего приращения данного удовольствия), благодаря которому можно вывести закон определения количеств, участвующих в обмене;
акцент на том, что предвосхищение будущего удовольствия или страдания дает степень имеющегося чувства в настоящем, меньшую по интенсивности на некоторую неопределенную функцию от промежутка времени;
субъективная концепция труда как страдания, продолжающегося до тех пор, пока следующее приращение трудового усилия не станет приносить больше отрицательных ощущений, чем приносит удовольствия приращение продукции, полученной таким усилием;
трактовка капитала как фонда средств существования, предоставляемых рабочим, пока они ожидают результатов труда, не дающего немедленного дохода.
Однако тезисы Джевонса не привлекли внимания; репутацию видного экономиста ему принесло прикладное исследование «Угольный вопрос» (1865), с предсказанием утраты Англией промышленного лидерства вследствие лучшей обеспеченности США минеральным топливом.
Джевонс и маржиналистская революция. Появление статьи Ф. Дженкина побудило Джевонса поторопиться с публикацией своей «Теории политической экономии». Она вышла в тот же год (1871), что и основополагающее для австрийской школы сочинение К. Менгера, хотя Джевонс, как мы видели, начал разработку своих идей почти на десятилетие раньше. Сам он, однако, во 2-м издании «Теории политической экономии» (1879) охотно признал приоритет в обосновании предельного анализа за воскрешенным из забвения Госсеном. Формулировки Джевонса об убывании степени полезности последней порции товара и о равенстве конечных степеней полезности при использовании товара двумя различными способами соответствуют тому, что австрийская школа назвала 1-м и 2-м законами Госсена. Джевонс признал также и приоритет Дюпюи в проведении различия между общей полезностью, которой обладает товар, и степенью полезности каждой конкретной его порции.
В свой термин «конечная степень полезности» Джевонс, в противоположность дискретному значению австрийцев, всегда вкладывал смысл добавления именно очень малого или бесконечно малого количества товара к уже имеющемуся его запасу. Расхождение с австрийской школой проявилось также в категории «торгующие стороны». У Джевонса это не только индивидуальные покупатели и продавцы, но также профессиональные группы населения (например, мельники в их обмене с фермерами, у которых они покупают зерно, и с пекарями, которым они продают муку) или целые страны и даже континенты (покупающие, например, у Англии железо и уголь в обмен на зерно).
Джевонс находил многочисленные логические неувязки в политэкономии Дж. Ст. Милля и написал свою работу в вызывающей манере, категорично противопоставляя свою теорию меновой ценности теории издержек производства Рикардо — Милля. Однако не только инерция авторитета классической школы, но и сбивчивость многих аргументов Джевонса вкупе с вызывающей манерой книги обусловили прохладное отношение в Англии к его новаторским идеям.
Учение о полезности и обмене. Понятие «торгующей стороны» приближало теорию Джевонса к реальности рынков, на которых действует множество продавцов и покупателей, и позволяло использовать аппарат дифференциального исчисления для анализа поведения агрегированного, или среднего индивида, которое гораздо более стабильно, чем поведение конкретного субъекта. В пояснениях Джевонса чувствуется влияние теоретической статистики, в которую в то время вошло понятие «массового среднего человека»:
«В долгосрочном плане разнонаправленные случайные и вносящие искажения воздействия нейтрализуют друг друга. При наличии большого числа независимых случаев, мы можем проследить общую тенденцию, даже не ярко выраженную. Соответственно, вопросы, на которые нельзя дать ответ при рассмотрении отдельных случаев, могут вполне быть рассмотрены и решены при переходе к большим числам и охватывающим широкий спектр случаев средним показателям».
«Отдельный индивид не изменяет каждую неделю потребление сахара, масла или яиц бесконечно малыми количествами в зависимости от небольших изменений в ценах. Скорее он будет продолжать потреблять в тех же количествах, что и ранее, пока случай не привлечет его внимания к росту цен, и тогда он, возможно, вообще прервет потребление всех этих товаров на какое-то время. Но агрегированное, или, что то же самое, среднее потребление большого числа людей будет меняться непрерывно или почти непрерывно».
«Краеугольным камнем» для теории обмена Джевонса стал закон, первые формулировки которого содержались уже в тезисах 1860-х гг.: «меновое отношение любых двух товаров равняется величине, обратной отношению конечных степеней полезности количеств товара, доступных для потребления после завершения обмена».
Если торгующая сторона А вначале располагает зерном в количестве а, а торгующая сторона В — говядиной в количестве Ьу обмениваемые количества х зерна и у говядины удовлетворяют уравнениям, достаточным для определения результатов обмена:
Fx{а-х) _У_ F2(x)
Gx(y) X G2(b-y)
Эти уравнения обмена Джевонса соответствуют 2-му закону Госсена и могут быть записаны как
Ft(a-X) _ dy и F2(x) dy Gx{y) dx G2(b-y) dx
«Отрицательная полезность* труда и «цепочка Джевонса*. В соответствии с «арифметикой счастья» Бентама Джевонс рассматривал труд как «болезненное напряжение ума или тела, претерпеваемое, полностью или частично, ради получения будущего блага». Труд — не более чем средство достижения какого-либо удовольствия, и всегда сопровождается страданием — отрицательной полезностью {negative utility), или антиполезностью {disutility). Отрицательная полезность быстро возрастает как некоторая функция интенсивности или продолжительности труда, который будет продолжаться до тех пор, пока последующее приращение не станет приносить больше страданий, чем приносит удовольствия приращение продукции, полученной таким образом. В этот момент труд, превысив свою «предельную тягость», будет прерван.
Через категорию отрицательной полезности Джевонс допускал издержки производства как косвенный фактор формирования меновой ценности товаров. Пока отрицательная полезность труда не превысит его субъективную «предельную тягость», будут расти издержки производства, увеличивая дополнительное предложение блага. Джевонс сформулировал последовательность зависимостей, получившую известность как «цепочка Джевонса*: издержки производства определяют предложение -» предложение определяет последнюю степень полезности -» последняя степень полезности определяет ценность.
Цепочка Джевонса соединяла его теорию обмена с теорией труда и производства: количество, которое производит каждый человек, будет зависеть от результата обмена, поскольку это может значительно изменить условия полезности получаемых благ и отрицательной полезности труда.
Концепция отношений труда и капитала. Завершающим разделом теории Джевонса стало его учение о капитале и проценте. Джевонс выводил капитал из того факта, что большинство усовершенствованных способов приложения труда требует, чтобы обладание результатом было бы отсрочено. Функция капитала состоит в поддержке труда до завершения изготовления конечной продукции, от которой можно получить доход. Поддержка принимает форму заработной платы, расходуемой на полезные предметы, которые, удовлетворяя все обычные желания и потребности рабочего, дают ему возможность заняться теми видами работ, результат которых будет отсрочен на более или менее продолжительный период времени. Таким образом, капитал «авансирует» труд на время от начала осуществления производственного проекта до момента реализации произведенных товаров.
Поскольку труд «поддерживается» некоторым капиталом, ставка процента, по мнению Джевонса, всегда определяется отношением, в котором находится дополнительное приращение продукции к приращению капитала, которым оно было произведено, причем количество капитала Джевонс предлагал оценивать исключительно совокупностью средств существования рабочих, не включая здания, орудия и материалы. Капитал, употребляемый на занятость рабочих, применим к любой отрасли, тогда как средства производства «обычно применимы только к тому, для чего они были предназначены», и доход, который они приносят, подобен рентному доходу от земли, а не проценту на капитал. Джевонс не был противником профсоюзов, считая их средством достижения равновесия при заключении трудового договора и выступал за участие рабочих в прибылях предприятий. Однако он считал, что конфликт с капиталистами не в интересах рабочих, поскольку расширение капиталистического производства обеспечивает увеличение занятости и количества средств существования рабочих. Отрицая трудовую теорию ценности, Джевонс «перевернул» рикардианскую модель распределения доходов, оставляя на долю заработной платы то, что получается после «вычета из продукта труда» ренты, налогов, страховой премии за риск и процента на капитал.
Развитие теории обмена Ф. Эджуортом. Фрэнсис Исидро Эджуорт (1845—1926), уроженец Ирландии, сыграл в истории экономической науки важную роль не только как теоретик, но и как первый (с 1891) и многолетний редактор «Экономического журнала» — первого в Англии профессионального журнала экономистов, издаваемого Королевским экономическим обществом, основанным в 1890 г. Можно сказать, что наряду с его немного более старшим по возрасту современником А. Маршаллом Эджуорту принадлежит главная заслуга в создании языка профессионального сообщества экономистов, оперирующих математическим инструментарием. Однако Эджуорт, весьма плодовитый автор, обогативший математическую оснастку маржинализма целым рядом нововведений, в том числе получивших его имя («коробка Эджуорта», «теорема Эджуорта», «парадокс Эджуорта»), не написал ничего похожего на обобщающий трактат-учебник Маршалла. Кроме того, в работах Эджуорта, включая две его первые книги «Новые и старые методы этики» (1877) и «Математическая психика» (1881), довольно сложный математический аппарат перемешан с греческими и латинскими фразами (типа «интересы обеих сторон adversd pygnantia froute вдоль всей контрактной кривой») и отрывками из английской классической литературы. Это сделало тексты затруднительными для восприятия.
На авторском своеобразии Эджуорта сказалось его образование: первоначально филологическое, оно в связи с интересом к перспективам математизации гуманитарных наук было дополнено несколькими годами самостоятельного изучения математики. В молодости тщетно пытавшийся получить место профессора классических языков и философии, Эджуорт в итоге (с 1891) стал профессором политической экономии Оксфордского университета. Его важнейшие статьи и обзоры были собраны в три больших тома «Трудов в области политической экономии», изданные Королевским экономическим обществом под редакцией самого Эджуорта в предпоследний год его жизни (1925).
Самая известная из книг Эджуорта — «Математическая психика» — обосновывала применение дифференциального исчисления к экономической теории и к этике утилитаризма. Центральная проблема «экономического исчисления» была сформулирована Эджуортом как равновесие в системе гедонистических действий, каждое из которых направлено на максимизацию индивидуальной полезности.
Действуя исключительно исходя из собственного интереса, экономические агенты заключают контракты. Контракт определяется как тип действий агента «в согласии с другими, которых его действия затрагивают». Проблемой является определенность контрактов. Общий ответ состоит в том, что контракт в отсутствие конкуренции является неопределенным; контракт при совершенной конкуренции является определенным; контракт в условиях не вполне совершенной конкуренции в меньшей или в большей степени неопределен. Чтобы показать это, Эджуорт ввел математический аппарат контрактной кривой и кривых безразличия, который был позднее усовершенствован Парето в модели, названной «коробка Эджуорта».
Теоретический синтез А. Маршалла: преемственность и новаторство
Маршалл: классик неоклассики. Альфред Маршалл (1842—1924), ставший центральной фигурой завершающего этапа маржиналистской революции, был наименее «революционером» из всех ее «творцов» и единственным, кто начал профессиональную деятельность как преподаватель-математик. Но, будучи более сведущим в математике, чем Джевонс и Вальрас, Маршалл считал, что математический аппарат, эффективный для получения четкой картины функциональных связей в экономике, может отвлечь в сторону и помешать разглядеть реальные проблемы и органические закономерности хозяйственной жизни. Эта позиция МаршаллаI отражала его опасения, что математизация экономической теории может увести ее в мир гипотетических и поверхностных конструкций, не пригодных для экономической повседневности. В своих «Принципах экономической науки» («77ге Principles of Economics»), ставших «новым заветом» экономической теории, Маршалл поместил диаграммы, графики и формулы в подстрочные примечания и математическое приложение.
Современник жарких дебатов вокруг эволюционных доктрин (Дарвина — Уоллеса в биологии и Конта — Спенсера в социологии), Маршалл считал необходимым для экономической науки уделять большее внимание изменчивости человеческой природы, понимать стадиальность органической жизни и несводимость к механическим элементам. Маршалл приветствовал усилия экономистов германской исторической школы (несмотря на их националистические преувеличения) по сравнительно-историческому изучению экономических обычаев и институтов в этическом и правовом контексте. Правда, выступая против отрыва абстракции «экономического человека» от «человека во плоти и крови», сам Маршалл не преуспел в реализации предпосылки о широте проявлений человеческой природы: его «нормальный» хозяйствующий субъект, подсчитывающий выгоды и невыгоды конкретных действий, мало отличается от модели рационального максимизатора.
Маршалл не принимал ни «узколобого презрения» немецких экономистов, ни критической остроты Джевонса по отношению к доводам классической школы; он проявил себя как лидер, считавший своим долгом поддержание национальной традиции. Скуповатый в признании вклада ближайших предшественников (Джевонса, Менгера, Вальраса, Дюпюи, Дженкина), он настойчиво подчеркивал свою преемственность с «великими» — число ссылок на Смита, Рикардо и Милля в «Принципах» Маршалла превосходит количество упоминаний всех маржиналистов, вместе взятых.
Но все же в заглавии «Принципов» Маршалл, подчеркнув отличие от «political economy» классиков, вынес понятие «economics». Впервые он использовал этот термин в названии учебника «Экономия промышленности» («Economics of Industry»), написанного (1879) в соавторстве с женой, своей бывшей ученицей Мэри Пэйли. С публикацией своего главного труда «The Principles of economics» (1890) Маршалл сильно затянул, стремясь к возможно более тщательной «смазке» своих теоретических конструкций. Зато сразу после выхода «Принципов» он был признан «новым Рикардо» (М. Панталеони), а позднее — основателем современной графической экономической науки (Дж. М. Кейнс), теоретиком, который больше, чем любой другой из маржиналистов, «указывал в будущее» (Й. А. Шумпетер).
В противоположность основоположникам маржиналист- ской революции и таким ярым полемистам ее второго этапа, как Бем-Баверк и Парето, Маршалл избегал споров. Использование им исторического материала вызвало резкую критику ведущего в Англии представителя исторического направления (не сложившегося, в отличие от Германии, в отдельную школу) У. Каннингема (1849—1919), тоже профессора в Кембридже. Каннингем озаглавил свою рецензию на Маршалловы «The Principles of economics» в «Экономическом журнале» не иначе, как «Искажение экономической истории» (1892). Маршалл не пошел на британский вариант германского «спора о методах», а лишь перенес в переизданиях исторический материал в приложения.
Сказанное о стиле научной деятельности Маршалла позволяет отметить полное соответствие выделенным его современником В. Оствальдом1 (одним из первых Нобелевских лауреатов) типологическим чертам ученого-«классика». Это: выбор темы исследования на долгие годы, терпеливое и настойчивое углубление в проблему, скрупулезность и т.д. — в отличие от порывистости «романтика» (Джевон- са, например), склонного прибегать к дерзким гипотезам, методу проб и ошибок, быстро переходить от одной области исследований к другой. Научные результаты неторопливого классика солидны и очевидны, предопределяют сполна и точно, куда двинутся последователи.
Маршалл — основатель Кембриджской школы. Международная известность Маршалла долгое время была гораздо меньше, чем у других теоретиков маржинализма. Например, во Франции III. Жид и Ш. Рист упомянули Маршалла лишь в комментариях в конце «Истории экономических учений» в связи с его концепцией потребительского излишка. В России в статье «Политическая экономия» (1898) знаменитого Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона Маршалл был причислен к ряду «тех последователей классической школы, которые держались ее методологических приемов и основных принципов, но освободились от некоторых ее преувеличений и односторонностей», а в статье «Ценность» (1901) даже не был упомянут. Позднее (1922!) российский историк-экономист С. И. Солнцев назвал Маршалла английским представителем «этического направления» в политэкономии .
Но со временем стало ясно, что Маршалл создал «подлинную школу, члены которой мыслили в рамках хорошо разработанного научного инструментария и подкрепляли свою связь с ней сильной личной сплоченностью»I II III. Он собрал вокруг себя последователей в Кембриджском уни
верситете, который закончил (1865), первоначально собираясь посвятить себя физике, и где преподавал затем этику и политэкономию. Сдвиг в научных интересах произошел под влиянием дискуссий в интеллектуальном клубе, куда входили выдающийся математик и физик Уильям Клиффорд (1845—1879) и политический философ Генри Сиджу- ик (1838—1910). Маршалл придавал большое значение статистике и прямым жизненным наблюдениям; он посещал бедные кварталы Лондона, чтобы составить представление о распределении материального достатка среди населения, а во время поездки в США (1875) исколесил многие штаты, чтобы оценить перспективы промышленного лидерства этой страны, тогда применявшей политику протекционизма.
Заведуя кафедрой политической экономии (1885—1908) в Кембридже, Маршалл разрабатывал тот самый аппарат, который был подхвачен его учениками и стал основополагающим для микроэкономического анализа: кривые спроса и предложения; понятия равновесной цены, эластичности, фирмы как совершенного конкурента, эффекта масштаба, предельных издержек и т.д.
«Ножницы» Маршалла: символ перехода от классики к неоклассике. Настаивая, что он является, прежде всего обновителем доктрины классической школы, «содержавшей много истин, которые, очевидно, будут сохранять свое значение, пока существует этот мир», Маршалл нашел соединительное звено между теорией трудовой ценности Рикардо, придававшего чрезмерное значение издержкам производства, и теорией «конечной полезности» ниспровергателя Джевонса, сводившего основу экономической науки к теории потребления.
Этим звеном стало введение фактора времени: различение рынков «по длительности периода, который отводится силам спроса и предложения на то, чтобы достигнуть состояния равновесия». Чем короче рассматриваемый период, тем больше определяющими для механизма ценообразования являются предельная полезность и спрос, подчиняющиеся законам Госсена. Чем период продолжительнее, тем большее значение приобретают издержки производства, определяющие предложение.
Маршалл применил эффектное наглядное сравнение: два лезвия ножниц. Этому двусоставному режущему инструменту подобны принцип издержек производства и принцип «конечной полезности», являющиеся составными частями одного всеобщего закона спроса и предложения.
Взмахом «двух лезвий ножниц» Маршалл, образно говоря, «разрезал ленточку» на дороге от классической к «неоклассической» теории механизма ценообразования. Стержнем «классики» было разграничение ценности как внутренней основы и колеблющихся вокруг нее рыночных цен. «Неоклассика» отказалась от проведения «границы между нормальными ценностями» и «текущими», или «рыночными», или «случайными». Последние — это такие виды ценностей, на образование которых преобладающее влияние оказало сложившееся к данному моменту стечение обстоятельств, тогда как нормальными являются такие ценности, которые «в конечном счете сформировались бы, если бы рассматриваемые экономические условия располагали временем, чтобы без помех развернуться во всю силу».
Преемственность и новаторство в теории полезности и спроса. В области собственно теории спроса сочетание преемственности и новаторства проявилось в развитии Маршаллом намеченного в работах предшественников мар- жинализма (Курно, Тюнена, Госсена, Дюпюи и Дженкина) формализованного подхода к характеристике малых приростов цен какого-либо товара в качестве величин, измеряющих соответствующие малые приросты доставляемого этим товаром удовлетворения.
Маршалл, по его собственным словам, «перевел на язык цен» закон насыщаемых потребностей или убывающей полезности (1-й закон Госсена), связав его с введенной Курно кривой спроса, выражающей наблюдаемую обратную зависимость сбыта товаров от их цены. Спрос можно выразить точно лишь посредством шкалы цен, по которым человек готов купить различные количества; такую шкалу можно изобразить в виде кривой на координатной оси. Курно, а чуть позже Дюпюи помещали независимую переменную, цены, на оси абсцисс, а зависимую переменную, количество, на оси ординат; Маршалл перевернул этот порядок, чтобы закрепить одну и ту же ось для функций индивидуального спроса и рыночного спроса.
Переходя от индивидуального спроса к динамике общего спроса на крупных рынках, где покупают люди разного достатка, Маршалл впервые дал развернутое обоснование категории эластичности спроса, намеки на которую содержались в работах Курно и Дженкина.
Категория эластичности спроса. Степень эластичности, или быстрота изменений спроса на рынке зависит от того, в какой мере объем спроса возрастает при данном снижении цены или сокращается при данном ее повышении. Маршалл разграничил эластичность спроса по цене и эластичность спроса по доходу, отметив, что четкое представление о законе эластичности спроса можно получить лишь с учетом деления общества на бедные, средние и богатые классы. Как правило, эластичность спроса сокращается по мере снижения цен; существуют товары широкого потребления, снижение цен на которые уже не вызовет значительного увеличения их потребления (соль, некоторые виды приправ и специй). Однако спрос на многие продукты питания, шерсть, табак, обычные медицинские услуги эластичен для большинства (рабочих и среднего класса), но не для богатых классов; а на «умеренно дорогие деликатесы» — абрикосы и тому подобные фрукты, лучшие виды рыб — спрос высоко эластичен для среднего класса, но намного менее эластичен со стороны богатых, у которых спрос уже почти насыщен, и со стороны бедных, для которых цены еще слишком высоки.
Отмечая, что спрос на наиболее дорогие продовольственные товары — это фактически спрос на средства достижения общественного престижа и почти не поддается насыщению, Маршалл в качестве примера товара, эластичность спроса на который возрастает для групп с меньшими доходами, приводит зеленый горошек. Спрос со стороны богатых на этот продукт неэластичен; эластичность спроса среднего класса сокращается по мере снижения цены; спрос бедных и при низких ценах остается эластичным. Этот эффект «раздельного спроса» Маршалл иллюстрировал тремя кривыми спроса для разных классов (рис. 18.1).
Рис.
18.1.
Кривые спроса богатых, среднего класса
и бедных на зеленый горошек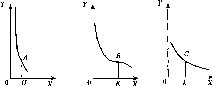
Маршалл указал и на эффект перекрестной эластичности: зависимость спроса на данный товар от цен на другие товары в случае возможности замены потребления одного товара потреблением другого (чай и кофе, разные сорта мяса и т.п.) или необходимости дополнения одной вещи другой (без которой первая оказывается бесполезной).
Касаясь общих закономерностей эластичности спроса, Маршалл заключил, что наименее эластичным является, во-первых, спрос на товары «абсолютной жизненной необходимости» и, во-вторых, на те предметы роскоши, которые не занимают большой части дохода богатых; а наиболее эластичным — спрос на те вещи, которые имеют большое число способов применения.
Категория потребительского излишка. Установив понятие предельной цены спроса, которую покупатель готов заплатить за наименее полезную для него единицу данного товара, Маршалл далее отметил, что существует много товаров и видов удобств, доступных для потребителя по ценам существенно ниже тех, которые он согласился бы платить, только чтобы вовсе не обходиться без данных продуктов и услуг. Разница между ценой, которую потребитель готов был бы уплатить, лишь бы не обойтись без данной вещи, и той ценой, которую он фактически за нее платит, представляет собой «экономическое мерило добавочного удовлетворения», или потребительский излишек (потребительский избыток).
Категорию потребительского излишка, по существу, первым описал Ж. Дюпюи, обозначив ее как «относительную полезность» от коллективно потребляемых товаров. Маршалл не только ввел термин, получивший широкое распространение, но и рассмотрел категорию потребительского излишка в контексте влияния на благосостояние человека складывающейся обстановки, или конъюнктуры.
Потребительский излишек — это превышение общей полезности от данного блага над предельной полезностью, умноженной на число единиц блага. Маршалл взял в качестве примера чай, покупаемый для домашнего потребления. Покупатель готов приобрести 1 фунт чая при цене 20 шиллингов за фунт в год; при цене 14 шиллингов — уже 2 фунта; 3 фунта при цене 10 шиллингов; 4, 5, 6 и 7 фунтов при снижении цены до соответственно 6, 4, 3 и 2 шиллингов. Таким образом, при рыночной цене 2 шиллинга за фунт покупатель за 14 шиллингов приобретет 7 фунтов, каждый
из которых составит для него ценность не менее 20, 14, 10, 6,4,3 и 2 шиллингов — в сумме 59 шиллингов. Данная сумма представляет собой мерило общей полезности для покупателя, а разность между ней и фактически уплаченными 14 шиллингами (59 - 14 = 45) — его потребительский излишек, избыточное удовольствие от сложившейся конъюнктуры.
Преемственность и новаторство в теории издержек и предложения. Организация как фактор производства.
Отмечая, что политэкономы, определяя свой предмет как науку о производстве, распределении, обмене и потреблении богатства, «несколько пренебрегали» проблемой спроса и потребления, Маршалл не принял и категоричной формулировки Джевонса о теории потребления как основе экономической науки, подчеркнув значение исследования «усилий и деятельности» в сфере производства. Более того, Маршалл, по сути, довольно бегло коснулся вопроса о человеческих потребностях, отметив, что они в своем разнообразии не исчерпываются материальными и включают различные степени «жажды признания» и стремления к совершенству. Гораздо более подробным было рассмотрение факторов производства, к которым Маршалл отнес землю, труд, капитал и организацию, уделив главное внимание последней. Трактовке Маршаллом организации как фактора производства присущи три главные особенности.
Маршалл, на основе философских обобщений биологов и социологов его времени (Э. Геккель, Г. Спенсер, А. Шеффле), дополнил классический анализ разделения труда постановкой вопроса об органических закономерностях дополнения возрастающего разделения функций — дифференциации — усилением глубины и прочности связей, интеграцией. В экономике дифференциация проявляет себя в развитии специализированных квалификаций и машин, тогда как интеграция проявляется в развитии коммерческого кредита и средств сообщения (морской и шоссейный транспорт, железные дороги, телеграф, почта, печать).
Организация в интерпретации Маршалла, по существу, совпадала с предпринимательской функцией в ее различных проявлениях. Маршалл с удовлетворением отмечал, что уходит в прошлое существовавший в Англии «своеобразный антагонизм между научными исследованиями и предпринимательской деятельностью», и отлаживал свою систему теоретических категорий, рассчитывая на ее доступность для бизнесменов и интерес для деловой практики, основательно вникая в прикладные, особенно отраслевые, аспекты.
Анализ фактора организации подвел Маршалла к выводу, что увеличение объема затрат труда и капитала обычно ведет к усовершенствованию организации, что обеспечивает в несырьевых отраслях возрастающую отдачу от масштаба, или снижение издержек на единицу продукции. Эта тенденция противодействует тенденции, которую задает природа в земледелии (к сокращению отдачи от дополнительных вложений капитала и труда) и из которой Рикардо поторопился вывести свой фатальный закон давления роста численности населения на средства существования.
Закон возрастающей отдачи действует, «почти не встречая сопротивления», в большинстве сложных отраслей обрабатывающей промышленности и в большинстве транспортных отраслей. Маршалл отводил транспорту первенствующее значение в «общем воздействии экономического прогресса», отмечая, что приобщение к прогрессу все новых стран, стимулируемое низкими транспортными тарифами, почти прекратило действие «закона убывающей доходности» в том смысле, который подразумевался пессимистами Мальтусом и Рикардо во времена, когда двухнедельной зарплаты рабочих не хватало на бушель хорошей пшеницы.
Тенденция к возрастающей отдаче обусловлена эффектами, которые Маршалл суммирует в категориях внутренней и внешней экономии от масштаба. К внутренней экономии Маршалл отнес снижение издержек и, соответственно, рост предложения благодаря применению на предприятии специализированных технологий и квалификаций, включая подбор кадров с «неординарными способностями и усердием», привлечение и закрепление клиентуры, облегчение доступа к кредиту, уменьшение трудностей сбыта (маркетинга). Внешняя экономия зависит от общего развития отрасли и от общего прогресса среды, в которой действует отрасль, и связана прежде всего с удешевлением средств сообщения и облегчением доступа к производственно-технической и коммерческой информации.
Экономическая история, особенно XIX в., дала Маршаллу эмпирическое основание на протяжении всего трактата акцентировать (с настойчивостью большей, чем А. Смит веком ранее) ключевое значение снижения транспортных
издержек. Эта мысль вела к принципиальному выводу, что чем совершеннее рынок, «тем сильнее тенденция к тому, чтобы во всех его пунктах в один и тот же момент платили за один и тот же предмет одинаковую цену». На предпосылке выравнивания цен на данный товар в условиях свободной конкуренции на отраслевом рынке Маршалл построил свой анализ равновесной цены.
Метод частичного равновесия и влияние фактора времени в концепции А. Маршалла
«Крест Маршалла». Метод частичного равновесия.
Сравнение свободного ценообразования с «двумя лезвиями ножниц» было развито Маршаллом в обосновании категории щена предложения» (цена, которую «надо уплачивать за надлежащее предложение усилий и жертв, необходимых для производства данного товара») и в графическом изображении кривых спроса и предложения, точка пересечения которых показывает равновесную рыночную цену (рис. 18.2).
Г
Товар

Маршалла» — модель равновесной цены
рафик, на котором равновесная цена представлена как «гвоздь» решения проблемы взаимодействия полезности и издержек производства в ценообразовании, напоминает, по своему виду, ножницы и получил название «креста Маршалла». Чем ниже цена, тем больше потребительский спрос, но одновременно тем менее привлекательно производство этого товара и его предложение будет сокращаться. И наоборот: при высокой цене доходный товар привлекателен для многих производителей, но и многие потребители воздерживаются от покупок.Маршалл рассматривал скрещение интересов потребителей с действиями производителей отдельной отрасли, поэтому его анализ отношений спроса и предложения, полезности и издержек применительно к данному товару был назван методом частичного (по отношению к экономике в целом) равновесия. Маршалл акцентировал смысл равновесия «нормального спроса и предложения», отраженного в цене дан
ного товара, применительно только к определенному периоду времени, который может быть:
стационарным, когда предложение ограничено имеющимися запасами и равновесную цену определяют колебания спроса;
краткосрочным, когда на равновесную цену оказывают влияние изменения как спроса, так и реагирующего на него предложения, регулируемого возможностями производства при постоянстве оборудования и уровня организации;
долгосрочным, когда спрос подвергается влиянию моды и товаров-заменителей, а все издержки производства, от которых зависит предложение, становятся переменнгями.
Фактор времени является главной причиной тех трудностей в экономических исследованиях, которые вынуждают человека при его ограниченных возможностях продвигаться вперед шаг за шагом, подразделяя сложную проблему на отдельные аспекты, изучая их один за другим и, наконец, соединяя частные выводы в более или менее полное решение целостной задачи.
Три периода времени. Общее правило, что чем короче период, тем больше на цену влияет спрос, а чем период продолжительнее, тем большее значение приобретает влияние издержек производства, Маршалл иллюстрирует на примере рыболовецкой отрасли.
Поскольку свежая рыба — скоропортящийся продукт, каждодневная ситуация на рыбном рынке зависит от колебаний улова, связанных главным образом с погодными условиями и определяющих временное равновесие спроса и предложения. В этот «мгновенный период» цена на рыбу определяется ее наличием на прилавках и спросом на нее.
В краткосрочном периоде на спрос могут повлиять случайные события вроде падежа крупного рогатого скота и соответствующего повышения цен на говядину. Увеличение объема спроса повысит нормальную цену предложения. Повышение цены стимулирует и увеличение предложения в объеме, возможном при полном использовании имеющихся производственных мощностей и рабочей силы (рыбаки будут чаще выходить в море и использовать старые лодки или суда, не построенные специально для рыбной ловли); соответственно, возрастут и издержки на единицу продукции.
В долгосрочном периоде в силу вступает «политика инвестирования в расчете на отдаленную в будущем отдачу».
Если изменение вкусов определит тенденцию к дальнейшему возрастанию спроса на морепродукты, то в рыболовецкую отрасль будут притекать дополнительные капиталы и новая рабочая сила. Определить заранее тенденцию издержек на единицу продукции трудно. С одной стороны, на нее окажет действие закон убывающей отдачи: истощение ресурсов в близлежащих водах заставит моряков совершать более далекие плавания. С другой стороны, усовершенствование кораблестроения и организации лова обеспечит экономию на масштабах и действие возрастающей отдачи.
Если тенденции к убывающей и возрастающей отдаче окажутся равносильными (постоянная отдача) кривая предложения будет горизонтальной и цена не изменится (рис. 18.3, слева). Если возобладает тенденция к убывающей отдаче, долгосрочная кривая предложения будет возрастающей и «нормальная» цена в долгосрочном периоде повысится (рис. 18.3, в центре). Если верх возьмет тенденция к возрастающей отдаче, кривая предложения будет убывающей (рис. 18.3, справа) и нормальная цена в итоге понизится. Равновесный выпуск продукции во всех трех случаях увеличится. Таким образом, в долгосрочном периоде определяющую роль в формировании равновесной цены начинают играть издержки, которые в долгосрочном периоде все становятся переменными.
Почти каждая отрасль сталкивается с собственными трудностями и вырабатывает собственные приемы, связанные с задачей оценки инвестированного в предприятие капитала, и определение размера возмещения капитала в зависимости от износа оборудования, от различных элементов издержек, применения новых изобретений и изменений в конъюнктуре отрасли.
Рис.
183.
Кривые спроса и предложения в долгосрочном
периоде
Структура издержек производства. Маршалл классифицировал издержки производства на основные (прямые), или специальные, и дополнительные, или общие. Разница между ними имеет важное значение для коротких периодов, в которые производителям приходится максимально приспосабливать предложение к спросу с использованием наличного оборудования и рабочей силы. Основные издержки — это затраты на сырье, заработную плату и на чрезмерный износ оборудования; дополнительные — на жалованье высших служащих (которое невозможно быстро приспособить к изменениям объема выполняемого ими труда) и платежи с фиксированным сроком оплаты за тяжелое оборудование. Дополнительные издержки должны обычно покрываться в значительной степени за счет продажной цены в течение короткого периода. А в течение долгого периода они должны покрываться полностью, с учетом изменений предложения капитала и квалифицированного труда.
Проблема государственного вмешательства и утилитаристская концепция благосостояния А. Пигу
А. Маршалл о проблеме налогов и субсидий. Маршалл использовал свой анализ потребительского излишка и тенденций к возрастающей и убывающей отдаче для постановки теоретического вопроса о влиянии на общественное благосостояние государственных субсидий производителям или, напротив, налогов на отдельные товары.
Критерием целесообразности Маршалл предложил считать увеличение или потерю потребительского излишка при изменении условий предложения. Например, если производство товара имеет тенденцию к убывающей отдаче, то поощрительная субсидия приводит к расширению производства и распространяет предел обработки на районы и условия с более высокими издержками, и снижение цены не даст потребителям такой величины потребительского излишка, которая сравнялась бы с прямыми расходами государства на субсидию. Если же производство товара имеет тенденцию к возрастающей отдаче, то субсидия способна вызвать значительное падение цены, которое обеспечит прирост потребительского излишка, превышающий общую сумму денежных платежей государства производителям.
Напротив, введение налога на такой товар способно уменьшить потребительский излишек на величину большую, чем общая сумма поступлений от налога в казну. Поэтому в целом оправданно субсидировать отрасли с долгосрочной тенденцией к возрастающей отдаче и применять косвенное налогообложение для продукции отраслей с убывающей отдачей; но Маршалл предостерегал от категоричных решений.
А. Лигу: проблема национального дивиденда. В более широком контексте вопрос о целесообразности государственных налогов и субсидий поставил ученик Маршалла и его преемник (1908) на кафедре политической экономии Кембриджского университета Артур Сесил Пигу (1877— 1959). Книги Пигу «Богатство и благосостояние» (1912) и «Экономика благосостояния» (1920) ввели в неоклассическую экономическую теорию проблематику положительных и отрицательных «внешних эффектов», или «провалов рынка» — ситуаций, когда действия одного экономического агента сопровождаются побочным ущербом или, напротив, выгодой для другого. Вследствие этого возникает разница между частными и общественными издержками или выгодами, которую Пигу охарактеризовал как расхождение между предельным частным чистым продуктом и предельным общественным чистым продуктом. Замечания Маршалла о целесообразности налогов и субсидий Пигу переформулировал как условия максимизации национального дивиденда посредством оптимального воздействия на отрасли с разной отдачей, выравнивающего предельный частный чистый продукт и предельный общественный чистый продукт.
Национальный дивиденд Пигу считал показателем экономического благосостояния, которое, хотя и неравнозначно общему благосостоянию, тесно связано с ним. Считая, что количество денег, которое готов заплатить человек за данное благо, является косвенным мерилом индивидуального благосостояния как удовлетворения желаний, Пигу включал в понятие национального дивиденда «все то, что люди покупают на свои денежные доходы, а также услуги, предоставляемые человеку жилищем, которым он владеет и в котором проживает»I. Обеспечение максимума национального дивиденда Пигу связывал с равенством предельных чистых продуктов при различном использовании ресурсов в режиме свободной конкуренции и реализации частного интереса. Однако отраслевые различия в производстве товаров приводят к несовпадению величины общественного чистого продукта, обеспечиваемого единицей соответствующего ресурса, и величины частного чистого продукта. Поэтому для государства существует возможность определенных дотаций для увеличения выпуска в тех отраслях, где величина предельного общественного чистого продукта превышает величину предельного частного чистого продукта, и корректирующих налогов в отраслях, где указанная разница имеет обратный знак. К первому случаю относятся отрасли с возрастающей отдачей или сферы деятельности, сопровождающиеся положительными побочными эффектами (например, городское благоустройство); ко второму случаю — отрасли с убывающей отдачей или сопровождающиеся отрицательными побочными эффектами (например, ухудшающие здоровье населения, но приносящие прибыли частным производителям табачная промышленность и производство крепких спиртных напитков).
Перераспределение национального дивиденда: утилитаристский подход. Пигу, как и Маршалл, испытал влияние политического философа Г. Сиджуика, последовательного утилитариста и автора трактата «Принципы политической экономии» (1883) — попытки введения элементов предельного анализа в систему политэкономии Рикардо — Милля. Сиджуик первым привел ставший благодаря Пигу хрестоматийным пример с маяком как вложением, приносящим меньшую величину предельного частного чистого продукта сравнительно с величиной предельного общественного чистого продукта, поскольку владельцы и капитаны судов получают услугу, которую их трудно заставить оплатить. В целом же влияние утилитаризма проявилось в обосновании Пигу частичного перераспределения национального дивиденда (трансферта дохода от богатых к бедным) как способа увеличить благосостояние — при условии, что сам национальный дивиденд не уменьшится. Поскольку доход подчиняется закону убывающей предельной полезности, прирост дохода приносит больше удовлетворения или полезности группам населения с низким доходом, чем людям, которые уже пресыщены благами; поэтому трансферт от богатых к бедным увеличит совокупное благосостояние, так как сумма удовлетворения последних возрастет больше, чем уменьшится сумма удовлетворения первых.
Но в анализе экономического благосостояния Пигу обнаружил особый аспект, требующий скорее не утилитаристского, а институционального объяснения.
Национальный дивиденд, эффект присоединения к большинству и эффект сноба. Пигу отметил, что в большинстве случае потребляемые товары широкого спроса приобретаются ради них самих. Но он выделил два типа удовлетворения желаний потребителей, связанного с обладанием благами, которые есть и у других людей (Пигу приводит в пример мужские шляпы-цилиндры), либо, наоборот, благами, не доступными для других (вроде бриллиантов). Согласно Пигу, в первом случае создание дополнительной единицы товара увеличивает совокупное удовлетворение потребности в товаре на величину большую, чем несет в себе сама эта единица, поскольку каждая единица становится, тем самым, более распространенной; во втором случае создание дополнительной единицы товара увеличивает совокупное удовлетворение потребности в товаре на величину меньшую, чем несет в себе сама эта единица, поскольку каждая единица становится более популярной. Пигу считал для увеличения экономического благосостояния целесообразным в первом случае стимулировать производство дотациями; а во втором случае — облагать налогами.
Эффекты, связанные с желанием выделиться из общей массы или соответствовать ее жизненным стандартам, были впоследствии охарактеризованы как эффект сноба и эффект присоединения к большинству, вызывающие отклонения от маршаллианской кривой «нормального» спроса вследствие отмеченного Т. Вебленом «состязательного аспекта потребления»I.
Маржиналистская теория распределения общественного продукта: концепция предельной производительности Дж. Б. Кларка
Дж. Б. Кларк — родоначальник маржинализма в США.
Завершением «маржиналистской революции» в теории ценности и распределения стало единообразное объяснение доходов факторов производства, возродившее на предельном принципе трехфакторную формулу Сэя. Этот вклад был сделан Джоном Бейтсом Кларком (1847—1938), который считается первым выдающимся экономистом мэйнстрима в США. Его имя носит медаль, присуждаемая (с 1947 г.) раз в 2 года американским экономистам из числа тех, кто снискал наибольшее признание до 40 лет. Заметим, что сам Кларк попал в число основателей мэйнстрима благодаря книге, вышедшей, когда ее автору, профессору Колумбийского университета в Вашингтоне, было уже за 50.
В молодости же Кларк, окончив колледж, продолжил образование в Европе. Он попал на Гейдельбергский семинар К. Книса в то время, когда Бем-Баверк и Визер докладывали там основы австрийской теории предельной полезности. Позднее критическое переосмысление теории капитала и процента Бем-Баверка и теории «общего и специфического вменения» Визера станет существенным моментом теоретической концепции Кларка.
Однако первая книга Кларка «Философия богатства» (1885) отразила влияние исторической школы, проводимое тогда в США Р. Т. Эли (1854—1943), который провозглашал очередную «новую» политэкономию, ориентированную на поддержку бедных слоев и сбор фактического материала. В согласии с Эли Кларк критиковал рикардианский «апофеоз эгоизма» и указывал на «трагический дуализм» деятельности бизнесменов, сочетающих деловую энергию с бесчестными поступками. Но он отверг радикальную концепцию Г. Джорджа и рассчитывал на «третейский суд», профсоюзы, участие рабочих в прибылях как на условия обеспечения гармонизации отношений капитала и труда.
Вторая и главная книга Кларка — «Распределение богатства» (1899) — была написана уже с позиций, что искомая гармонизация обеспечена существующим порядком конкурентного рынка как саморегулируемой системы, оптимальной с точки зрения эффективности и справедливого распределения доходов.
«Универсальные законы», статика и динамика. Кларк предложил новое понимание структуры экономической теории, разграничив анализ на универсальные законы, статику и динамику. К универсальным законам Кларк отнес: 1) закон предельной полезности; 2) закон убывающей производительности и 3) закон «специфической производительности». Теорию предельной полезности Кларк уточнил
формулировкой о приращениях дополнительных полезных свойств («связок элементарных полезностей» потребляемых благ, а не благ как таковых). Закон убывающей производительности и закон «специфической производительности» были приняты Кларком за основу объяснения ценообразования на факторы производства и функционального распределения дохода между собственниками факторов.
Кларк указал на пять процессов, вносящих динамику в рыночное хозяйство: рост народонаселения, технические нововведения, изменения организационных форм предприятий, изменения вкусов потребителей и накопление капитала. Но они рассматривались Кларком лишь как дополнения (отклонения) факторной статики производства и распределения, представляющей собой «естественное состояние», при котором универсальные законы, если не нарушается свободная конкуренция, обеспечивают каждому фактору производства «такое количество ценности, какое он создает».
При фиксированном количестве любого из факторов производства уменьшается отдача от каждой последующей применяемой единицы переменных факторов. Например, если земля является фиксированным фактором производства, по отношению к ней труд и капитал выступают переменными факторами с убывающей отдачей, а урожайность худших участков — как предельный продукт, определяющий цену; лучшие участки обеспечивают разницу между величиной среднего и предельного продукта, но она достается в виде ренты владельцу фиксированного фактора производства.
Но Кларк считал, что земля принципиально не отличается от других капитальных благ как взаимозаменяемых единиц, которые все могут приносить ренту — в отличие от денежного капитала, приносящего процент. Таким образом, по существу доли общественного продукта распределяются между двумя «подвижными фондами» — труда и капитала — в соответствии с убывающей доходностью и специфической производительностью образующих эти фонды агентов производства.
Теория предельной производительности. Кларк рассматривал свою концепцию как нормативный принцип соблюдения эффективности распределения ресурсов в процессе производства и справедливости в процессе распределения доходов.
Если зафиксирован объем капитала как «одного общего помогающего труду фактора», наращивание количества работников будет вести к уменьшению приращения продукта и производительность последнего из занятых рабочих определит заработную плату их всех, а дифференциальный излишек над ее величиной составит «рентный доход капитала». И, напротив, когда зафиксировано количество труда, на его долю достанется «рентный доход» от постепенного наращивания капитала. Но при совершенной конкуренции на рынках факторов производства рентных доходов в принципе ни у кого быть не должно: весь доход представляет собой выручку предпринимателя, который сразу же выплачивает рабочим зараплату, а из избытка расплачивается с собственниками капитальных благ и денежного капитала, отдавая им предельный продукт. Предельная производительность факторов производства объясняет цены на них и распределение относительных долей общественного продукта.
Проблема справедливости в распределении. Еще до выхода книги Кларка «Распределение богатства» теория предельной производительности, изложенная Кларком в ряде статей, стала завоевывать признание, поскольку предлагала единое объяснение доходов основных классов общества, которое в рикардианской традиции политической экономии включало три различных приема (объяснение заработной платы — на основе теории рабочего фонда, регулируемого долгосрочными издержками производства средств существования; земельной ренты — на основе теории дифференциального излишка сверх предельных издержек возделывания земли; капиталистической прибыли — по остаточному принципу). Теория предельной производительности предлагала единый подход, согласно которому при фиксированном факторе земли труд и капитал вознаграждались как составные «порции» переменных факторов, а рента оказывалась остатком, начисленным владельцам земли с участками лучше предельного.
Но трактат Кларка снискал и несолидную репутацию «защиты статус-кво»I. Проблема распределения остро дебатировалась в тогдашней экономической литературе. Незадолго до книги Кларка вышла обратившая на себя широкое внимание книга австрийского юриста Антона Менгера (1841—1906) — младшего брата и притом идейного противника К. Менгера — «Право на полный продукт труда» (1897). Теория предельной производительности Кларка как раз отрицала «право» труда на весь созданный продукт (впервые обоснованное «социалистами-рикардианцами»1), проводя различие между «продуктом труда» и «продуктом промышленности».
Но аргументация Кларка содержала серьезные изъяны, главный из которых заключается в том, что если фактор относительно дефицитен, то высокая цена на него, продиктованная соображениями эффективности, отнюдь не будет оптимальной с точки зрения справедливостиI II, а функциональное распределение доходов — этически безупречным, как утверждал Кларк.
Ф. Уикстид о проблеме «исчерпанности продукта».
Значение теории предельной производительности как единого подхода, объясняющего вознаграждение любого фактора производства, если он является фиксированным при переменных других факторах и обеспечивает своему владельцу начисление остатка с «порций» лучше предельной, было показано англичанином Филиппом Генри Уикстидом (1844—1927) в «Опыте о координации законов распределения» (1894). Уикстид был единственным прямым последователем Джевонса, а «Опыт» — второй из трех его книг; до нее был «Алфавит экономической науки» (1888), а после — «Здравый смысл политической экономии» (1910) — учебники, благодаря которым в английский язык вошли понятия предельной полезности и альтернативных издержек.
Излагая теорию предельной производительности как «координацию законов распределения», Уикстид выявил проблему, которую он назвал проблемой «исчерпанности продукта»: будет ли при свободной конкуренции сумма этих вознаграждений факторов в соответствии с их предельной производительностью без остатка равна рыночной цене продукции? Иначе говоря, будет ли общий продукт исчерпан вознаграждениями факторов в соответствии с их предельной производительностью?
Ответ Уикстида был утвердительным, но он запутался в аргументах и вынужден был ограничить свои выводы условиями постоянной отдачи от масштаба, для которых
действительно возможно математическое доказательство «теоремы об исчерпанности». Его привел, прибегнув к одной из теорем, носящих имя великого швейцарско-российского математика Леонарда Эйлера (1707—1783), — лемме об однородных функциях, ученик Маршалла, математик по образованию Альфред Уильям Флакс (1867—1942). Но само условие постоянства отдачи от масштаба было признано неубедительным Эджуортом и Парето; неясным остался и вопрос о характере предпринимательской прибыли (в отличие от процента на капитал и заработной платы за управление): она — доход от особого фактора или остаток после вознаграждения всех прочих факторов?
И. Фишер: понятие дисконтированного дохода и денежная теория
Ожидание «американского века». К началу XX в. США, намного опережая крупнейшие страны Европы по объему производимой сельскохозяйственной продукции, уверенно захватили и мировое промышленное лидерство. И хотя мировой валютой еще оставался фунт стерлингов, а мировым финансовым центром — Лондон, Нью-Йорк во главе с Уоллстрит наступал ему «на пятки» в предвкушении смены «позолоченного века» в истории США «американским веком» в мировой истории. Уже выходил «Уолл Стрит Джорнал» и появился фондовый индекс Доу-Джонса для крупнейших промышленных компаний; уже было заявлено о намерении «житницы» мира, ставшей его «фабрикой», быть и его «расчетной палатой».
Экономистом, отразившим в теории претензии американского капитализма на универсальность, перенесшим в само определение капитала из практики фондового рынка понятие дисконта (разницы между ценой в настоящий момент и ценой на момент погашения или ценой номинала ценной бумаги), стал профессор Йельского университета Ирвинг Фишер (1867—1947). Он дебютировал в экономической науке еще в XIX в. — докторской диссертацией «Математические исследования теории ценности и цен» (1892), содержавшей, среди прочего, проект машины для иллюстрации общего экономического равновесия. Но самые знаменитые работы Фишера вышли в начале XX в. — «Природа капитала и дохода» (1906), «Ставка процента» (1907), «Покупательная сила денег» (1911). Вторая из этих книг была посвящена памяти Джона Рэ (1796—1872) — шотландца, долгое время жившего в Канаде и на^Гавайских островах и умершего в безвестности в Нью-Йорке. Его книгу «Изложение некоторых новых принципов политической экономии» с нудным подзаголовком «Демонстрация ошибок системы свободной торговли и некоторых других доктрин, отстаиваемых в «Богатстве народов» (1834) цитировал в своих «Принципах политической экономии» Дж. Ст. Милль, а потом все забыли. Но сокращенное переиздание под новым заглавием «Социологическая теория капитала» (1902) произвело сенсацию: выяснилось, что Рэ предвосхитил австрийскую теорию капиталообразования вследствие «окольных» методов производства и укорененности процента в различной оценке настоящих и будущих благ. Бем-Баверк признал, что Рэ многое изложил лучше его самого; Фишер пошел по стопам Рэ и Бем-Баверка.
Капитал как дисконтированный доход. Фишер определил «капитал» как любой запас (земля и прочие природные ресурсы, здания и машины, профессиональные навыки), генерирующий поток услуг во времени, а «доход» — как превышение данного потока услуг над объемом, необходимым для поддержания и возмещения этого запаса. Ценность капитала есть не что иное, как сегодняшняя ценность потока доходов, которые капитал принесет в будущем, т.е. сумма будущих доходов, дисконтированная с учетом текущей ставки процента. Процент — это не узкое явление, имеющее отношение лишь к немногим сделкам; он пронизывает все экономические отношения и является связующим звеном между настоящим и будущим, влияя на все большие решения. Не капитал сообщает ценность доходу, а доход сообщает ценность капиталу, ибо экономическая деятельность по сути своей устремлена к будущему. Людей характеризует различие в умении предвидеть, именно высокая степень предвидения отличает преуспевающих «капитанов промышленности». Важное значение имеет «расхождение на один или два пункта между тем, какова норма процента в настоящем, и тем, какой она предполагается в будущем».
Ожидания и процент: «норма дохода сверх издержек». Центральной в теории капитала и процента Фишера стала категория «норма дохода сверх издержек». Если норма дохода сверх издержек выше рыночной ставки процента, это стимул для роста инвестиций на заемные деньги. Фишер цитировал вывод Джона Рэ, что в обществе, где норма процента низка, болота будут тщательнее осушены, дороги будут лучше, жилье будет построено прочнее, чем в обществе с высокой нормой процента. Повышение «нормы дохода сверх издержек» и тем самым расширение инвестирования является, по мнению Фишера, следствием прогресса технических знаний. На поле новых инвестиций, открытое каким-либо изобретением, вступают «предприниматели и все, кто рискует своими капиталами»; «прокладывающие первую борозду» получают доход, значительно превышающий норму процента. Кроме того, когда нововведение увеличивает норму дохода сверх издержек, предприниматели в ожидании высоких прибылей готовы брать взаймы даже из более высокого, чем прежде, процента, а заимодавцы часто согласны ссужать по тому же проценту, что и раньше. В результате разница между нормой дохода сверх издержек и нормой процента растет, а это влечет за собой рост займов и инвестиций. Общество вовлекается в излишнее инвестирование ради будущего дохода. «Американцы, находясь постоянно под влиянием больших ожиданий, всегда были готовы обещать относительно большую часть своих обильных будущих доходов в обмен на относительно небольшое добавление к текущим доходам».
Поток новых изобретений повышает норму процента, так как благодаря этим изобретениям существующий поток доходов станет более обильным в отдаленном будущем, но рано или поздно этот поток иссякает. Тогда наступает период «ожидания низких прибылей» и потребностей заемщиков в снижении нормы процента, на которое не хотят идти заимодавцы. Предприниматели занимают меньше, инвестирование становится вялым, что вынуждает норму процента к снижению.
Покупательная способность денег. Фишер рассматривал свои труды о природе капитала и процента как теоретическое обоснование бухгалтерии: как на уровне отдельного предприятия, так и для всей экономики в целом. Но для расчетов прибылей необходимо принимать уровень цен и его изменчивость, которая влияет и на поток доходов, и на процентные ставки.
Фишер формализовал классическую идею о зависимости уровня цен от количества денег в обращении «уравнением обмена»:
MV=PT,
где М (money) обозначает количество денег в обращении; V (velocity) — скорость их обращения; Р (prices) — уровень цен; Т (transactions) — объем сделок, совершенный за данный период.
Эта формула получила наименование «уравнения Фишера», или основного уравнения количественной теории денег, и позднее была модифицирована с учетом сложной структуры денежной массы (непосредственные денежные знаки М и банковские вклады М) как MV + МУ = РТ.
Поскольку рост денежной массы приводит к падению покупательной силы денег — инфляции, при расчете доходности инвестиций надо делать поправку на темп инфляции и различать реальную RR и номинальную RN ставки процента, принимая во внимание, что
RR = RN — е.
где е — темп инфляции.
Неиспользованные возможности. Количественная теория денег Фишера, его теория процента, а также его весомый вклад в экономическую индексологию открывали путь перехода от неоклассической микроэкономики к маржина- листскому мАкроэкономическому анализу, но сам Фишер не пошел этим путем. Концепция «нормы дохода сверх издержек» и ее расхождений с нормой процента как импульсов к расширению или сжатию инвестиционной активности соответствовала категории естественной нормы процента у К. Викселля (см. главу 20) и предельной эффективности капитала у Дж. М. Кейнса (см. главу 21). Но, в отличие от них, Фишер не сделал эту концепцию краеугольным камнем для теории «так называемого экономического цикла» (по его выражению). Более того, после «великого краха» на Уолл-стрите в октябре 1929 г. Фишер растерял накопленный авторитет экономиста-теоретика, утверждая месяц за месяцем о скором начале нового бума, а в популярной книге «Бумы и депрессии» (1932) заявлял, что цикла, по сути дела, нет, а есть только неправильные колебания покупательной силы денег — «танец доллара». Это обстоятельство вкупе с репутацией чудаковатого прожектера, «зацикленного» на здоровье нации (автор бестселлера «Как жить: правила здоровой жизни, основанные на современной науке»; сторонник евгеники и «сухого закона»), оставило
Фишера, несмотря на его президентство в Эконометрическом обществе (см. главу 22), вне основного течения американской экономической мысли после «кейнсианской революции». Однако наступление монетаризма (см. главу 26) и кризис 2008 г. возродили интерес к наследию Фишера.
Вопросы и задания
Покажите связь теории предельной полезности У. С. Дже- вонса с философией утилитаризма (категория «антиполезности»).
В чем состоит значение метафоры «два лезвия ножниц» в теоретическом синтезе А. Маршалла?
Покажите связь структуры издержек производства с периодами времени в концепции частичного равновесия А. Маршалла.
Проследите развитие утилитаристской концепции благосостояния Кембриджской школы в теории налогов и субсидий А. Маршалла и теории национального дивиденда А. Пигу.
Проведите аналогию между теорией налогов и дотаций Пигу и эффектами Веблена в теории потребительского спроса.
Почему теория предельной производительности Дж. Б. Кларка может считаться завершением маржиналистской революции?
Объясните определение И. Фишером капитала как дисконтированного дохода.
Рекомендуемая литература
