
1.4. Праздники Великой французской революции
В праздниках Великой французской революции в соответствии с амплитудой революционных страстей надо выделить три этапа: розовый, кроваво-красный, бело-голубоватый.
/ этап: июль 1789 г. - август 1792 г. Этот розовый этап мы характеризуем как время эйфории победы, энтузиазма и элементов народной самодеятельности. Ограниченная монархия, головокружительное равенство сословий, обещания и разработка Конституции. Идеализм лозунгов еще учитывает и сочетается с реалиями традиций при дефиците адекватных новым идеям и переживаниям эмоциональных выразительных средств. Новые революционные действия еще не обходятся без фигуры короля, епископа, религиозных действ. Еще нет революционных песен и музыки. В ход идут травестиро ванные народные и религиозные песнопения и гимны. Велик удельный вес народной самодеятельности, у власти пока умеренные лидеры типа Мирабо, да и народу непривычно в одночасье; отбросить все традиции при отсутствии замены.
// этап: кроваво-красный. Сентябрь 1792 г. - июль 1794 г. Время крайне левых. Арест и казнь Людовика XVI и Марии Амуанетты, республиканская конституция, идеологическая нетерпимость и поиск врагов (расправа с политическими соперни-
ками под флагом борьбы с врагами революции), исключение религии из сюжета праздника, создание новой религии с античной атрибутикой и символикой, праздники обретают свою музыку и поэтические тексты (Марсельеза, Карманьола, гимны), провоз» iлишение системы праздников, соответствующей идеологии.
/// этап: август 1794-1795 гг. и далее - затухание. В июле 1794 г. Максимилиана Робеспьера отправили на гильотину вконец запуганные его неистовой кровожадностью более умеренные члены Конвента; абстрактную систему праздников, начи-Ненну. Атеизмом и пантеизмом, отменили. Оставили только 14 июля - День республики. Объявили новую систему праздников, близкую конкурентному человеку (праздник юности, супружества, праздник старости, праздник земледельца и т.п.), облекая их сентиментальной античной символикой и атрибутикой, также малопонятной простолюдинам, как и абстракции якобинцев..
В 1793-1794 гг. радикалы ввели новое летоисчисление и календарь. Угроза отодвинута. Простолюдины затихли в тревоге. Комиссары Дантона - Робеспьера, мобилизуя все творческие силы Парижа, армию и граждан, устраивают триумфы режиму. Главными исполнителями от искусства остаются Луи Давид, Госсек, Керубини, Мегюль, Шенье, артисты Оперы.
К празднику Федерации в 1793 г. были приурочены годовщины сражения 10 августа 1792 г. и принятия Конституции. I [раздник имел три основные точки действия плюс концерты артистов театров в течение дня.
Конец XVIII в. характеризуется попыткой сочетать революционную риторику с традиционными ценностями жизни. Надо признать его неудачным историческим экспериментом эти попытки повторялись у нас: в 20-е гг. - как Красные Пасхи и Красные Крестины (повторение обряда с коммунистической атрибутикой и речами), в 60-е гг. - как компания по созданию новых обрядов, компенсирующих ушедшие традиционные народные обряды.
Таким образом, что же нового было внесено в обычай народного праздника?
33
32
1. Атрибутика античности и Возрождения. Она представлена в оформлении и символике; праздников. 2. Искренние обращения властей к народу (Отечество в опасности) и адекватный отклик. 3. Масштаб народной самодеятельности и участие масс, особенно в первый период эпохи. 4. Массированное использование трагического пафоса в целях эмоционального заражения народа необходимыми идеями.
Вопросы дли самоконтроля
Дайте характеристику основных этапов развития праздников Великой Французской революции.
Что было характерно для развития праздников Великой французской революции 1789-1794 гг.?
3. Что нового было внесено в обычай народного праздника?
Список рекомендуемой литературы
1. Максютин Н.Ф. Очерки истории досуга. 2-е изд. Казань: Медицина, 2003.
1.5. Внешкольное образование русского зарубежья
В современней жизненной практике людей, в деятельности общественных объединений, гражданских инициатив создаются особые педагогические условия для социализации личности, для освоения ею универсалий культуры, которые обеспечивают включение человека в живые связи с миром, с прошлым и настоящим культуры, ее традициями, символами и ценностями.
Именно здесь, во внешкольной работе были реализованы уникааьные педагогические инициативы по религиозно-нравственному, нациоиачъно-патриотическому и физическому воспитанию детей, формированию развивающей досуговой среды.
Здесь получили методологическое обоснование и теоретическое развитие представления и технологии досуговой педагогики, сложившиеся в дореволюционном внешкольном образовании (В.П. Вахтеров, В.И. Чарнолуский, Е.И. Медынский, СО. Серо-полко, СТ. Шацкий и др.). Миссия внешкольного образования в понимании видного деятеля педагогики русского зарубежья СО. Серополко состояла «в создании новой культуры, в которой народ и высшие его слой претворяются в органическую целостность» [4].
В отечественной истории педагогики термином «внешкольное образование» принято обозначать культурно-просветительскую деятельность общественных организаций и частных лиц, направленную на удовлетворение образовательных запросов населения. Учреждения внешкольного образования (воскресные и вечерние школы, общеобразовательные и профессиональные курсы для взрослых, повторительные классы, народные университеты, а также народные чтения, публичные лекции, народные библиотеки и читальни, книжные склады, народные дома, народные театры и пр.) создавались на общественные и частные средства и не входили в государственную систему народного образования.
В 1919-1939-е гг. в условиях эмиграции была предпринята уникальная попытка создать особую систему внешкольного образования, максимально соответствующую национальным традициям и характеру русского народа. В этом опыте были синтезированы методологические и методические идеи социального и культурного воспитания, которые сформировались в России к началу XX столетия. Такая педагогическая деятельность должна была решить двуединую задачу:
с одной стороны, воспитать в изгнании российски*; граждан, способных к активной деятельности в своем Отечестве, способствовать сохранению национальной культуры и идентичности;
с другой стороны, обеспечить условия для подготовки детей к реальной жизни в чужой стране, нейтрализовать неблагоприятные ассимиляционные факторы, обеспечить полноценное восприятие европейской культуры и образования.
34
35
В русской зарубежной школе, существовавшей в иной этнокультурной, языковой и социальной среде, эта задача решалась на уровне включения национального компонента содержания образования, т.е. предметов, которые несли в себе заряд русской культуры и образованности, воспитания национального самосознания. Однако этим воспитательный процесс не ограничивался, поскольку широкое распространение получила культурно-просветительная деятельность русских эмигрантских организаций, национальных общественных объединений во внеучеб-ной и внешкольной среде (то, что сегодня в российской педагогической науке именуется как дополнительное образование и педагогика социально-культурной сферы).
Современные исследования Российского Зарубежья убедительно доказывают, что оно является не только политическим и этносоциальным феноменом XX в., но и уникальным социокультурным пространством, составляющим часть российской культуры, науки, искусства, литературы, национальной жизни в целом [8; 9; 10; 11, с. 12].
Е!ыполнение педагогической миссии русского зарубежья было сопряжено с формированием особого культурно-образовательного пространства, предпосылками возникновения, формирования и развития которого выступали такие факторы, как:
высокая плотность эмиграции в Европе;
скопление культурных, интеллектуальных и общественных сил, обладавших опытом организационно-педагогической работа в России;
позитивная политика государственных и общественных органов стран проживания [18, с. 24].
В этот перечень должно быть включено также главное, на наш взгляд, обстоятельство -- высокая потребность русских эмигрантов в деятельном сохранении и поддержании особой социально-психологической, языковой и культурной среды, которая позволяла не просто «остаться русскими людьми», а сохраниться в качестве; активных граждан великой страны, готовых принять участие в ее грядущем возрождении.
Становление российского зарубежья. Российское зарубежье в Европе сформировалось в результате событий гражданской войны и революции (1917-1920 гг.), которые вынудили покинуть родную страну огромное количество бывших граждан Российской империи. Появление российских беженцев в Европе связано в основном с эвакуацией разбитых частей белой армии.
Большая волна беженцев направилась с территории Украины и Белоруссии в страны Восточной Европы в конце 1918 г, вслед за отходом немецких войск. Провал! наступления на северо-западном фронте армии генерала Юденича в конце 1919 г привел к массовой эвакуации в прибалтийские страны и Северную Европу, в основном через Гельсингфорс (столиц;)' Финляндии). Наиболее важным районом эвакуации было побережье Черного моря (Новороссийск, Крым, Одесса, Грузия), вследствие чего российские эмигранты оказались в Константинополе, на островах Мраморного и Эгейского морей и на полуострове Галлипо-ли. Кроме того, происходил процесс вторичной эмиграции.
В связи с неблагоприятными условиями из Константинополя и прилегающих к нему островов русские беженцы направлялись на Балканы, в Чехословакию, Германию, Францию. Из прибалтийских государств русские переезжали в страны Восточной, а затем и Западной Европы. Так, в результате широкомасштабных миграционных процессов в Европе появилась особая диаспора - русские эмигранты. Именно так стали называть тех, кто лишился российского подданства и не приобрел гражданства какой-нибудь другой страны.
Охарактеризуем географическое размещение и социальную структуру «первой волны» российской эмиграции.
Характерно географическое размещение русских эмигрантов «первой волны» в 1918 г. Ряд западноевропейских стран дал согласие на въезд эмигрантов - частично по политическим мотивам, но в большей мере по мотивам чисто экономическим: Франция, Германия, Бельгия нуждались в дешевой рабочей силе. Однако эмигранты в этих странах попадали в сферу действия общих законов об иностранных рабочих: они не имели социальной защиты, должны были соглашаться на работу на любых ус-
36
37
ловиях, значительно худших, чем определяемые конъюнктурой на рынке труда; их первыми увольняли при малейших признаках промышленного кризиса.
Страны Юго-Восточной и Центральной Европы - Югославия, Болгария, Чехословакия - принимали эмигрантов, так как остро нуждались в квалифицированных специалистах. Мотивы славянского и религиозного единства хотя и играли здесь известную роль, но были явно подчинены экономическим потребностям.
Ряд стран решительно закрыли свои границы для русских эмигрантов, несмотря на то, что они имели официально признанные Лигой Наций, т.н. нансеновские паспорта. Среди этих стран - Англия, Дания, Швеция, Норвегия, Голландия, Испания, Португалия, Италия, Канада, Япония.
Российская эмиграция «первой волны» рассматривала свое пребывание на чужбине как временное, противилась интеграции в иную среду, стремилась сохранить детей русскими. Поэтому, как только первые эмигранты осели, появились центры культурной жизни, где шла «русская жизнь» и куда стекались беженцы из России.
В странах, куда прибывали русские беженцы, тотчас создавались учебные заведения с преподаванием на русском языке. Разворачивалась разнообразная по формам внешкольная работа: возникали многочисленные культурные общества, культурно-просветительные организации, общественные читальни, театры, музеи и др. Безусловно, что высокая духовная потребность в восстановлении искусственно прерванных связей с исторической родиной становилась основным фактором, обусловившим формирование уникального культурно-образовательного пространства русского зарубежья. Особую широту эта образовательная деятельность получила в главных центрах Русского зарубежья (1920-1930 гг.) «первой волны» в Берлине, Париже, Праге, Белграде, Софии, Риге, Гельсингфорсе и Харбине. В этих городах сформировались настоящие «анклавы» русской культуры. Важным фактором становления, развития и угасания подобных «анклавов» была лояльность политики местного правительства
38
по отношению к национальным меньшинствам, численный и социальный состав беженцев.
Основными центрами первой русской эмиграции стали Берлин и Париж.
В начале 1920-х гг. одним в Берлине было открыто более 80 русских издательств, 20 книжных лавок, 6 банков, несколько русских школ и других учебных заведений [17, с. 78-83]. Здесь нашли себе убежище известные русские художники, литераторы, философы (А. Белый, Н. Бердяев, А. Ремизов, Вл. Ходасевич и др.).
В Берлине был основан Русский институт, имевший связи с рядом научных учреждений Германии. К работе в нем были привлечены А.А. Боголепов, Б.П. Вышеславцев, СИ. Гес-сен, И.А. Ильин, В.А. Мякотин, П.Б. Струве, С.Л. Франк и др. В 1922 г. в Берлине была организована Свободная духовная и философская академия (Н.А. Бердяев и др.), где читались лекции на религиозные темы.
В Берлине также действовали различные организации помощи беженцам, клубы и общества (политические и культурные). Благодаря терпимости правительства, дружелюбному и гостеприимному отношению немецкого народа, а также дешевизне производства, в Германии первоначально находилось огромное число русских эмигрантов [14, с. 50-54].
Однако к 1930 г. по ряду причин экономического (стабилизация марки) и политического (приход Гитлера к власти) характера численность русской эмиграции резко сократилась с 250 тыс. человек в 1922 г. до 90 тыс. в 1930 г. и 45 тыс. в 1936 г. [14, с. 54].
Париж был литературной и духовной столицей русской эмиграции. Вплоть до второй мировой войны отношение к эмигрантам в Париже было весьма либеральным. Во Франции был созданы особые социокультурные условия, позволившие сохранить русскую национальную культуру. Привычной чертой Парижа стали русские школы, магазины, рестораны, церкви. Здесь выходили газеты и журналы на русском языке.
В Сорбонне при поддержке французского правительства был организован курс изучения русской истории и литературы. Яркой приметой русского Парижа 1920-х гг. был Народный (свободный)
39
университет, где читались лекции в свободные дни и вечера, а по четвергам и субботам проводились специальные занятия для подростков. Также во Франции преподавание на русском языке велось в Техническом институте, Православном богословском институте, Франко-русском институте, Коммерческом институте, Русской консерватории им. СВ. Рахманинова.
В Париже жили и творили Г.В. Адамович, И.А. Бунин, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Ф.И. Шаляпин и др. видные деятели русской культуры, безусловно, оказавшие влияние на культуру приютившей их страны.
Наряду Берлином и Парижем, центром функционирования русской культуры за рубежом была Прага.
В 1921 г. в Чехословакии был разработан Государственный культурно-просветительный план помощи русским, который нашел поддержку широких кругов общественности, а также полное понимание в лице первого президента независимой Чехословацкой Республики, видного историка русской общественной мысли и культуры Т.Г. Масарика и видного общественного деятеля К.П. Крамаржа. В конце 1921 г. на заседании Комитета по иностранным делам Национального собрания министр иностранных дел 3. Бенеш сформулировал концепцию чехословацкой акции помощи русским беженцам. Было принято решение не только о поддержке русской эмиграции в течение длительного времени, но и определен характер этой акции с ориентацией в основном на культурно-образовательную сферу [16, с. 25-26]. Целью данного мероприятия являлась поддержка русских и украинских беженцев из среды профессиональных и научных кадров для грядущей реконструкции России. Кроме культурно-просветительной направленности данный план отражал и далеко идущие политические намерения чешского правительства -предполагалось, что Россия вновь станет демократическим правовым государством, а дружественный союз с ней мог бы окончательно закрепить независимость, приобретенную славянским народом в результате Первой мировой войны, и в определенной мере предотвратить угрозу нападения со стороны Германии. Решающую роль в укреплении славянских государств должны
были сыграть российские эмигранты, многие из которых являлись известными политиками, общественными деятелями.
В 1921-1923 гг. в Праге обосновались 150 ученых и тысячи русских студентов. В столице Чехословакии были созданы и действовали Русский юридический факультет при Карловом Университете, педагогический и кооперативный институты, автомобильная и тракторная школа, Высшее училище техников. Были выделены довольно большие суммы для стипендий студентам для помощи русской интеллигенции не только в Праге, по и в Париже. Издательства «Пламя» и «Евразийское книгоиздательство» обеспечили выпуск значительного числа русских книг [15, с. 4-20].
Лучшая часть русской эмиграции сохраняла духовную силу своей Родины и в этом смысле противостояла тому умалению духовной культуры, которое проявлялось в самых цивилизовна-ных, процветающих странах Запада и Востока.
В силу особого стечения исторических обстоятельств, после окончания гражданской войны, в 1922 г. тысячи русских людей уехали из Сибири и Приморского края в Китай - в Харбин. В «русском Харбине» оказались более 40 тыс. выходцев из России. И за три года (до массового переезда русских эмигрантов в Шанхай) этот маньчжурский город стал настоящим очагом русской культуры. В Харбине действовали русские институты -Ориентальный, Коммерческий и Экономический - в них преподавали известные профессора, издавались русские журналы и газеты - «Рубеж», «Нива», «Харбинская Заря». В Харбине, а затем в Шанхае, с исключительным успехом проходили концерты Федора Шаляпина и Александра Вертинского [3, с. 139], выступления артистов оперы и оперетты, поэтические вечера. Звучали оперы Мусоргского и Чайковского, стихи Блока, Ахматовой, Волошина. Русские художники, писатели, музыканты создали снос объединение деятелей русской культуры [13].
Значительная колония русских эмигрантов первой волны существовала в Шанхае в 1922-1949 гг. Ее образовали отступавшие в Китай русские белогвардейцы, воевавшие на Дальнем Востоке. Как пишет американский историк Том Крейрон, «у русских эмиг-
40
41
рантов был очень высокий уровень образования. Они были духовно раскрепощенными людьми. Русская культура в Шанхае расцвела. Русские стали мошной интеллектуальной силой в Шанхае». Русские школы, ггзеты, клубы, памятник Пушкину, поставленный в 1937 г. (и взорванный хунвейбинами во время т.н. великой культурной революции 1966 г.), - псе это были материальные свидетельства существования русской культуры на китайской земле. После победы китайской революции, в 1949 г. русская колония распалась, ее представители оказались в районе Сан-Франциско в Калифорнии, в Австралии, на Филиппинах.
Этот феномен - расцвет русской культуры в совершенно особой атмосфере дальневосточных городов, в иноязычной среде, в условиях неевропейского быта, - со всей очевидностью свидетельствован о глубоких корнях и о жизненности русской культуры, опиравшейся на прочные национальные традиции.
Анализ социальной структуры «первой волны» эмиграции показывает, что, вопреки сложившимся представлениям, основная масса людей, оказавшихся за пределами Советской России после октябрьского переворота, в ходе гражданской войны 1918-1922 гг. и после ее окончания не принимали активного участия в политической борьбе и противостоянии советской власти [1, с. 201-218].
Военные - «белоэмигранты»: генералы, офицеры, юнкера, казаки - не были основным социальным слоем русской эмиграции. Видный деятельно науки и культуры русского зарубежья, историк культурно-просветительной деятельности русского зарубежья П.Е. Ковалевский утверждает, что лишь «около четверти, покинувших страну, принадлежали к армиям, сражавшимся на юге России, в Крыму, вокруг Петрограда, на Севере и в Сибири» [6, с. 117].
Основную часть «белой эмиграции» - эмигрантов «первой волны» составлял и гражданские люди разных профессий и рангов: служащие и студенты, коммерсанты, учителя, профессора, артисты, писатели, журналисты и др.
Если рассматривать структуру духовных интересов этой волны эмигрантов, то в ней отразился весь сложный и противо-
речивый спектр идей и настроений, которые были в России к 1917-1920 гг. и выразились в философии и психологии, искусстве и политических пристрастиях, религиозных и нравственных исканиях [7, с. 258-283].
Если учитывать только политическую сферу, то это широчайший диапазон от монархистов до социалистов-меньшевиков и эсеров.
В области искусства - представители всех художественных школ, какие были в России: символисты и акмеисты, кубисты и футуристы,
Социологический анализ, осуществленный в Белграде Русским институтом еще в 30-е гг., установил, что в эмиграции к 1930 г. находилось до 500 российских ученых, среди них - более 150 бывших профессоров российских университетов. Из них 5 человек имели звание академиков Российской Академии наук.
Многие из них испытывали материальные лишения и нравственные унижения, работая на самых непрестижных и малооплачиваемых должностях, однако не прекращали своей научной деятельности. За рубежом существовали и трудились тысячи русских студентов и учителей. В разные периоды функционирования «первой волны» эмиграции число студентов колебалось ОТ 15 тыс. до 10 тыс. человек. Наибольшее число русских студентов находилось в Чехословакии.
Вместе с родителями в эмиграции оказалось значительное количество молодежи и детей. Это обстоятельство является определяющим при оценке культурно-образовательного пространства русского зарубежья и не осталось незамеченным исследователями. Однако точные сведения о количестве детей, оказавшихся в эмиграции по целому ряду причин, восстановить сегодня не представляется возможным. Поэтому в своих оценках мы опираемся на приблизительные, «ориентировочные» данные, опубликованные в разное время как педагогами, оказавшимися в изгнании (А.Л. Бем, В.В. Зеньковский, В.В. Руднев, Р. Словцов, Л.В. Маклецов и др.), так: и современными историками педагогики (Е. Осовский, В. А. Сухарева и др.).
42
43
Таким образом, справедливой можно считать оценку числа российских детей школьного возраста, нуждавшихся в систематической помощи со стороны общественных зарубежных организаций ориентировочно 18-20 тыс. Эта цифра составляет, практически, среднее значение от данных, приведенных В.В. Рудневым и А.Л. Бемом.
Количественные показатели молодежного состава российской эмиграции «первой волны» четко коррелируют с числом русского студенчества за границей. В литературе приводятся данные о наличии в Российском Зарубежье около 25000 студентов [5, с. 96]. В эту цифру включены студенты, эмигрировавшие в Азию (Харбин), Америку, Австралию и Африку. Европейские страны приняли около 15 тыс. русских студентов [2, с. 12].
Таким образом, необходимо понимать внешкольное образование в системе культуры как особый процесс приобщения личности к всеобщности общественно-исторического бытия, основанный на органической взаимодополняемости не только различающихся форм наследования культуры (остенсивных, императивных и аксиологических), но и смысловой синтез всего спектра ценностей культуры, находящих отражение в искусстве, науке, нравственности.
Вопросы для самоконтроля
Характеристика внешкольного образования.
Роль общественных организаций и частных лиц в культурно-просветительной деятельности российского зарубежья.
Список рекомендуемой литературы
Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж, 1980. С. 201-218.
Варшавский B.C. Незамеченное поколение: О русской эмиграции. М.: Издат. фирма «Информ-Экспресс» Ассоц. «Русская энциклопедия», 1992. С. 12.
Вертинский А. Четверть века без Родины // Москва. 1962. №3. С. 139.
ГА РФ, ф. 5773, оп. 1, д. 46 - л. 1 (об.)
Кишкин Л.С. О русской эмигрантской молодежи в Праге (1920-1930-е гг.) // Славяноведение. 1993. № 4. С. 96.
Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия: История и культурно-просветительная работа русского зарубежья за полвека (1920-1970). Париж: Изд. Libr. des eing continents, 1971. С. 117.
Костиков В.В. Не будем проклинать изгнанье: Пути и судьбы русской эмиграции. М., 1990. С. 258-283.
Осовский Е.Г. Образование и педагогическая мысль российского зарубежья // Педагогика. 1995. № 3.
Осовский Е.Г. Педагоги и деятели общественно- педагогического движения российского зарубежья: Биобиблиографический словарь. 150 биографий. Саранск. 1997. 99 с.
Осовский Е.Г. Педагогика русского зарубежья: Сергей I ессен // Школа и мир культуры этносов. Вып. 2. М., 1995.
Осовский Е.Г. Педагогическая наука в российском зарубежье: истоки и ориентиры//Педагогика. 1997. №4. С.88-94.
Осовский Е.Г. СИ. Гессен: педагогика как прикладная философия. М.,1995.
Пио-Ульский Г.Н. Русская эмиграция и ее значение в культурной жизни других народов. Белград, 1939. 174 с.
Раев М. Россия за рубежом: История культуры российской миграции. 1919-1939. М.: Прогресс-Академия, 1994. С. 50-54.
Русские в Праге. 1918-1928 гг. Редакгор-шдатель СП. Постников. Прага, 1928. С. 4-20.
Сладек 3. Русская и украинская эмиграция в Чехословакии // Советское славяноведение. 1991. № 6. С. 25-26
Старцева А.В. «Русский Берлин» в 1921-1923 гг. // Российское зарубежье: история и современность. М., 1998. С. 78-83.
Сухачева В.А. Общественно-педагогическое движение российской эмиграции в странах Европы, 1917-1939 п. Дне. ... канд. пед. наук. Саранск, 1995. С. 24.
44
45
1.6. Деятельность педагогических учреждений русской эмиграции по внешкольному образованию
Типология организаций внешкольного образования российской эмиграции.
Рассмотрим основные тины организаций, представлявшие собой целый комплекс, осуществляющих внешкольное образование в эмиграции.
В.А. Сухачева типологизирует русские внешкольные учреждений за рубежом в зависимости от выполняемых функций. Она выделяет следующие три большие группы: «образовательные, выполнявшие как общеобразовательные, так и профессиональные функции, культурно-просветительные и смешанные» [13, с. 149].
К первой группе, по мнению исследовательницы, относятся: курсы по подготовке на аттестат зрелости при Народных университетах, общеобразовательные курсы для взрослых в «Русских Домах», воскресно-четверговые школы, курсы по различным отраслям теоретического и практического знания. Ко второй группе - вечера, утренники, «Дни русской культуры», детские и юношеские организации. К третьей группе - Русские Народные университеты, «Русские Дома». Кроме того, выделены просветительные учреждения (православные приходы, библиотеки, читальни, народные театры, выставки).
Анализ типологии внешкольных учреждений, предложенный В.А. Сухачевой, показывает, что исследовательница предпринимает попытку охватить все разнообразие внешкольных образовательных учреждений русского зарубежья.
Е.Н. Медынский так характеризовал ограниченность известных ему типологий форм содействия внешкольному образованию: нельзя классифицировать в зависимости от того, за какую сторону разв ития личности отвечает та или другая мера содействия внешкольному образованию, так как, «нет средств содействия внешкольному образованию, ставящих себе задачей только умственное или только эстетическое развитие (и если бы такая была найдена, ее немедленно следовало бы исключить из сферы внешкольного образования, как не отвечающую ос-
46
новной идее последнего)». «Нельзя классифицировать и в зависимости от того, какую сторону человеческого «я» по преимуществу обслуживает то или иное мероприятие».
Неудачными, по мнению Е.Н. Медынского, является классификация в зависимости от того, «что именно служит просветительным средством: книга (библиотека, книжный склад), наглядное пособие (музей, выставка, экскурсия), живое слово (лекция, театр)». «... Такая классификация будет очень шаткой: книга является необходимым образовательным средством во всех видах содействия внешкольному образованию. Кроме того, получается целый ряд смешанных видов: курсы для взрослых, где равную роль играют и книга, и наглядное пособие, и живое слово» [13].
Безусловно, ссылки на авторитет Е.Н. Медынского, чьи груды неоднозначно воспринимались педагогами русского зарубежья, не могут служить основным ключом к пониманию специфики внешкольного образования в условиях эмиграции. Однако некоторые ценные наблюдения, сделанные Е.Н. Медынским относительно типологии внешкольного образования могут быть полезными при разработке современной классификации.
Так, нам представляется, что вполне уместным является, вслед за Е.Н. Медынским, подразделение внешкольного образования русского зарубежья на внешкольные учреждения, внешкольные мероприятия и внешкольные организации.
Укажем, что же Е.Н. Медынский понимал под каждым их этих трех компонентов внешкольного образования: «Внешкольными учреждениями мы будем называть средства содействия внешкольному образованию, имеющие:
известный район,
постоянный штат работников,
бюджет, рассчитанный на более или менее длительное существование, и систематическую работу» [13].
«Внешкольные мероприятия - это средства содействия внешкольному образованию, возникающие и существующие более или менее случайно, рассчитанные на эпизодическое суще-
47
ствование, не имеющие ни определенного района, ни установленного бюджета» [13].
Внешкольными организациями мы назовем соединения людей (коллективы] с целью сотрудничества и взаимопомощи в деле внешкольного образования. Внешкольные организации могут быть или органами государства, или же организациями частной инициативы. И те и другие организации могут преследовать или исключительно задачи внешкольного образования, или же лишь отчасти ставить себе просветительные цели, в зависимости от чего они будут делиться на подвиды: а) просветительные организации и б) организации, лишь отчасти ведущие просветительную работу.
Организации частной инициативы могут быть или первичными (первой степени), если в состав их входят в качестве членов физические лица, или же объединениями (организации второй степени), если в состав их. в качестве членов входят организации».
Исходя из сказанного, нам представляется целесообразным говорить не только об учреждениях внешкольного образования, но и о других его институтиапизированных формах. Ведь хорошо известно, что внешкольным образованием занимались различные общеэмигрантские организации, научные общества, политические партии и т.д.
В определенной мере попыткой типологизации внешкольного образования русского зарубежья можно считать выделение секций и подсекций на Первом русском зарубежном съезде по внешкольному образованию (1-3 июля 1928 г.).
В переписке Педагогического бюро по делам средней и низшей школы за границей с русскими эмигрантскими организациями и разными лицами о подготовке к созыву съезда по внешкольному образованию в Праге содержится любопытный документ, дающий представление о предполагаемом наборе секций. Речь идет о письме А.Б. Арцишевского Всероссийского союза городов в Болгарии, члена Временного Главного комитета Всероссийского союза городов (Болгария, 25 января 1928 г.), написанном на имя Председателя комиссии по организации секции Народных университетов профессора М.М. Новикова.
В этом письме перечислены секции, которые предполагалось организовать на внешкольном съезде:
Библиотечная секция.
Секция разумных развлечений, юношеских организаций И физического образования.
Секция дополнительных занятий.
Секция народных университетов [6].
Секция разумных развлечений, юношеских организаций и физического образования имела подсекции: а) внешкольной религиозной работы; б) юношеских организаций; в) физического образования.
Сходную классификацию мы находим у СО. Серополко. Структура лекционного курса «Внешкольное образование», прочитанного СО. Серополко в Праге в 1924-1926 гг., позволяет нам сделать вывод о том, что СО. Серополко выделял следующие средства содействия внешкольному образованию, которые в современной педагогической терминологии принято называть формами педагогической деятельности:
Библиотеки, читальни, книжные склады и издательства.
Чтения и лекции.
Школы и курсы для взрослых.
Музеи, выставки, экскурсии.
Художественное образование (изобразительное искусство, театр, музыка, танец и др.).
Народные дома и кпубы [7].
Если принять допущение, что систематизация секций на внешкольном съезде и классификация СО. Серополко в определенной мере отражают содержание практической деятельности по внешкольному образованию в русском зарубежье, то можно сделать следующие выводы:
Внешкольное образование охватывало все социальные и возрастные страты русской эмиграции.
Внешкольное образование осуществлялось в Сфере свободного времени, т.е. времени, не занятого работой.
Внешкольное образование нацеливалось на духовное, нравственное, умственное и физическое развитие личности.
49
48
• Внешкольное образование осуществлялось различными социальными институтами - в том числе русскими школами и гимназиями, общественными и религиозными организациями.
Раскрывая последнее обстоятельство, важно отметить, что внешкольное образование русского зарубежья характеризуется преимущественно интеграционным подходом к его организации, сущностной стороной которого являлось включение функций внешкольного образования в деятельность различных учреждений, общественных организаций наряду с другими, характерными для них функциями.
Указав на интегративную природу внешкольного образования русского зарубежья, мы имеем все основания для разработки типологии внешкольного образования по уровню генерализации функций внешкольного образования (от слабой до сильной генерализации) в деятельности различных образовательных и воспитательных учреждений, общественных организаций, политических движений и других социальных институтов.
Под социальным институтом традиционно понимается «социальное образование, или учреждение, - социальная единица надындивидуального уровня, организация, выступающая субъектом социальных отношений и действий» [4, с. 124-125].
Следуя этому определению, мы можем выделить еще одну шкалу для типологизации учреждений и социальных институтов, обеспечивающих реализацию задач внешкольного образования - по уровню институци онализации (от слабой до сильной выраженности). Слабым уровнем институционализации характеризуются общественные инициативы, неформальные объединения, гражданские движения и др. В то же время высокий уровень институционализации характерен для учреждений образования, культурно-просветительной работы и др.
Ведь известно, что все социальные институты находятся в динамичном процессе институционализации. Это «процесс формализации социальных отношений, переход от неформальных отношений (объединений, соглашений, переговоров) и неорганизованной деятельности к созданию организационных структур с иерархией власти, регламентацией соответствующей деятельности, тех или
иных отношений, их юридической легализацией, если это возможно и необходимо. Организация и формализация общения, отношений и деятельности превращает их в институт семьи, школы, учреждений и т.д. Институционализация представляет собой синергетический процесс перехода от самоуправляющихся и самоорганизующихся явлений к организованным и управляемым» [10, с. 125].
Любопытно, что анализ распределения социальных институтов, обеспечивающих внешкольное образование в условиях российского зарубежья, выявляет тенденцию постоянного ослабления тенденций институционализации. Здесь речь идет о смещении акцентов во внешкольном образовании с учреждения, как основного проводника внешкольной работы, к объединению граждан. В то же время в Советской России этот процесс шел прямо в противоположном направлении - от частных и общественных инициатив как социальных институтов с невысоким уровнем институционализации к государственным учреждениям внешкольного образования, имеющим предельно высокую степень институционализации.
S)
I
i
I
Высокий уровень генерализации функций внешкольного образования
III. |
I. |
Общественные |
Специализированные |
объединения, |
учреждения |
имеющие целью |
имеющие целью |
содействие |
содействие |
внешкольному |
внешкольному |
образованию |
образованию |
IV. |
П. |
Общественные |
Учреждения, |
объединения, |
выполняющие |
выполняющие функции |
функции |
внешкольного |
внешкольного |
образования как дополни- |
образования как |
тельные |
дополнительные |
к своей основной |
к своей основной |
деятельности |
деятельности |
Низкий уровень генерализации функций внешкольного образования
50
Рис. 1. Типология учреждений внешкольного образования
51
Итак, нами выделено две шкалы для типологизации учреждений и социальных институтов, обеспечивающих реализацию задач внешкольного образования. Первая шкала должна показывать уровень генерализации функций внешкольного образования в их деятельности. Вторая - уровень институциализа-ции того или иного социального движения, объединения, учреждения (см. рис. 1).
Соотнесение этих двух шкал позволяет нам выделить, с определенной долей условности, четыре больших группы. В них, в целях анализа, мы объединили различные социальные институты, в той или иной мере выполняющие функции внешкольного образования в общественной и педагогической работе русских эмигрантских учреждений.
Типология выстраивается по степени уменьшения роли и значения функций внешкольного образования в деятельности социальных институтов русской эмиграции и по степени снижения уровня институциализации:
I. Специализ и рованные учреждения имеющие целью содействие внешкольному образованию: специализированные учреждения внешкольного образования - библиотеки и читальни, народные университеты, школы и курсы для взрослых различных типов и ступеней; учреждения культуры и искусства -музеи; театр; кинематограф (как учреждение); студии (различных типов: изобразительных искусств, музыкальные, драматические, литературные и пр.); учреждения клубного типа - народные дома, клубы.
II. Учреждения, выполняющие функции внешкольного образования как дополнительные к своей основной деятельности: учреждения общего и специального образования -русские школы и гимназии, университеты, военные учебные заведения и др.; учреждения социальной направленности - детские учреждения интернатного типа, приюты, детские дома, детские оздоровительные лагеря, благотворительные учреждения и др.; научно-исследовательские учреждения и учреждения высшего образования - высшие учебные заведения, научные институты, академические общества и др.;
Общественные объединения, имеющие целью содействие внешкольному образованию: культурно-просветительные, объединения эмигрантов: общества народных домов, музыкально-драматические, художественио-литературные, хоровые общества и кружки, кружки родиноведения, библиотечные и педагогические общества; объединения в сфере искусства и литературы - объединения литераторов, художников, творческой интеллигенции и др.
Общественные объединения, выполняющие функции внешкольного образования как дополнительные к своей основной деятельности: общественно-политические объединения эмигрантов - политические партии, национальные движения, молодежные политические движения; профессиональные союзы - профессиональные объединения; религиозные объединения - православньге общества, кружки православной молодежи и др. . ■
Естественно, что включение в данную типологию тех или иных социальных институтов русской эмиграции предполагает, ЧТО внутри каждой группы данные социальные институты также могут быть стратифицированы.
Кроме того, отдельные социальные институты могут входить в «типологические пространства» рядом лежащих типологических групп, показывая этим качества амбивалентности феноменов институционализации и степени выраженности функций внешкольного образования.
Все внешкольные образовательные учреждения русской эмиграции и внешкольная деятельность общественных объединений русского зарубежья обусловили формирование особой образовательной среды, способной воспроизводить национальную культуру, интегрировать подрастающие поколения и взрослых людей в изменяющиеся социокультурные контексты. В этом смысле внешкольное образование составляло образовательную среду, которую сегодня принято характеризовать как «постоянно расширяющуюся сферу жизнедеятельности растущего человека, включающую в себя все большее богатство опосредствованных культурой его связей с окружающим миром, учащая извлекать познания из собственной деятельности, из на-
52
53
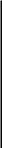 блюдений
и восприятий, раскрывать жизненное
значение изучаемых объектов, постигать
принципы собственных действий и
руководствоваться
ими в новы?;, ситуациях [2, с. 3-8].
блюдений
и восприятий, раскрывать жизненное
значение изучаемых объектов, постигать
принципы собственных действий и
руководствоваться
ими в новы?;, ситуациях [2, с. 3-8].
Педагогическая деятельность внешкольных учреждений российского зарубежья. Последующий анализ отдельных типов учреждений внешкольного образования, действовавших в странах русского рассеяния, не может претендовать на полноту и исчерпывающую характеристику лишь по той причине, что поле внешкольной образовательной деятельности русского зарубежья было предельно широким, а типы социальных институтов, занятых им, весьма вариативны. Понимая это, мы даем характеристику отдельных типов внешкольных учреждений в эмиграции таким образом, чтобы в соответствии с задачами данного исследования нарисовать картину, достаточную для понимания общих и специфических закономерностей их становления и функционирования. В определенной мере этот подход оправдывается тем, что в последнее время появились фундаментальные исследования культурной жизни русской эмиграции, полное фактологическое повторение которых вряд ли было бы оправдано.
Специализированные учреждения, имеющие целью содействие внешкольному образованию. В первую группу в соответствии с разработанной нами типологией учреждений внешкольного образования русского зарубежья входят специализированные учреждения, имеющие целью содействие внешкольному образованию. В их деятельности учитывались все основные организационно-педагогические условия, необходимые для педагогической деятельности учреждений с высокой степенью институционализации и высоким уровнем генерализации функций внешкольного образования, которые были основными в работе таких учреждений, как:
« учреждения образования и просвещения - библиотеки и читальни, народные университеты, школы и курсы для взрослых различных типов и ступеней;
• учреждения клубного типа - народные дома, клубы;
• учреждения культуры и искусства - музеи; театр; кинематограф (как учреждение); студии (различных типов: изобра-чцельных искусств, музыкальные, драматические, литературные и пр.).
Учреждения образования и просвещения - библиотеки и читальни, народные университеты, школы и курсы для взрослых различных типов и ступеней.
Русские народные библиотеки и читальни. Неотъемлемая часть внешкольного образовательного пространства русского шрубежья - русские народные библиотеки и читальни.
Учреждение библиотек и общее руководство их деятельностью не подчинялось единым правилам. В большинстве случае их учреждением занимались Земгор и Всероссийский Союз городов, а к финансированию привлекались правительства страны проживания.
В комплектовании библиотек приняли участие иностранные благотворительные организации, иностранные библиотеки, частые лица. Русские библиотеки и читальни существовали как самостоятельно, так и в составе «Русских Домов». Основная цель русских библиотек заключалась в распространении национальной культуры и образования в российском зарубежье.
И.Н. Сапожникова, выступая на библиотечной секции Первого Зарубежного съезда по внешкольному образованию, так охарактеризовала формы и методы сотрудничества библиотеки и читателя:
«I. Специальные виды культурно-просветительной работы в эмигрантских библиотеках сводятся к двум: борьба с денационализацией и практическая помощь эмигранту.
Первая достигается путем создания: определенного ядра библиотеки, состоящего из книг, иллюстрирующих достижения русской культуры.
Вторая - путем концентрирования в библиотеке всевозможного справочного материала.
II. Если сотрудничество библиотекаря и читателя желательно во всякой библиотечной работе, то в условиях эмигрантской жизни это сотрудничество является особенно ценным. Так как, с
54
\
55
'
одной стороны, социально воспитывает читателя, с другой стороны, может служить реальной помощью библиотекаря» [6].
Во внешкольной библиотечной работе русского зарубежья апробировались все новации библиотечного дела - внедрялась десятичная система классификации, оптимизировались способы доставки книги к читателю, проводилась целенаправленная работа по формированию полноты книжных собраний.
Анализируя современное состояние библиотечного дела, СИ. Гессен отметил, что «меняется самая психология библиотекаря: классический тип старого библиотека как custos'a, т.е. простого сторожа вверенных ему книжных богатств, смотрящего на читателя как на своего личного врага, становится все более и более анахронизмом» [5].
«Хорошим тоном библиотечной работы становится предупредительное отношение и посильное удовлетворение всех требования читателей, особенно новичков, без вхождения в рассмотрение вопроса о важности и даже основательности требования. Этим процессом приближения книги к читателю обусловливается и вся материальная сторона библиотечного дела - развитие техники хранения, выдачи, инвентаризации и каталогизации книг, чрезвычайно усложнившейся в настоящее время, превратившейся почти что в особую техническую науку. Развитие современной библиотеки можно уподобить развитию железной дороги, непрерывно увеличивающей свою пропускную способность и скорость движения, все точнее согласующей свое расписание с расписанием соседних путей сообщения и все более упрощающей условия пользования зю со стороны пассажиров.» [5, с. 218-219]
Эти тенденции в развитии библиотечного дела в.условиях эмиграции помогли поставить его на современный уровень, привлечь читателей, превратить библиотеки в настоящие центры образования и культуры.
Судя по систематизированным данным, приведенным в работе В.А. Сухачевой, величина, фондов библиотек русского зарубежья сильно различалась. В Европейских странах «существовали библиотеки, имеющие «сего 1000 книг, как Пушкинская библиотека-читальня в Софии. Библиотека «Русского Очага» в
Праге насчитывала в своем составе 5176 томов. Фонд русской публичной библиотеки при «Русском Доме» в Белграде состоял из более чем 60000 книг. Наиболее крупной по величине фонда являлась Русская библиотека им. И.С. Тургенева в Париже, насчитывающая к 1940 г. более 100000 томов» [13, с. 169).
Фонды русских библиотек интенсивно использовались. Так, Пушкинская библиотека в Софии, несмотря на наличие всего около 1000 книг, имела более 500 читателей.
Библиотеку «Русского Очага» в Праге, имеющую более 5000 томов, посещало в среднем 200 человек.
Широта воспитательных возможностей русской книги была особо отмечена в докладе Л.А. Крезе «Русская книга в Праге», сделанном на заседании библиотечной секции Первого зарубежного съезда по внешкольному образованию: Русские книгохранилища в Праге по характеру собранных книг и по способу их использования можно разделить на три группы.
Библиотеки-читальни общественного пользования. В эту группу входят следующие библиотеки: Библиотека-читальня Земгора с книжным запасом 35.783 книги), Библиотека Чешско-русской Едноты (6000), библиотека-читальня Русского Очага (5176 кн.) и библиотека Общеказачьего сельскохозяйственного союза (2492 кн.). (Библиотеку «Русского Очага» в Праге, имеющую более 5000 томов, посещало в среднем 200 человек.)
Библиотеки учебных пособий и школьные. Библиотека комитета по обеспечению образования русских студентов в ЧСР (39493), Русской реальной гимназии «Земгора» (17896 кн.), Института сел. хоз. кооперации (6740 кн.), Училища железнодорожных техников 2040 кн.) и Авто-школы Земгора (514 кн.). .. .общий запас в 66683 книги...
Научные и специальные библиотеки. В библиотеках. Русского исторического архива (13700 кн.), Экономического кабинета проф. Прокоповича (3520 кн.), Института Изучения России (1000 кн.) и Донского Казачьего Архива (428 кн.) подобраны книги по общественно-политическим вопросам:, революционному движению в России, а также о современном, послевоенном состоянии России. В русской религиозной Библиотеке находят-
57
56
ся книги (1520 т.) исключительно религиозно-философского содержания. (Всего в научных и специальных библиотеках собрано 20170 книг.) [13].
Таким образом, в русских библиотеках г. Праги «путем тщательного подбора и больших усилий (книги дореволюционных изданий на заграничном рынке часто совершенно невозможно найти) был собран большой книжный фонд в 136.304 книги. Фонд значительный и по своему содержанию и по своей величине превосходящий многие публичные библиотеки больших городов. Этот книжный фонд содержит богатое собрание книг по различным отраслям человеческого знания, истории и литературы дает возможность удовлетворять самые разнообразные запросы читателей и оказывает незаменимую помощь в научной работе не только русской эмиграции, но и всем лицам, интересующимся русской культурой, ее историей и ее современным состоянием».
Л.А. Крезе особо подчеркивает, что книжный «фонд не лежал мертвым капиталом. В Библиотеках общего пользования было прочтено с 1921 по 1928 г. 626195 книг (из них 45% - научных, а остальные беллетристика и литературные журналы); в библиотеках учебных и школьных было не только прочтено. Но проштудировано 242711 научных книг и пособий, а ученых и специальных библиотеках прочтено 15786 книг».
Менее благополучно была обставлена работа русских библиотек в лимитрофных государствах, где преобладало крестьянское русское население, не имевшее высоких образовательных запросов. Так, например, в Литве имелись несколько частных библиотек и две общественные: одна при студенческом объединении в Ковне (Каунас), другая при русском культурно-просветительном обществе в Поневже. Первая из них имела около 3000 томов, работала на частных началах (т.е. взимался залог' и плату за чтение), и, тем не менее, эта библиотека работала «с дефицитом, для покрытия которого студентам приходится устраивать вечера и лекции».
Просветительной работой в Латвии в конце 1920-х гг. занимались библиотека Русского Клуба в Риге, Литературного Об-
58
щества в Либаве, Учительского Союза в Двинске, насчитывающая до 15-20000 томов каждая и обслуживающая читателей - членов этих организаций (за исключением последней, выдающей книги за плату всем желающим), и до 10 частных платных библиотек.
Распространению русского книжного дела за границей способствовали выставки русской книги по всем отраслям знаний (философия, религия, сельское хозяйство, мемуарная литература, учебники, труды по филологии, физике, химии, математике и др.).
Русские Народные университеты. Важным учреждением внешкольного образования являлся Народный университет, русский Народный университет - общеобразовательное высшее учебное заведение просветительного характера, посещение которого не давало никаких формальных прав, но очень много сделало в повышении культурного уровня и знаний русской эмиграции.
В условиях эмиграции Русский Народный Университет -явился таким типом внешкольного учреждения, который был адекватен существующим в эмигрантской среде образовательным и научным
потребностям. Но, поднимаясь над задачами только «научения», университет становился центром культурных связей между народом русским и народом приютившим его в своей стране. Так перед деятелями внешкольного образования вставал объективная задача превращение Русского Народного Университета в средство культурного сближения между русским и другими народами, среди которых живут русские эмигранты.
Выступая на Первом Зарубежном съезде по внешкольному образованию, профессор Н.М. Могилянский в докладе «О роли задачах народных университетов в эмиграции» так оценил роль и значение этих внешкольных учреждений:
Русский народный университет возник на почве стремления к просвещению широких демократических масс населения в значительной мере как выход к свету и науке через преграды, которые часто стоят на путях к школе и широкому просвещению.
Русский народный университет направил свою деятельность по двум основным руслам: с одной стороны, он создал рад курсов для содействия общему образованию, возможности усвоить
59
мировоззрение в связи с выводами объективной науки и с другой -он создал курсы систематический практических знаний, полезных для условий житейской борьбы, создания общественного материального положения на основе общеполезного труда.
3. Русский народный университет в эмиграции сохранил эту культурную традицию и является по мере сил и средств, которыми он обладает в различных условиях своего существования в разных странах русского рассеяния, проводником общих идей, имеющих огромное значение в связи с переживаемым историческим моментом [6].
Не случайно, з Резолюция?; Первого Зарубежного съезда по внешкольному образованию отмечено огромное морально-воспитательное значение, которое Русский Народный Университет играет в сфере внешкольного образования эмиграции. На Съезде было признано, что «необходимо направить все усилия к поддержке русских народных университетов и обеспечения их нормальной работы». При этом «указана необходимость приспособлять Русские народные университеты на местах к местным условиям. Желательно устройство при университетах агрономических секций, образования подвижных педагогических музеев и создания в Праге «Центрального информационного Отдела» для осведомления о деятельности всех Зарубежных Русских народных университетов. Осуществление этой задачи поручено Совету Русского Народного Университета в Праге и Русскому Педагогическому Бюро...» [7].
Народный университет - это одна из самых известных форм внешкольного образования в дореволюционной России, представлявшая собой общедоступные просветительные учреждения, способствующие повышению культуры и профессионального мастерства независимо от образовательного уровня и возраста. Университеты были неоднородны по целям обучения, структуре, содержанию изучаемых дисциплин, формам и методам преподавания. В 1908 г. в Москве состоялся Первый Всероссийский съезд деятелей обществ народных университетов. Наиболее известные учреждения данного типа - Пречистенские
курсы в Москве (1897), Городской народный университет им. А.Л. Шанявского (1908-1918).
В условиях эмиграции Народные университеты действовали в Чехословакии, Франции, Югославии и Болгарии. Здесь с успехом были воспроизведены формы работы и традиции аналогичных учреждений в России. В настоящее время известны данные о деятельности русских.
Университеты были созданы по инициативе Земгора, от которого получали необходимую материальную и методическую поддержку. Некоторую помощь оказывали народным университетам и иностранные благотворительные организации стран нахождения. Активными участниками деятельности Народных университетов были ученые и общественные деятели, получившие свою известность еще в России. В Пражском народном университете работали А.А. Кизеветтер, М.М. Новиков, И.И. Лапшин, Е.А. Ляцкий, Н.О. Лосский, П.Б. Струве, П.И. Новгородцев, С.А. Острогорский, СИ. Гессен, СН. Прокопович и другие. Во Франции - В.К. Агафонов, В.П. Аршацов, В.В. Кравцов, К.Р. Кровопусков, СИ. Метальников, Д.М. Одинец, Т.И. Полнер и др. В Болгарии - А.В. Арцишевский, И.А. Базанов, ИМ. Би-цилли, С.С. Демосфенов, К.И. Иванов и др.
По словам Н.М. Могилянского, «деятели Русских народных университетов в эмиграции проводят каждый в своей сфере научную работу, о которой можно судить еще до появления ее в печати по тем лекциям и докладам, которые читаются в организованных при Народном Университете ученых обществах., курсах и семинариях. Эти общества объединяют иногда при Народном Университете серьезные научные силы, создавая центры умственной жизни в отдельных, специальных сферах знания».
Научно-просветительская жизнь народных университетов была очень интенсивной и разнообразной. Например, М. Бейс-сак, рассказывая о Парижском Народном университете, упоминает такие темы публичных лекций: «Сыновья и пасынки истории (Декарт и Спиноза), «Учение Аристотеля», «Любовь и смерть в мировой поэзии: предания и лирика Египта, Вавилона, Эллады, Индии и Китая» и др. Здесь популярно было проведе-
60
61
ние литературных вечеров и исторических концертов, которые были посвящены каким-либо историческим или научным событиям. Здесь был прочитан цикл лекций о литературных течениях во Франции. При Парижском Народном университете существовал отдел экскурсий, с помощью которого русские эмигранты имели возможность ознакомиться с культурными ценностями, музеями, памятниками Парижа и его окрестностей.
В Праге Русский Народный университет был открыт 16 октября 1923 г. по инициативе Объединения российских земских и городских деятелей в Чехословацкой Республике (Земгор) при активном участии группы профессоров во главе с П.И. Новго-родцевым. По уставу, зарегистрированному в МВД Чехословацкой Республики is 1925 г., его юридическим лицом являлось Общество Русского народного университета, в состав которого входило около 300 членов. Председателем Общества был профессор 3. Бажант, в распорядительный орган Общества - Кура-торий - входили представители; МИД и Министерства народного просвещения Чехословакии, чешских и русских высших школ и общественных учреждений, а. также члены, избранные общим собранием Общества. Учебной деятельностью руководил Совет преподавателей во главе с ректором (профессор М.М. Новиков).
«Русский народный университет, обращая особое внимание на изучение России, ее природы и природных богатств, ее разноплеменного населения и его экономической деятельности в прошлом, а также в переживаемый тяжелый момент - вместе с тем вселяет в сознание слушателя глубокое и обоснованное убеждение в великом будущем русского народа и в возрождении России, как правового государства» [6].
Обучение в университете проводилось по пяти отделениям: 1) общественных наук, 2) историко-филологическое, 3) естественных и прикладных наук, 4) изучения Чехословакии, 5) курсов русского и иностранных языков. Кроме обучения студентов, важной задачей деятельности Университета было просвещение, научно-популяризаторская работа и организация культурных мероприятий по всей Чехословакии.
,,,,; Председателем правления был избран профессор М.М.Новиков, его заместителем - Е.А. Ляцкий, секретарем приват-доцент М.А. Циммерман.
Университет издавал «Научные труды» и «Записки научно-исследовательского объединения при Русском свободном университете». В 1933 г. переименован в Русский свободный университет (РСУ). При нем (РСУ) работал Русский культурно-исторический музей в Збралове. 15 марта 1940 г. к университет}/ присоединены Русское историческое общество, Русская библиотека (директор С.Н. Николаев) и Русская детская школа (созданная И.И. Лаппо и руководимая С.Г. Пушкаревым). В 1943 г. университет был переименован в Русскую ученую академию, а 19 июня 1944 г. закрыт немецкой полицией. Официально закрыт МВД Чехословакии 2 марта 1949 г.
Здесь устраивались так называемые эпизодические лекции в ряде городов Чехословакии (около 200 в год). Проводились исторические концерты и литературные вечера, которым обычно предшествовала лекция на соответствующую тему, иллюстрацией к которой шла художественная программа с привлечением чешских и русских артистов. В сборнике «Русские в Праге» (1928) упоминаются научные такие семинары и научные кружки, как семинар «Новое в политической жизни» (руководитель проф. М.А. Циммерман), семинар «Новое в экономической жизни» (руководитель Д.М. Иванцов), кружок по изучению международных отношений (руководитель проф. М.А. Циммерман), кружок по психологии творчества (руководитель проф. И.И. Лапшин), семинар по общим вопросам естествознания (руководитель проф. М.М. Новиков).
Поддерживая на высоте национальное самосознание русской эмиграции путем изучения истории и достижений русской культуры, Русский Народный Университет поддерживает культурную связь и культурную традицию старых поколений России и ее грядущими новыми поколениями.
Иностранный язык в условиях эмиграции становился неотъемлемой частью общего процесса интеграции эмигрантов в социокультурное пространство зарубежных стран. Не случайно, в
\
62
63
деятельности народного университета курсы иностранных языков занимали ведущее место.
Задачи просветительской работы Народных университетов русского зарубежья можно подразделить на две большие группы: задачи распространения общекультурных знаний и задачи распространения прикладных знаний.
Первая группа задач - распространение общекультурных знаний - определяла такие формы работы, которые носили общий культурно-просветительный характер. Такими формами работы Народных университетов являлись публичные лекции, кружки по интересам, дискуссионные клубы, беседы на общеобразовательные темы, экскурсии. Эти формы работы реально способствовали расширению умственного кругозора, знакомству с последними достижениями в области науки, литературы и искусства.
В программах учебной деятельности Русских Народных университетов много внимания уделялось изучению истории и современного положения различных сторон жизни России. Эта работа была нацелена на преодоление тенденций денационализации русской эмигрантской молодежи. На лекциях подчеркивалось величие русской культуры, истории, сила русского духа.
Так, Русский Народный университет в Праге имел следующие кружки и семинары: семинар пс изучению Ф.М. Достоевского (руководитель А.Л. Бем), семинар по изучению Л.Н. Толстого (руководитель проф. Е.А. Ляцкий), кружок ревнителей русского слова (руководитель проф. СВ. Завадский) и др.
В Русском Народном университете во Франции особой популярностью пользовались общедоступные лекции и беседы по русской культуре, сопровождаемые литературно-музыкальными композициями и демонстрацией картин проекционного фонаря. Были прочитаны такие лекции, как «Лирика А. Блока», «Н. Гумилев и его творчество», «Творчество А. Ахматовой», «В.Г. Короленко как писатель и общественный деятель», «Русский язык. Волевое начало как основа творчества», цикл лекций, посвященных философскому и литературному разбору творчества Ф.М. Достоевского и др. (Положение о Русском народном
университете в Париже (1922) и обзор его деятельности хранится в фонде Русского Академического союза во Франции ГА РФ).
Кроме того, Русские Народные университеты способствовали сближению русской эмиграции с местными жителями. Особенно преуспел в этом Русский Народный университет в Праге. Данное учреждение стремилось привлечь слушателей из местного чехословацкого населения, устраивая время от времени лекции о России на чешском языке. Курсы русского языка для чехов занимали видное место в деятельности Народного университета.
Вторая группа задач - распространение прикладных знаний -реализовывалась в деятельности народных университетов в процессе содействия получению русской молодежью общего образования, прерванного в России. Для этого при университетах создавались курсы по подготовке на аттестат зрелости.
Важным направлением а ходе решения задач общекультур-пого развития являлось знакомство русских с государственной и общественной жизнью страны проживания, с ее историей и культурой. Университеты активно содействовали распространению профессиональных знаний, необходимых для трудового устройства русских эмигрантов. На это была нацелена работа многочисленных курсов практических и прикладных знаний (курсы шоферов, курсы автомехаников, курсы электротехников, курсы кройки и шитья, чертежные курсы, стенографии, бухгалтерии и мн. др.).
Учреждения клубного типа - народные дома, клубы.
Видный деятель внешкольного образования русского зарубежья СО. Серополко отмечал, что «отдельные формы содействия внешкольному образованию дают наибольший эффект тогда, когда они ведут свою работу не изолированно, а во взаимной связи. Народный дом как раз и является таким учреждением, которое соединяет в себе ряд отдельных культурно-просветительных учреждений и мероприятий, согласованно выполняющих свои функции» [7J.
«Русский Дом» прямой преемник идеи комплексного внешкольного учреждения, которая была выработана в России. Как и в дореволюционной России в состав «Русских Домов» за ру■■
65
64
бежом чаще всего входили библиотеки-читальни, общеобразовательные курсы для взрослых, народные театры, скаутские отряды, чайные и дешевые столовые. Здесь устраивались учебные и научные учреждения, музеи, передвижные и постоянные выставки. Помещения «Русских Домов» широко использовались разнообразными русскими культурно-просветительными обществами и организациями для проведения собственных культурно-просветительных и образовательных и иных программ.
СО. Серополко, придерживавшийся концепции целостного воздействия на личность со стэроны внешкольных учреждений отмечал, что «библиотека, народные чтения и воскресные школы - эти испытанные формы содействия внешкольному образованию народа - не могут удовлетворить всех потребностей духовной жизни человека. Ведь каждый из нас имеет стремление не только к знаниям, но и к искусству - музыке, живописи, театру, - нуждается в отдыхе вне; обычной обстановки своего труда, в общении с другими людьми» [7J.
Е!от почему возрастает роль учреждений клубного типа, объединяющих в условиях эмиграции разнообразные кружки, секции, художественные коллективы и др. Такие учреждения интегрировали не только функция учреждений внешкольного образования, но и становились местом, где получали свое развитие общественные и частные инициативы культурно-просветительного, воспитательного характера. Ибо народный дом {или как чаще всего называли эти учреждения - «Русский дом» или «Русский очаг») и был призван органически связать в одном центре культурно-просветительные мероприятия с привлечением русского населения к активному участию как в осуществлении культурно-просветительных мероприятий, например, концертов, спектаклей и т.п., так и в руководстве всеми мероприятиями, осуществляемыми народным домом, путем создания при нем особого общества народного дома.
Такие общества формировались при всех русских домах, они брали на себя управление народным домом, организуя при нем отдельные кружки или комиссии, ведающие тем или иным мероприятием культурно-просветительного характера. Напри-
мер, библиотечная комиссия, драматический кружок, кружок по изучению местного края и т.п. Народные дома действительно становились центром общественной жизни русского населения в странах рассеяния, которое чувствовало тяготение к народному дому как к своему культурному центру.
«Русские Дома». Содержание работы учреждений этого типа составляли религиозно-просветительные беседы, лекции и доклады, литературные вечера и концерты. «Русские Дома» чаемо становились центрами внешкольной работы русской колонии, обслуживающими духовные и материальные нужды беженцев. «Русские Дома» пользовались неизменной популярностью среди русских беженцев. Посещаемость некоторых «Русский Домов» достигала 2000 человек в день, а, например, за два года в «Русском Очаге» (Прага) было 367 собраний разных обществ и организаций и зарегистрировано 111500 посещений.
Е.И. Тихоницкий говоря об опыте внешкольного образования в Латвии, отметил, что «местами отдельные просветительные мероприятия начинают концентрироваться в идею народных домов. Затруднения материального характера задерживают претворение в действительность. Но в трех местах уже народные дома осуществляются: один в городе (в Двинске), два в волостях (Вышгородской и Качановской), в двух случаях - при пособии правительства, в третьем эту трудную задачу берет на себя целиком местное просветительное общество. В городе Риге русское просветительное общество также поставило на очередь вопрос о постройке русского народного дома и образовало особый денежный фонд для этой цели» [13].
Однако, как показывает анализ белоэмигрантской периодической печати, «Русские Дома» получили наибольшее распространение в славянских странах - в Болгарии, Польше, Чехословакии, Франции, Югославии. «Русские дома» в этих странах являлись учреждениями, подведомственными Всероссийскому Союзу городов:
• в Болгарии «Русские Дома» были открыты в Софии, Варне, Плевене в 1920 г., а в 1926 г. в Тырново;
66
67
 • в
Польше
«Русский
Дом» был создан в Варшаве по ини
циативе
Комиссии объединенных русских эмигрантских
учреж
дений в Польше (1925-1926);
• в
Польше
«Русский
Дом» был создан в Варшаве по ини
циативе
Комиссии объединенных русских эмигрантских
учреж
дений в Польше (1925-1926);
• в Чехословакии был открыт «Русский Очаг» (Прага) с целью духовных и культурно-просветительных потребностей русской колонии и особенно русской учащейся молодежи. Это учреждение находилось под покровительством чешского Крас ного Креста. Заведующей «Русского Очага» являлась известная деятельница внешкольного образования в России гр. СВ. Па нина, которая в 1903 г. в Петербурге на свои средства открыла Лиговский Народный дом. В частности, помещения «Русского Очага» использовались для проведения педагогических съездов, организационных собраний комитета «Дня русской культуры» и состоящей при Комитете редакционно-издательской комиссии.
• во Франции при Народном университете в Париже дей ствовал «Дом русской молодежи» в целях знакомства молодежи с российской истерией, литературой и искусством и народными традициями;
• в Югославии работал «Русский Дом» им. императора Николая II (Белград), являвшийся одним из самых крупных культурно-просветительных учреждений российского зарубе жья. Он был задуман и построен Русским Культурным Комите том при поддержке Державной Комиссии во главе с сербским проф. А.И. Беличем и короля Александра I. В его состав входи ли Русский научный институт, Государственная комиссия по мощи русским беженцам, Русская публичная библиотека с ар хивом и издательской комиссией, русско-сербская гимназия и начальная школа, .домовая церковь.
Учреждения культуры и искусства - музеи; театр; кинематограф (как учреждение); студии (различных типов: изобразительных искусств, музыкальные, драматические, литературные и пр.).
Важная роль отводилась в эмиграции деятельности Русского театра, Русской оперы, Русского балета и Русской консерватории, которые посещали люди разного возраста.
Образцом внешкольной работы среди русских эмигрантов является деятельность Театр русской драмы в Риге - «русская
68
Рига может гордиться постоянным театром русской драмы, ко-горый приобрел репутацию серьезного художественного предприятия. Благодаря общедоступным спектаклям, предоставлению бесплатных мест рабочему населению и поездкам артистов цримы даже по сельским местностям, художественное влияние русского театра довольно широко проникает даже в толщу рус-I кого населения». Русский театр является частным предприяти-но пользовался пособиями от казны и от города Риги в раз-Мсрс примерно 50.000 лат (и назывался русским менынинствен-иым театром в Латвии).
Музеи и коллекционные собрания. Создание и сохранение музейных собраний является одним из самых слабо изученных аспектов культурной деятельности российских эмигрантов. Музейному делу россиян в зарубежье посвящена публикация JI.II. Муромцевой и В.Б. Перхавко «Одна из сторон духовной Жизни российской эмиграции первой волны» [11, с. 187-190], ко-Горня в определенной мере восполняет недостаток информации . ПО данному вопросу. Ее авторы справедливо отмечают, что, в Отличие от эмигрантских архивов, музейные собрания до сегодняшнего дня обойдены вниманием ученых.
13 большинстве эмигрантских музеев, наряду с прочими жспонатами, хранились архивные документы и фотографии, редкие книги.
Как подчеркивается в данной публикации, исследователям рще предстоит точно определить состав музейных коллекций, проследить их дальнейшую судьбу и, что, по мнению авторов, < «мое главное, установить их современное местонахождение. Ли юры характеризуют музейные собрания российского зарубежья, дают краткую характеристику коллекций.
I [римечательны сведения о числе эмигрантских музейных со-брнний, существовавших в 1920-1930-е гг. - по всему миру было около сорока музеев. Русские музеи существовали в Чехословакии, Китае, Болгарии, Германии, Тунисе, Франции, Югославии, США, Натвии, Ватикане и др. государствах [11, с. 187-190].
11ам важно подчеркнуть, что, как особое культурно-просве-ГИтельное учреждение, музеи играли особую роль в духовной
69
 жизни
эмигрантов, были плодом подвижнической,
бескорыстной деятельности интеллигенции
российского зарубежья.
жизни
эмигрантов, были плодом подвижнической,
бескорыстной деятельности интеллигенции
российского зарубежья.
Среди музейных учреждений русской эмиграции наиболее известен Русский культурно-исторический музей в Праге, который был создан в 1934 г. как общественное учреждение русских эмигрантов, проживавших в Чехословакии. Идея создания принадлежала В.Ф. Булгакову, который являлся его директором. В создании музея принимали участие АЛ. Бем, Н.И. Астров, СВ. Завадский, СВ. Панина, М.М Новиков, А.Н. Фатеев и др.
Целью учреждения музея являлось собирание, хранение, изучение и экспонирование предметов и материалов, относящихся к истории жизни, творчеству и быту русской эмиграции (знамена, ордена, медали, оружие, иконы, костюмы, портреты, картины, скульптуры, реликвии, связанные с жизнью и деятельностью известных русских писателей, ученых, художников, артистов; рукописи художественных, научных, музыкальных произведений, плакаты, афиши, чертежи изобретений и др.).
При музее была создана библиотека, главной задачей которой являлся сбор печатных изданий о литературном и научном творчестве представителей русской культуры и науки.
Открытие музея состоялось 29 сентября 1935 г. в здании Збраславского замка близ Праги.
По положению управление музеем осуществлялось музейной комиссией при Русском свободном университете, избираемой Советом профессоров университета сроком на 2 года. Непосредственное руководство осуществлял директор, назначаемый Советом профессоров. Музей осуществлял свою деятельность на частные пожертвования, частично - из средств, выделенных Русским свободным университетом. Имели место единовременные субсидии правительства Чехословакии, за вход- в музей взималась плата.
Экспонаты передавались в музей в виде дара, на временное хранение или на время их экспонирования.
Комплектование осуществлялось через представителей музея в различных странах.
К началу 1940-х гг. в стрз'ктуре музея существовали сле-(ующис отделения: художественное (собрано более 300 картин цнощихся русских художников), архитектурное (проекты, ■|. ртсжи, рисунки, фото зданий русских архитекторов), теат-I'.iiuioc (эскизы декораций, рисунки костюмов, плакаты, афиши портреты артистов и т.д.), Пушкинское - создано в 1937 г. к |ио иетию со дня смерти А.С Пушкина (портреты А.С. Пушки-iiii и его современников, рисунки, иллюстрации к произведешь ИМ иона), отделение русской старины (старинные портреты, Миниатюры, ордена, медали, монеты, посуда, костюмы и т.д.), 1ш\ mi к) -литературное (портреты писателей, поэтов и ученых, их ними рифы, рукописи произведений), а также библиотека (книги |i\< ских писателей, изданные за границей, черновики рукописей К \ и 1жес1 венных произведений). Музей был закрыт в 1944 г.
() 1 мечая, что каждая из сберегавшихся эмигрантами коллекций имела свою неповторимую, а порой и драматическую п. торию, свою судьбу, отличалась определенным своеобразием, 'I II. Муромцева и В.Б. Перхавко выделяют и общие черты, ха-рпктерные для эмигрантских музейных собраний 1920-1930-х гг., КМК общественных, так и частных:
практически все из русских музеев за границей имеют авторство инициативы создания,
их существование подкреплялось соответствующим правовым статусом и источниками финансирования;
имеется некоторая общность судеб коллекций, поскольку их преимущественная тематика связана с историей России, се духовной и национальной культурой;
значительная роль эмигрантских музеев в духовной ччшш зарубежья, определялась их культуроохранной и про-i'Коптельской функциями [6].
Определенную роль во внешкольном образовании, особенно и вельской местности играли передвижные музеи и выставки.
Гак, например, в конце 1920-х гг. в г. Риге возникло Обще-, пит любителей старины, которое ставило своей задачей оты-I к.nine, сохранение и популяризацию русской старины и народим ч мотивов в прикладном искусстве. Весной 1928 г. этим об-
70
71
ществом была устроена выставка русских народных рукоделий, вышивок, тканей. Опыт оказался удачным: были собраны интересные экземпляры русского народного орнамента. Выставка привлекла много посетителей. Впоследствии устроены передвижные выставки народного искусства, воспитательное значение которых выражалось в пробуждении уважения к старине, понимания ценности своей культуры и развития эстетического вкуса в народе.
Учреждения, выполняющие функции внешкольного образования как дополнительные к своей основной деятельности.
Вторую группу составляют учреждения, выполняющие функции внешкольного образования наряду с основными видами деятельности - в этой группе необходимо назвать следующие учреждения (с невысоким уровнем генерализации функций внешкольного образования и высокой степенью институционализации):
учреждения общего и специального образования - русские школы и гимназии, университеты, военные учебные заведения и др.;
учреждений социальной направленности - детские учреждения интернатного типа, приюты, детские дома, детские оздоровительные лагеря, благотворительные учреждения др.;
научно-исследовательских учреждений и высшего образования - высшие учебные заведения, научные институты, академические общества и др.;
а) учреждения общего и специального образования -русские школы и гимназии, университеты, военные учебные заведения и др.
Современные исследования показывают, что распределение русских образовательных учебных заведений по регионам Европы было очень неравномерным и «численность учащихся по отношению к взрослой части русской эмиграции не соответствовала реальному соотношению, а определялась главным образом размерами материальной поддержки школы» [3, с. 297-298]. Предводительства Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. в Югославии) и Болгарии оказывали постоянно увеличивающуюся материальную помощь, но полностью со-
держать русские школы они не могли. Об этом свидетельствуют многочисленные доклады о положении русских школ в эмиграции - например, доклад Д.М. Сокольцова о положении русской школы в Польше, доклад П. Соковнина о положении русской школы в Болгарии, доклад З.А. Макшеева о положении русской школы в Югославии и т.д.
Предводительства множества государств Западной и Юго-Восточной Европы, хотя и не оказывали помощи, но и не препятствовали деятельности эмигрантских учебных заведений.
Общее число русских школ к середине 1920-х гг. составило: в Чехословакии, Югославии и Болгарии - 16 начальных и 26 средних школ, а в других странах Западной Европы (исключим бывшие территории Российской империи) - всего 11 начальных и 6 средних школ. Также были созданы за счет частных пожертвований и платы за обучение школы - в Германии, Франции, Греции, Венгрии.
В Великобритании, Бельгии и Швейцарии, где не было самостоятельных русских школ, организовывались кружки при церковных приходах. Это были кружки по изучению родного языка, отечественной литературы, истории, географии, русской культуры и народного творчества.
В США осуществлялось только дополнительное образование в приходских и частных светских школах, финансировавшееся из местных средств, в него включалось изучение русского языка и литературы, закон Божий. В 1920 г. были созданы «Русский народный институт» в Нью-Йорке, где ректором был профессор И.И. Петрункевич и школа, находившаяся при нем и готовившая студентов к поступлению в американские высшие учебные заведения.
Восточный центр русской эмиграции располагался в Китае в городе Харбине, в нем в 1920 г. действовала педагогическая секция. Дети эмигрантов обучались в 20 гимназиях и в учебных заведениях Китайской-Восточной железной дороги, в институтах - Харбинском политехническом, педагогическом, юридическом, Святого Владимира, Северно-Маньчжурском: университете и консерватории. В 1954 г. русская колония покинула Харбин
72
73
по соглашению между Китаем и СССР, небольшая часть колонистов вернулась на родину, а некоторые эмигрировали в другие страны.
Практически для всех русских детей, не посещавших русские школы, особенно если они учились в школах иностранных, процесс освоения российской культуры смещался в сферу дополнительного образования - внешкольного или пришкольного.
Воскресно-четверговые школы. На пленарном заседании Педагогического бюро по делам средней и низшей русской школы за границей (июль 19:24 г.) А.В. Ельчанов отстаивал мысль о необходимости активизировать внешкольный образовательный процесс, «так как дополнительные занятия русскими предметами являются явно недостаточными, то в целях противодействия денационализации детей, соответствующими органами и лицами предложен ряд мер: устройство четверговых и воскресных детских клубов. Открытие новых интернатов и полуинтернатов с занятиями в них русскими предметами, устройство детских вечеров и праздников с введением в них национального, бытового, литературного, музыкального и т.п. материала» [7].
В 1930-е гг. в российском зарубежье стали создаваться воскресно-четверговые школы, которые компенсировали недостаток русских учебно-воспитательных учреждений. Они существовали на местные сборы и ассигнования благотворительных организаций.
Цель воскресно-четверговых школ состояла в том, чтобы дать детям религиозное и национальное воспитание и образование. Поэтому школы организовывались либо при приходах, либо (по мере возможности) рядом создавалась домовая церковь, куда после окончания занятий дети шли петь молитвы и слушать Евангелие.
Верно подмечая специфику воскресно-четверговой школы, С.Н. Дубровина пишет, что она была «не просто школой (в обычном смысле слова) - сюда дети приходили добровольно и только в праздничные и выходные дни (воскресенье и четверг), но она и не была кружком, так как здесь давались систе-
ИЧС1 кие знания. Учителя разрабатывали программы занятий
'iii.ie методы и пути преподавания» [7, с. 82].
Id и кроено-четверговую школу посещали дети от 5 до 18 лег И шиисимости от возраста и развития они были поделены на не-ип.ко групп:
• младшая группа (5-9 лет) - занятия носили характер дет- м) сада: дети рисовали, играли, пели национальные песни,
I пушили русские сказки, учились читать и писать по-русски, а I || ко учили молитвы и проходили в отдельных рассказах Вет-
I и Новый Завет, рассказы о житии святых связывались с И минами детей;
• средняя группа (10-14 лет) - велись беседы по религиоз ным вопросам и отечествоведению;
• старшая группа (14-18 лет) - занятия проводились по иергам и носили учебный характер. Здесь изучались Закон 1 ни, русский язык, история, география и литература России.
Но воскресеньям занятия носили характер детского клуба, i 1и'годпо избиралась тема занятий, например: Пушкин. Дети
i in пушкинскую выставку, разучивали стихи и сценки. Один •in каждое воскресенье обязательно отводился беседе по Закону ltu/ы.ему.
II педагогической работе воскресно-четверговых школ особое Внимание уделялось различным формам внешкольного образова нии устраивались экскурсии, вечера для старших и утренники
pin младших. Ежемесячно устраивался школьный праздник, где в i ||П пиках волшебного фонаря показывалось все пройденное по
liiMHiy Божьему и по русской истории. В школе обязательно отмечались рождественская елка, Масленица, Благовещение (в этот
|l lib цети выпускали птичку), Пасха и т.д. На летнее время детей ОТнра млял и в колонии (недалеко от города) [7, с. 82-83].
Цсрковно-приходские школы. В 1920-е гг. в Париже по Инициативе церковно-просветительного кружка на частные по-
мргвовапия и сборы церкви были открыты церковно-при-цодскис школы, в которых занятия проводились по русским национальным предметам (Закон Божий, р}/сский язык, история, География и литература России) для детей, учащихся в ино-
74
75
 странных
школах. Как свидетельствуют материалы,
опубликованные в сборнике «Зарубежная
русская школа. 1920-1924» (Париж, 1924), занятия
проводились раз в неделю (в свободный
от занятий день), каждая школа обслуживала
около 50 человек, дети в зависимости от
уровня подготовки были разделены на
три группы, здесь же они получали горячий
завтрак.
странных
школах. Как свидетельствуют материалы,
опубликованные в сборнике «Зарубежная
русская школа. 1920-1924» (Париж, 1924), занятия
проводились раз в неделю (в свободный
от занятий день), каждая школа обслуживала
около 50 человек, дети в зависимости от
уровня подготовки были разделены на
три группы, здесь же они получали горячий
завтрак.
Внешкольная работа общеобразовательных учреждений. Широкую внешкольную работы вели все русские учебные заведения - русские гимназии, лицеи, русские школы. Например, активно работала в этом направлении русская Гимназия в Париже. Внешкольная работа в деятельности русских учебных заведений была распространена не только в признаных центрах русской эмиграции, но в других городах и странах.
Так, в 1926 г. при гапсальской гимназии (Эстония) работали кружки - литературный, драматический, музыкальный, спортивный, что в значительной степени занимало внеурочное время. Оркестр ГИМШ13ИИ чутко отзывался на все русские вечера с культурно-просветительной целью, и неоднократно выступали с концертами в Нарве, Ревеле и Юрьеве для привлечения средств на нужды эмигрантов.
Преподаватели гимназии принимали участие по внешкольному образованию чтением лекций в Народном Университете по литературе, физике, политической экономии и бухгалтерии.
Типичным примером внешкольной работы являются литературные вечера. Так, например, в 1928 г. памятный вечер, посвященный столетнему юбилею Л.Н. Толстого, прошел в Тери-окском Реальном Училище. По лмнению руководителей, он имел огромное воспитательное значение. Учащиеся и многочисленные гости не только познакомились с творчеством великого русского писателя, но и прониклись духом, атмосферой России.
Подобная работа проводилась и в ряде других учебных учреждений российского зарубежья.
Внешкольное образование в деятельности военных учебных заведений русской эмиграции. По-особому выстраивались внешкольное образование и культурно-просветительная работа в военных учебных заведениях русской эмиграции. Речь
i прежде всего, о таких учреждениях, как военные училища,
II кис корпуса, офицерские школы и курсы переподготовки.
I h иным источником для рассмотрения внешкольной работы во-
lis учебных заведений в условиях эмиграции для нас яви-
' тссертационное исследование A.M. Бегидова [1, с. 278]. П ном диссертации обобщены материалы различных россий-i \ и зарубежных архивов и впервые в современной отечест-Ri ни.-и литературе представлена целостная картина деятельно-'in поенных училищ, кадетских корпусов и других учебных замни поенной направленности в 1919-1939 гг. М "миграции продолжили свою деятельность крупнейшие чшчс училища дореволюционной России: Константиновское иное училище, Сергиевское артиллерийское училище, Нико-Ц н in ко Ллексеевское инженерное училище и ряд других (всего шлищ). Однако их реальные возможности к обучению ограничены, а штат урезан.
Наряду с военными училищами в эмиграции действовали . /некие корпуса, в которых осуществляется обучение лично-II rami военных организаций, эмигрантской молодежи — ка-i. i м юнкеров. Среди наиболее известных кадетских корпусов "I i hi Первый русский великого князя Константина Константины кадетский корпус, Донской кадетский корпус, Корпус-мини и намять императора Николая II, Крымский кадетский i upnyi которые превратились в центры военного обучения рос-• iilli i oii эмигрантской молодежи и пользовались в мире pyecico-фубежья большой популярностью. Военно-учебные заведении продолжали свои занятия, как в период гражданской войны, ■ и м па раннем этапе эмиграции - в лагерях Галлиполн, Лем-Чнталджа, а также на военно-морской базе в Бизерте. Каде-п i п юнкера, обучавшиеся в русских военно-учебных заведени-гремились любой ценой завершить свое военное образова-п получить офицерские звания, надеясь на скорое возвра-|||' пие но Родину.
i (бучение эмигрантской молодежи в кадетских корпусах в
1 1930 гг. позволило многим российским беженцам полу-
1ИТ1 i реднее образование и в дальнейшем продолжить обучение
76
77
в высших учебных заведениях Болгарии, Чехословакии, Франции и других стран.
Одной из форм военно-учебной практики в эмиграции являлось создание офицерских школ и курсов переподготовки. Например, в Галлиполи находились Офицерская артиллерийская школа, военно-административные курсы.
В исследованиях по истории военных учебных заведений русской эмиграции подчеркивается, что свободного времени у учащихся было очень мало, поскольку днем значительная часть кадет и юнкеров вынуждена была работать [1, с. 84]. Жизнь военно-учебных заведений проходила часто по вечерам, а то и ночам. Особенно активна она была накануне присвоения юнкерам офицерских званий. «В эту ночь спать нам почти не пришлось. Парад окончился е два часа, после этого все приводили в окончательную готовность и примеряли свою новую офицерскую форму, витая в атмосфере радостного возбуждения. Улеглись около, четырех, а в 6 нас, как обычно, разбудил трубный сигнал».
И все же различные формы внешкольного образования входили в повседневную жизнь учащихся военных учебных заведений, более того, со временем практически вся система военной подготовки сместилась в область внешкольного образования.
В зарубежье между российскими военно-учебными заведениями и военными училищами стран проживания иногда устанавливались неформальные взаимоотношения, выражавшиеся в организации различных совместных мероприятий - парадов, учений, - в личных встречах между русскими кадетами и иностранными военными, в обмене книгами, в торжественных вечерах и т.п.
Например, в Югославии активно общались кадеты Полоц-ко-Владиканказского училища и курсанты Мариборского корпуса. «По отношению к Мариборскому корпусу мы, разумеется, в долгу не остались и некоторое время спустя пригласили всю его старшую роту к себе, - писал впоследствии один из офицеров-владикавказцев, участник тех событий. - Был устроен прекрасный общий обед... Трапеза прошла исключительно весело. Вечером местными любительскими силами был дан спектакль, за
78
которым последовали танцы. Уехали гости только под утро». Внимание со стороны коллег-военных зарубежных стран, симпатии военной молодежи, совместные мероприятия значительно облегчали существование российским военно-учебным заведениям, в определенной мере «легализуя» их в глазах населения и администрации стран проживания. Это также очень облегчало и психологическое состояние личного состава училищ, которое, по понятным причинам, было крайне тяжелым [1, с. 73-76].
В условиях эмиграции возникли общества военного самообразования и военного воспитания молодежи, имеющие своей целью усовершенствование и создание резервов воинского кадра Русской армии.
Ввиду того, что за рубежом имелись российские средних военно-учебные заведения, а также большое количество офицерского состава бывшей российской армии, встал вопрос к О создании Русской военной академии. Первоначально в 1922 г. в центрах расселения русских войск были образованы «Курсы высшего военного самообразования» на основе добровольных кружков. В 1925 г. уже 52 таких кружка функционировало во Франции, Югославии, Болгарии, Бельгии, Чехословакии, Англии и США, при этом в них занималось около 550 человек. Одновременно с этим проводилась работа по подбору преподавателей и разработка программ и учебных курсов для создаваемой академии [1, с. 91-92].
В 1920-1930-е гг. действовало «Общество бывших курсантов школы николаевской кавалерии», члены которого в течение двух десятилетий сохраняли традицию дореволюционного воинского искусства.
Большое значение для кадет и юнкеров, получавших офицерские звания, имела история полков, форму которых они надевали, их воинские традиции, боевое прошлое. Например, уже в 1921 г. в полупустынной печатнице Янакиева в Галлиполи был издан Исторический очерк с описанием 175-летнего боевого пути Первого кадетского корпуса.
При кадетских корпусах создавались музеи, хранились знамена. Например, при Первом русском кадетском корпусе име-
79
