
- •Часть I
- •Глава I. Введение в режиссуру эстрады
- •2 Белинский в. Г. Полн. Собр. Соч. М., 1953—1955, т. 4, с. 488.
- •Глава 2. Изучение основ режиссуры эстрады
- •Глава 3. Работа над созданием номеров различных эстрадных жанров
- •Ill сия на эстраде. Эстрадный танец
- •Глава 4. Работа режиссера эстрады с автором
- •Глава 5. Основные формы
- •Часть II
- •Глава I. «архитектурный проект» зрелищных искусств
- •Глава 2. Монтаж эпизодов, аттракционов, номеров
- •Глава 3. Режиссер-драматург
- •Глава 4. Монументализм и пафос
- •Глава 5. Из драматургических опытов прежних лет
- •Глава 6. Сценарий-основа массового действа
- •Глава 7. Музыка и слово
- •Глава 8. Литературный сценарий и режиссерская экспликация.
- •Глава 1. О сущности массового действа
- •Глава 2. Из истории
- •Глава 4.
- •Глава 1. О некоторых особенностях режиссуры жанра
- •Глава 3. Художник, цвет, свет
- •Глава 5. Постановочная группа
- •Глава 6. Работа с массой
- •Глава 7. Кинофикация массового действа
Глава 2. Монтаж эпизодов, аттракционов, номеров
Взаимодействие различных видов искусств в наше время приобретает многозначный характер, и динамика нарушений их границ все нарастает. Сегодня классификация видов и жанров становится делом сложным, ибо виды и жанры настолько связаны друг с другом, что обозначение их границ зачастую довольно условно. Вместе с тем, есть многое, что роднит виды искусств.
Ряд огромных исторических событий потряс мир в начале XX столетия. Сначала мировая война, в которой участвовали миллионы. Затем — революция в России.
Многое предстояло создать заново. В том числе — и свое понимание мира. Этого требовало время, поставившее перед народом, а следовательно, и перед художниками вопрос о созидании новой жизни, новых общественных взаимоотношений. Многое искалось, пересматривалось, переосмысливалось. Характерное для того времени стремление соединить явления и понятия, обособившиеся и существующие сами по себе,— это стремление обрести в хаосе века стройность и гармоничность.
В 20-е годы в молодом советском искусстве возникло новое понятие — «монтаж».
Само слово «монтаж» тоже было новым определением, при* шедшим в искусство из современной техники. 104
Первым провозвестником современной монтажной структуры в театре стала «Мистерия-буфф», определившая новый путь создания современного театрального действа — монтажный. В данном случае идет разговор о художественной целостности, рождаемой множеством разнородных элементов, крепко соединенных монтажной структурой.
Сведение этих элементов воедино в театральном искусстве волновало умы тысячелетия назад. Еще Аристотель обратил внимание на синтетический вид искусства, где сливаются различные компоненты, взаимовлияние которых обусловлено их, т. с. «монтажным сцеплением». В своей работе «Об искусстве поэзии» он писал:
«Но есть некоторые искусства, которые пользуются всем сказанным,-—то есть ритмом, мелодией и метром; такова, например, дифирамбическая поэзия, номы, трагедия и комедия; различаются же они тем, что одни пользуются всем этим сразу, а другие — в отдельных своих частях. Такие-то я разумею различия между искусствами относительно средства, которыми производится подражание».
Через века Аристотелю словно вторит Роден, неустанно ищущий синтез всех искусств. Он утверждает, что «живопись, скульптура, литература, музыка гораздо ближе друг к другу, чем обычно думают. Они выражают все чувства человеческой души перед природой».
По свидетельству Г. Козинцева, С. Эйзенштейн находил в эстетике японского синтетического театра Кабуки «действительность, разъятую на части и вновь собранную уже по другим закономерностям, где каждый элемент становится лишь единицей воздействия, равноправным раздражителем в монтажном ряду, монтаже аттракционов» '.
Можно утверждать, что ростки монтажного соединения разнородных компонентов берут начало в народных площадных увеселениях — и в спектаклях шекспировского театра, и в карнавальном блеске Commedia dell' arte (комедия дель арте), и в массовых мистериальных действах, в скоморошьих представлениях, в спектаклях массового агиттеатра и т. д. Здесь налицо народные истоки будущего «монтажа аттракционов».
Естественно, каждая эпоха по-своему осваивала проблемы монтажного соединения в различных видах искусства. В двадцатые годы XX столетия путь монтажной методики нащупывал-ся на разных этапах во взаимосвязи законов расчленения, соединения, сцепки, совмещения. Так осмысливался новый метод,
1 Козинцев Г. Пространство трагедии. М., 1973, с. 6.
105

 получивший
глубинную значимость, благодаря логически
оправданному
сопоставлению разноязычного и
разноречивого.
получивший
глубинную значимость, благодаря логически
оправданному
сопоставлению разноязычного и
разноречивого.
Противоположные явления, резко и неожиданно сопоставленные, давали новый смысл.
С. Эйзенштейном это в первую очередь было выявлено в литературе — и не только современной, но и в классической, освященной традициями, ставшей принадлежностью школьных хрестоматий.
В самом деле, при всей строгости и логической ясности классическая литература являет собой пример полной свободы построения действия, органического сочетания конкретности происходящего с философскими обобщениями, глубинных ассоциаций с точно обозначенным событийном рядом.
С. Эйзенштейн на примере отрывков из «Руслана и Людмилы» и «Полтавы» доказывал, что еще Пушкин писал монтажно (вспомним название одной из глав эйзенштейновского исследования «Монтаж» — «Пушкин-монтажер»).
Существование монтажного метода он находил в поэзии У. Уитмена (на примере «Песни о топоре»), у Ги де Мопассана, у А. Н. Островского и даже в литературных опусах Леонардо да Винчи.
Здесь уместно напомнить то определение сущности монтажного метода в искусстве, которым открывается глава «Пушкин-монтажер»: «...в монтаже складываются, по существу, не детали, а бесчисленные общие представления о предмете или явлении, которые по закону pars pro tot о возникают от деталей. И поэтому мы имеем в монтажном сочетании не просто сумму деталей, в которую складываются элементы, образуя одно суммарно-статическое целое, а значительно большее. Это будет не сумма пяти деталей, складывающихся в одно целое. Это будет пять целых, каждое взятое под другим углом зрения, в другом аспекте, и все совмещающиеся друг в друге...
Обязательным условием для композиции монтажного куска, таким образом, будет то, чтобы он был не просто любой деталью, а деталью, элементом, обладающим свойством через свой «pars» максимально полно вызывать ощущение «toto». Правильно выбранная в этом смысле деталь дает колоссаль ную экономию средств выражения...
...Правильно выбранными деталями дать ощущение грандиозного по масштабу события.
Большим мастером на этот счет является Пушкин в баталь-
ных сценах»
Эйзенштейн С. Собр. соч., т. 2, с. 433,
106
Использование приема монтажа мы находим в произведениях Н. В. Гоголя. Вспомним «Мертвые души», эпизод отъезда Чичикова из города N.
В данном случае у нас в руках материал, свидетельствующий, если можно так сказать, о скрупулезно продуманном монтаже.
Весь принцип чередования различных планов и деталей, неожиданный и, казалось бы, случайный выбор (а если вдуматься— то логически чрезвычайно обоснованный), их сочетание, сопоставление построено на точной и ясной мысли; здесь все продумано и находится в полном соответствии1 с целостностью общего замысла.
Примечательным является и то, что все многочисленные планы и детали, их на первый взгляд хаотическое нагромождение— на самом деле композиционно выстроены по нарастанию действия и неуклонно ведут к смысловой кульминации произведения.
Монтажный прием, дающий удивительное впечатление все убыстряющегося движения, доходящего до стремительности и почти неуловимой сменяемости объектов, летящих навстречу, приводит в конце концов к почти физическому ощущению полета, естественно выливающегося в высокий поэтический настрой авторского отступления.
Отъезд Чичикова из города N, построенный на монтажном приеме, сводящем в единый словесно-поэтический строй самые различные понятия и явления, становится как бы вводом, подготовкой к кульминационному патетическому взлету —тому знаменитому лирическому отступлению, полному философских раздумий и великого чувства любви к родине — «Русь! Русь! вижу тебя...»
В качестве примера приведем фрагмент из гоголевской поэмы, распределив текст графически так, как он представляется нам в монтажном построении:
«Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и опять в дороге. И опять
по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни
107

 с
самоварами, бабами
с
самоварами, бабами
if бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с
овсом в руке,
пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьдесят верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами, и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади,
везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батареи, зеленые, желтые,
и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца... Русь! Русь!..»
В этом удивительном по своему образному строю и ритму эпизоде рождается ощущение стремительности и монтажной четкости, присущей современному кинематографу. Ведь, в самом деле, здесь использованы даже резкие монтажные стыки крупного плана с общим дальним. Посмотрите внимательней: надпись на зеленом артиллерийском ящике — это крупный план, своего рода зрительный акцент на бытовом восприятии явлений, и внезапно резкий монтажный рывок ввысь, за которым следует свободный полет: в одно мгновение все становится отдаленным, обобщенным, как бы увиденном сверху, с птичьего полета. И после крупного плана — неожиданный переход к общим дальним планам: почти физически ощущаешь, как
108
постепенно удаляется земля — сверкающие полосы полей, верхушки сосен, исчезающие в тумане, и еще — выше, выше — распахнутое небо... И звуковой ряд усиливает это ощущение отдаленности земли и неоглядных просторов: затянутая вдали песня, пропадающий вдалеке колокольный звон...
Это раскрепощенное стремление ввысь от удаляющейся земли необходимо как последняя ступенька перед кульминацией: «Русь! Русь!..» — вдохновенным парением в сфере высокой патетики и поэтичности.
И затем —• знаменитый текст, полный горячего сыновнего чувства к Родине и щемящей тоски за судьбу ее.
Но монтажный принцип сохраняется во всем эпизоде: именно поэтому в высокий поэтический строй лирического отступления вдруг резкой, пронзительной нотой врывается комедийная сценка (Гоголь утверждал: «Истинный эффект заключен в рез-кон противоположности»):
«— Держи, держи, дурах! — кричал Чичиков Селифану.
— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами в аршин.— Не видишь, леший дери твою душу: казенный экипаж! — И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка».
Казалось бы, теперь необходимо длительное время, чтобы набрать силы и вернуть поэтическое настроение для возврата в сферу высокого пафоса, Но, верный монтажной структуре, Гоголь дает здесь резкую монтажную стыковку, и — никаких плавных переходов! — следует мгновенное возвращение к лирическому отступлению, к пафосу, к возвышенному поэтическому строю:
«Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: «дорога»! и как чудна она сама, эта дорога: ясный день, осенние листья, холодный воздух...»
Необходимо отметить, что и вторая часть лирического отступления вновь строится монтажно, приближаясь по структуре к тому куску, который предшествовал поэтической кульминации «Русь! Русь!..», ибо часть эта своего рода переходный мостик, вновь возвращающий нас к герою поэмы и к прерванному действию.
Посмотрите:
«Кони мчатся...
как соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, и уже сквозь сон слышится и «Не белы снеги», и сап лошадей, и шум колес...»
109


 А
затем — контрапункт, резко останавливающий
все ние:
А
затем — контрапункт, резко останавливающий
все ние:
«Проснулся:
пять станций убежало назад; луна,
неведомый город,
церкви с старинными деревянными куполами и чернеющими
остроконечьями,
темные бревенчатые и белые каменные дома. Сияние месяца там и там, ...и нигде ни души— все спит.»
И, наконец, снова — резкий ритм движения.
«..и уже опять перед тобою поля и степи, нигде ничего — везде пустырь, все открыто.
Верста с цифрой летит тебе в очи; занимается утро;
на побелевшем холодном небосклоне золотая бледная полоса; ...телега спускается с кручи: внизу плотина широкая
и широкий ясный пруд, сияющий, как медное дно, перед солнцем; деревня,
избы рассыпались на косогоре;
как звезда, блестит в стороне крест сельской церкви; болтовня мужиков и невыносимый аппетит в желудке...»
В приведенном эпизоде авторский прием настолько обнажен и ясно обозначен, что нет необходимости расшифровывать его. В данном отрывке Гоголь монтажен как внутри каждой фразы (т. е. в «кадрах», если переводить это на язык кинематографа), так и в более крупных кусках-эпизодах, где неожиданное сопоставление, сцепка, ведут к рождению новых смысловых категорий.
Прием монтажа, дающий огромные возможности в свободной компоновке материала, не связанный строгим сюжетом и последовательно развивающейся действенной линией, по самой своей сущности близок к поэзии. И не случайно этим приемом пользуется Гоголь в одном из поэтических мест великой своей
110
поэмы: именно здесь, где необходимы глубокое обобщение и масштабность, Гоголь обращается к свободному и раскованному монтажу, выводящему его к вершинам поэтического строя.
О монтажном методе в творчестве Л. Толстого писал В. Шкловский. Анализируя работу писателя над редакциями «Войны и мира», он утверждал, что Л. Толстой знал силу монтажа, эффект неожиданного сопоставления и сцепления эпизодов.
«Сопряженные» эпизоды включаются в систему отношений текста и начинают работать, как поршни в моторе.
...Включенные в роман, документы утрачивают свою первоначальную функцию, они изменяются, словно переводятся на другой язык.
...Старое правило арифметики гласит: от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Не так в художественной литературе. Работая над первой редакцией, Толстой очень многое переставлял местами. Он изымал готовые эпизоды из текста и ставил их в другое место. Так перестраиваются вагоны поезда. Монтаж многих эпизодов построен на со- и противопоставлении.
...Толстой вообще противился линейной логике развития событий. Он переклеивает эпизоды, меняет их местами, часто нарушая строго хронологическую последовательность. И часто, выстроив сначала события, словно в шеренге на плацу, он потом перемешивает события» '.
В XX веке монтажный прием нашел свое воплощение в поэзии. И поэтическое творчество В. Маяковского дает много подтверждений тому. Даже одно из ранних стихотворений Маяковского убеждает нас в этом:
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
1
Шкловский 249—250.
111
 Здесь,
в неожиданной сцепке, воедино собраны
и подчинены одной
теме столь различные понятия и явления,
что рождается совершенно
новое понимание их первоначальной
сути.
Здесь,
в неожиданной сцепке, воедино собраны
и подчинены одной
теме столь различные понятия и явления,
что рождается совершенно
новое понимание их первоначальной
сути.
Примеров можно привести много. Поэт, сидящий за столом с Солнцем, попивающий с ним чаек и запросто беседующий о жизни, о поэзии,— это монтажно; это неожиданное сопоставление, дающее точное осмысление поэзии, для которой Маяковским в монтажном ряду найдена удивительная метафора-—солнечная поэзия.
И в драматургии Маяковский был монтажен, особенно в «Мистерии-буфф». Маяковскому удалось в одном произведении объединить противоположное, несовместимое с точки зрения традиционной драматургии жанровое многообразие. Маяковский взорвал и традиционное единство времени и пространства: его «нечистые», прорываясь в землю обетованную, совершают не механическое движение в пространстве, а властное и неукротимое движение во времени, уверенно идут от одной исторической революционной ступени к другой, в своем стремлении сметая все на пути, все преграды, в том числе и пространственно-временные.
Маяковский утверждал, что театр — «веселая публицистическая арена».
Вс. Мейерхольд, создавший первые постановки пьес «Мистерия-буфф», «Клоп» и «Баня», считал, что Маяковский «превосходно владел композицией, превосходно распоряжался сценическими законами... В технике построения его пьес были такие особенности, которыми очень трудно было овладевать тем мастерам театра, которые воспитывались на Чехове, на Толстом, на Тургеневе... Маяковский строил свои пьесы так, как до него никогда никто не строил» '.
В самом деле, «Мистерия-буфф» — это не театральная пьеса в обычном ее понимании. «Мистерия» Маяковского — мастерский монтаж, где сопоставлены явления, которым тогда, в первые годы после революции, молодое советское искусство еще искало осмысление: фактический, ежедневный, злободневный, сиюминутный материал — и философские обобщения; балаганные комические трюки — и космическая монументальность образов и действия. Собранные воедино, эти различные категории, столкнувшись, породили новые черты современного искусства.
Маяковский шел к героической теме от площадного народного театра, театра народных масс, где высокий пафос сосед-
ствовал с буффонадой, где в яркой и доступной зрелищной форме народ издавна воспринимал и политическую сатиру, и меткую критику, и возвышенную патетику.
Под пером Маяковского традиционные формы народных зрелищ переплавляются в новые формы, доминантой которых служит созданный революционной ломкой новый общественный быт.
В «Мистерии» меньше всего от традиционного театра. В ней больше от газеты, от улицы, от шумной и людной площади, где народ собирается на митинги. В ней живет дух массового площадного народного представления, политических демонстраций, бурной жизни города, с такой силой проявляющейся в дни революций и в послереволюционные годы. Именно на площадях и улицах — очагах максимального сосредоточения людей.
Когда-то Д. Дидро, мечтая о театре будущего, писал: «Мы ждем гениального человека, который сумел бы комбинировать пантомиму с речью, переплетая сцены разговорные со сценами немыми и использовать соединение подобных различных сцен, а особенно самый момент соединения ■— момент трагический или комический» '.
Этот «момент соединения» высокого пафоса и комического, «переплетение» самых различных жанров и есть основной драматургический прием «Мистерии-буфф».
«Мистерия—-великое в революции, буфф — смешное в ней»,— говорил Маяковский.
Объясняя поэтические особенности своей пьесы, поэт писал, что «Мистерия-буфф» — это наша великая революция, сгущенная стихом и театральным действием... Стихи «Мистерии-буфф» — это лозунги митингов, выкрики улиц, язык газет. Действие «Мистерии-буфф» — это движение толпы, столкновение классов, борьбы идей...». По существу, «Мистерия» — первый опыт политсатиры в русском театре: в ней впервые во весь голос зазвучал победный смех народного торжества над врагом. В «Мистерии» вера в победу народа рождала каскад комического, ибо радостное ощущение победившего народа выливается во всеобщий праздник, объединяющий людей, зовущий их к братству и свободе. Вот это ощущение победы-праздника — и является основой «Мистерии», ее прочным фундаментом. В сверкающем, безудержном, солнечном поэтическом потоке, наполнившем патетическую линию «Мистерии», ясно вырисовывается главная авторская тема — созидательная сущность народного подвига.
112
1 Мейерхольд В с. Статьи. Письма. Речи. Беседы, т. 2, с. 360.
1 Цит. по кн.: Роллан Р. Народный театр, с. 59. 8—75
113
 Эта
принципиально новая патетика
противопоставлена библейскому
пафосу, властно вытеснив его в пародийный
план («буфф»)
и прочно завоевав в «Мистерии» позитивные
позиции.
Эта
принципиально новая патетика
противопоставлена библейскому
пафосу, властно вытеснив его в пародийный
план («буфф»)
и прочно завоевав в «Мистерии» позитивные
позиции.
В драматургической конструкции «Мистерии-буфф» в коротких контрастных эпизодах сталкивались, сшибались различные и разнородные элементы действия. На основе новой монтажной структуры пьесы выстраивалось массовое зрелище, начавшее новую линию в театральном искусстве — линию народно-героического агитационного политического театра. В кон струкции «Мистерии» заложены возможности митинга, превращающего зрительный зал в арену злободневной политической агитации.
Поиск принципов героического театра, стремление слить массу исполнителей со зрительской массой, сделать зрителя непосредственным участником действия, превратив театр в орудие пропаганды,— все эти устремления и привели Маяковского к созданию своеобразного жанра — спектакля-митинга, смыкающегося своими гранями с массовым действием.
Монтажная структура позволяла выявить главное, показать его «крупным планом», органично выделить из всей массы жизненного материала скрытый смысл сюжетных событий, обобщить, проведя основную мысль произведения.
В драматургически-зрелищной структуре обрела жизнь свободная подача материала —раскованный монтаж времени и действия, вольное чередование эпизодов, ассоциативность и т. д.
Все это определило специфику своеобразного философского мышления, ставшего мышлением действия, активным соединением, казалось бы, несоединимого, где в единое целое сплетены обобщения и конкретность, событийность и философские раздумья, динамичность и статика, сиюминутная злободневность и величавая эпичность, мировой хаос и мировая гармония.
Собственно говоря, принцип драматургического построения «Мистерии-буфф» представляет собою то же, что спустя пять лет С. Эйзенштейн назовет «монтажом аттракционов», а критика мейерхольдовских спектаклей — «монтажом эпизодов».
«Мистерия» структурно близка скорее к приему эстрадного обозрения, чем к традиционной театральной драматургии. Ибо, если проанализировать каркас хотя бы первого акта «Мистерии-буфф», то мы убедимся, что он собран из ряда «аттракционов» и номеров:
Пролог (стихотворный монолог).
Клоунская реприза Рыбака и Охотника («Дырка!» — «Где дырка?» — «Течет!» — «Что течет?» — «Земля!»).
Монолог Француза.
114
Пантомима — встреча Рыбака и Австралийца с Женой.
Клоунада Рыбака, Австралийца и Жены.
Выход акробатов-эксцентриков («По канатам широт и долгот скатываются с земного шара немецкий и итальянский офицеры»).
Фехтовальный эпизод (Немец, Итальянец, Австралиец с Женой).
Комический трюк («Прямо на голову вновь собравшему ся уйти Эскимосу низвергается наш Купчина»).
Хоровая декламация о потопе.
Парад-алле «чистых» и «нечистых».
Интермедия Негуса, Рыбака, Китайца, Перса, Раджи и Паши («Должно быть, вкусная собачка?»
— «Я те дам — собачка! Это морж, а не собачка!»).
Стихотворный монолог Дамы-истерики.
Хоровая декламация «нечистых».
Драматический эпизод «чистых».
Монолог Студента.
Трюковая сцена («Сюда моросят»).
«Струя» — трюковый эпизод с водой (акробаты-эксцент рики, клоуны).
Пародийный эпизод «Вече».
Массовая сцена — строительство Ковчега.
Как видно, 19 разножанровых эпизодов и аттракционов только в первом действии.
А если продолжить «расщепление» на аттракционы 2-го акта «Мистерии», то картина будет следующая:
1. Трюковый эпизод «по всем направлениям панорама ру шащихся в волны земель».
Разговорный эпизод «чистых» и «нечистых».
Эксцентрическая пантомима — уход «нечистых» в трюм.
Разговорный эпизод «чистых».
Пантомима Купца («Рыбная ловля»).
Эпизод «Заговор».
Клоунада «Строчат манифест».
Трюковой эпизод — «опутывание нечистых».
Разговорный эпизод (I явление).
Пантомимная сцена (II явление).
Китаец с Австралийкой (III явление).
Студент с Плотником (IV явление).
Купец с Шофером (V явление).
Поп с Швеей и Прачкой (VI явление).
Пантомима «Трюм».
Разговорный эпизод Француза, Китайца, Раджи и т. д. 8* 115

 Эксцентрическая
пантомима «По небу быстро проходит
луна».
Эксцентрическая
пантомима «По небу быстро проходит
луна».
Разговорный эпизод «Вы спите?».
Пантомима «Трюм» (явление X).
Клоунада «Интеллигенция и Француз влазят на рубку».
Разговорный эпизод «Митинг».
Акробатический трюк «Алон занфан в воду!».
Разговорный эпизод с Батраком.
Клоунада «Вынос стола» (явление XI).
Разговорный эпизод «Дележ» (явление XII, XIII, XIV).
Эксцентрическая клоунада «Опрокидывание стола с по судой».
Разговорный эпизод «Подпалим революцией».
Трюковой эпизод «Сбрасывание «чистых» за борт» (ак робаты-эксцентрики) .
Интермедия «Мадам-истерика».
Разговорный эпизод «Ликуй!».
Пантомима «Быстро бежит луна» (реприза).
Интермедия «нечистых».
Пантомима «Кузница».
Разговорный эпизод «Вон он! Идет!».
Акробатический трюк Шофера (лезет с трубкой на рею).
Массовая сцена «Эй, кто ты?».
Монолог Человека и хоровое скандирование.
Иллюзионный трюк «Исчезновение Человека».
Боевая песнь «нечистых» (хоровой эпизод).
Иллюзионный трюк «Исчезновение нечистых».
41. Акробатический трюк «Купец кувыркается за борт». Итого, более сорока номеров, разножанровых «аттракцио нов», эпизодов, трюков.
«Мистерия-буфф», как мы видим из приведенного анализа ее драматургической структуры, построена на основе новаторской монтажной динамической конструкции, при помощи которой органично соединены разнородные элементы.
Новорожденный жанр массовых политических «действ», только нащупывающий самостоятельный путь, еще не был в полной мере готов к тому, что было взято на вооружение молодым советским театром, и в первую очередь глашатаями «театрального Октября» — В. Маяковским и Вс. Мейерхольдом. Но уже тогда в агитационном театре велись поиски создания новой драматургии, основанной на прерывающейся динамической структуре действия.
Необходимо напомнить, что одной из наиболее распространенных форм массовых зрелищ становится инсценировка, по-
116
строенная на монтажной драматургической конструкции. Название это родилось еще в 1918 году после первых инсценировок стихотворений в Пролеткульте.
В деятельности Театрально-драматургической мастерской Красной Армии и Центральной агитационной студии политпросвета, инсценировка стала обретать силу действенного агитационного искусства, решенного в своеобразном историко-символическом плане.
Для инсценировок этих лет характерно многообразие жанров, дающих возможность говорить о создании самостоятельного стиля синтетического зрелища, в основу которого положена монтажная структура (обратим на это внимание, ибо упомянутое обстоятельство в дальнейшем явится важным компонентом в массовых театрализованных представлениях).
Драматургическая конструкция инсценировки строилась по* тому же принципу, что и спектакли Театрально-драматургической мастерской Красной Армии: два противоборствующих лагеря, первый из которых решается в плане патетическом (героическая масса рабочих, восстающих, борющихся и побеждающих) и буффонно-сатирические краски в обрисовке второго лагеря — врагов («царь», «капиталист», «генерал», «социал-предатель») , трусливых и коварных, жестоких, но в конечном итоге побеждаемых первым лагерем.
В более отдаленной перспективе подобного драматургического решения мы можем узнать и другой, основной источник агитационного представления — «Мистерию-буфф» Маяковского, провозгласившую четкое деление на «чистых» и «нечистых», где «чистым» было по заслугам воздано издевательским смехом, рожденным гневом и ненавистью и ощущением победного превосходства, а «нечистые» вдохновенно прославлены поэтическим пафосом.
Инсценировка принципиально отличалась от традиционной театральной драматургии, в которой показ событий и человеческих взаимоотношений имеет, как правило, характер объективно-описательный. А инсценировка, построенная на агитационно-политической основе, активно обращалась непосредственно к зрителям.
И если основным выразительным средством традиционной драмы всегда являлось слово, то инсценировка значительно расширила арсенал выразительных средств: слово в сольной и хоровой декламации; песня (сольная и хоровая), симфоническая музыка, физкультурно-гимнастические сцены, танец, изобразительное искусство (плакаты, транспаранты и т. д.), массо-
117
 вые
пантомимы, воинские парады, музыка для
духовых оркестров.
вые
пантомимы, воинские парады, музыка для
духовых оркестров.
«...Фабула, единая, последовательно развертывающаяся драматическая интрига, произвольно ломалась, да и вообще оказывалась вовсе ненужной в инсценировке. Сущностью ее делалось не драматическое напряжение, а некая эмоционально-приподнятая борьба политических лозунгов, некий патетический спор на политическую тему»,— писал А. Пиотровский. Он отмечал, что крепким фундаментом новой драматургии становится «реальный хор, основанный на простейших и родных словах и песнях, строящееся на единстве этого хора конструктивное единство сценического произведения, допускающее произвольные нарушения житейских временных и пространственных форм... Драматургическая формула подобного театра носит явные черты сходства с античной и школьной драмой средневековья и ... сходство это не случайно и в высшей степени многозначительно».
В тематике инсценировок за основу бралась революционная борьба рабочего класса: от Парижской Коммуны — к первой русской революции, от первой русской революции — к Октябрю и далее — в будущее...
Таким образом, здесь мы встречаемся с рождением своеобразной монтажной драматургии массового действа, компоненты которой в дальнейшем станут основой драматургии массовых праздников и зрелищ.
Вспомним состояние нашей драматургии первых послереволюционных лет: за исключением «Мистерии-буфф», почти отсутствуют профессиональные пьесы о пролетарской революции, раскрывающие ее нравственное содержание и смысл. Этот вакуум заполняют инсценировки тех лет — первые опыты по созданию драматургии народно-героического агитационного театра.
Поиски в создании политического спектакля продолжали многие творческие коллективы как в нашей стране, так и за рубежом, где в этот поиск включились крупнейшие художники прогрессивного направления. В этом смысле безусловный интерес для нас представляют опыты выдающихся создателей немецкого пролетарского театра — Эрвина Пискатора и Бертоль-та Брехта.
Действие массовых представлений, построенное на временных и пространственных сдвигах, наличие хора, цементирующего единство действия (А. Пиотровский), близки по основному драматургическому приему к «революционному обозрению» Эрвина Пискатора и к политическим обозрениям Бертольта 118
Брехта, а борьба политических лозунгов и патетический спор на политическую тему, отмеченные А. Пиотровским как сущность массовых инсценировок,— это прямая ассоциация с драматургической сущностью брехтовских политических пьес-обозрений, таких, как «Мать», «Мероприятие», «Высшая мера».
Создатели политического революционного немецкого театра, очевидно, знали об опыте советских коллег и чрезвычайно удачно использовали его применительно к конкретной исторической обстановке 20-х — начала 30-х годов и к той борьбе, которую вели прогрессивные силы Германии с нарождающимся фашизмом. По крайней мере сходство здесь большое, и «инсценировка»—драматургическая основа массового агитационного политического театра, рожденного в России в первые послереволю-щюннные годы, исторически предшествовала появлению этого направления в немецком политическом театре.
Бертольт Брехт, опираясь на опыт агитационного политического театра, создал драматургию нового типа, соединив специфические особенности драмы с широтой приемов агитационного театра.
В принципе «эпического театра» Брехта заложена возможность свободного членения действия на самостоятельные эпизоды, вставные номера, авторские отступления. Все это представляет собой своеобразную трансформацию «монтажа эпизодов» и «монтажа аттракционов», т. е. понятий, введенных Маяковским, Мейерхольдом и Эйзенштейном.
Брехт построил эпическую композицию по принципу монтажа сцен, в которой органично скрепляются все компоненты драматургии «эпического театра». Эпическая композиция допускает нарушение единой фабулы, ввод в действие вставных сцен, зачастую не связанных непосредственно с действием, но несущих важную идейно-тематическу о нагрузку.
Этот своеобразный «монтаж сцен», сцементированный единой мыслью и являющий собою пример внутренней органичности, дает возможность свободно оперировать материалом во времени и пространстве, перенося действие в разные места, мгновенно изменяя время действия, драматургическую ситуацию и т. д.
Все эти компоненты служат одной цели —донести до зрителя мысль автора, его Философскую концепцию.
Сам метод «повествования», на котором строился «эпический театр», давал возможность создания свободного монтажа сиен, эпизодов и номеров, ибо материал освобождался из строгих рамок и ограничений традиционной театральной драматургии.
119

 В
пьесе «Высшая мера» — произведении
публицистическом, наполненном
философской лирикой, основная
драматургическая линия
была передана хору, который обращался
к зрителю (и песнями,
и скандированием ритмизованных текстов)
с политическими призывами.
В
пьесе «Высшая мера» — произведении
публицистическом, наполненном
философской лирикой, основная
драматургическая линия
была передана хору, который обращался
к зрителю (и песнями,
и скандированием ритмизованных текстов)
с политическими призывами.
Брехт писал, что хоры в пьесе «Мать» приглашают зрителя «составить себе определенное мнение о ходе событий, обратиться при этом к своему опыту, подвергнуть происходящее контролю.
Такие хоры содержат в себе обращение к зрителю как к практику, призывают его к эмансипации от изображаемого мира и также от самого процесса eroi изображения»1.
В произведениях, где публицистика, прочно сцепленная монтажной структурой, соседствует с художественным образом, мы многое можем почерпнуть для познания метода организации публицистического материала, переводя его в зримые динамические образы.
Метод «повествования»-—это как бы форма авторских отступлений, содержащих его, автора, философскую концепцию, его отношение к материалу. Автор здесь многолик: он многократно является перед зрителем, преображенный в десятки различных персонажей и даже целых исполнительских групп, но всегда проводящий и обобщающий главную мысль. Этот монтажный прием представляется близким сценарной структуре массового зрелища или эстрадного представления.
Собственно, в «эпическом театре» создается не пьеса в обычном ее понимании, а философская поэма или сценический рассказ, где центр тяжести падает не на последовательно развертывающееся действие, а, скорее, на авторское самовыявление— лирические отступления, монологи, где автор дает оценку событиям, направляет разум и эмоции зрителей не опосредствованно, через систему взаимодействия персонажей, а впрямую, обращаясь к зрителю, разъясняя и пропагандируя...
Изучая творческий опыт выдающихся мастеров политического театра, нам необходимо обратить внимание и на деятельность значительно менее известного у нас немецкого режиссера Эрвина Пискатора.
Одно из направлений рабочего театра Пискатора определилось в плане политического агитационного представления. В этом русле шел авторски-режиссерский поиск Пискатора, ибо рабочему театру необходима была новая форма — форма непосредственного обращения к сердцу зрителя, дающая макси-
Цит по кн.: Фрадкин И. Бертольт Брехт. М., 1965, с. 321.
120
мальную возможность эмоционального воздействия на массы. Стремясь расширить привычную театральную палитру, режиссер-драматург Пискатор в структуру политобозрений вводил хоры, комментирующие действие, кино, драматические эпизоды, джаз, группу «герлс», цирковые аттракционы. В результате поисков спектакль становился ярким зрелищем, смонтированным из разнородных жанровых элементов и приближающимся по характеру к эстрадному спектаклю или к театрализованному массовому представлению.
«Политический театр» — так назвал Пискатор свою книгу. В этой книге-исповеди большое внимание уделено проблеме создания на монтажной основе театрализованного политобо-зрения, в частности спектакля «Красная рвань», жанр которого сам Пискатор определил как «политическое пролетарское обозрение. Революционное обозрение».
Противопоставляя «революционное обозрение» «неповоротливости и неподвижности театрального производства», режиссер-драматург Пискатор узадел в новой форме монтажного театрализованного представления — мобильной, современной, действенной — сильное средство воспитания масс.
В основе агитобозрения «Красная рвань» лежала политическая тенденция (авторы литературного сценария Гасбарра и Пискатор). Толчком к созданию театрализованного обозрения, по свидетельству Пискатора, послужили выборы в рейхстаг в 1924 году.
«Массы хотели на своих собраниях видеть собственными глазами кусок мира»,— писал Пискатор.
Во время выборов страну охватили «политические дискуссии», проводившиеся на заводах и улицах, в мастерских " и т. д. Эти дискуссии были положены в основу драматургического конфликта сценария театрализованного представления «Красная рвань». Спор между «пролетариями» и «буржуа» явился стержнем сценария, его действенным «узлом».
Как самостоятельные действенные компоненты в ткань сценария, построенного на монтажной структуре, органично вошел такой разнородный материал, как песни, плакаты, лозунги, кино, статистические таблицы, политические речи, газетные заметки, сообщения телеграфных агентств и т. д.
Действие было построено на коротких эпизодах и номерах. Прием, взятый Пискатором за основу агитобозрения,— монтажная структура, динамическое конструктивное построение, роднящие этот спектакль с принципами эстрадного представления. Найденные в «Красной р!вани» приемы театрализованного обозрения Пискатор развил в следующей своей большой рабо-
121
те—политобозрении, которое было названо словами Карла Либкнехта — «Несмотря ни на что». Пискатор стремился соединить в одном спектакле различные эпохи, свободно владеть сценическим временем.
Драматургический прием монтажа с его резким столкновением различного материала, разножанровых номеров, эпизодов и т. д. полностью оправдал себя и здесь. Задуманный спектакль, по определению Пискатора, был «одним грандиозным монтажом подлинных речей, статей, газетных вырезок, воззваний, листовок, фотографий и фильмов о войне, революции, исторических личностях и сценах».
Э. Пискатор видел новое в драматургии политического театра в том, что ее «строительным материалом» стали «маленькие, легкие, подвижные сценки, «агитки». В лучших своих работах политического рабочего театра Эрвин Пискатор (он сам называл новый метод построения спектакля «монтажом») следовал той же системе «сборки», что и В. Маяковский, Вс. Мейерхольд, С. Эйзенштейн.
Действенность монтажного метода мы можем проиллюстрировать примерами, взятыми из других видов искусства.
Архитектура — искусство наглядное, вещественное, в нем ярко, зримо выявляются те закономерности, которые в других видах искусства могут существовать подспудно, скрыто. Поэтому возьмем для примера архитектуру.
«Искусство конструировать, то есть объединять разрозненные элементы в одно целое, чтобы создать замкнутое пространство,— вот чем была и всегда останется архитектура»,— писал выдающийся архитектор X. Берлаге.
Собственно, это та же мысль о монтажной природе современного искусства. В архитектуре это было тесно связано и со строительным материалом. Когда архитекторы получили возможность строить из железобетона, стали и стекла, им словно развязали руки. Компоненты, из которых конструировалось целое, стали податливее, гибче, динамичнее, нежели прежде. Новые идеи стали осуществимы благодаря новому строительному материалу.
Свободное членение огромного пространства на отдельные компоненты и монтажное соединение их в единое целое стал'1 знаменем современной архитектуры, приобретшей устремленность и динамичность линий, являясь как бы запечатленной в КсГмне, бетоне и стали стремительной нашей эпохой.
Монтажная архитектура несла определенную идею, выраженную одним из пионеров современной архитектуры — Мис ван дер Роэ: «Длинный путь, который должен пройти материал до 122
t
того, как он обретет целесообразную форму, преследует единственную цель — навести порядок в ужасающем беспорядке на-ших дней».
Идея создания «единого пространства» путем соединения отдельных замкнутых самостоятельных частей, высказанная Мис ван дер Роэ, близка идее «монтажа аттракционов», «монтажа эпизодов».
Конечно, необходимо учитывать и специфику искусства архитектуры, где функциональное назначение и его конструктивное выполнение становится во главу угла и сочетание этих двух условий зачастую диктует творческое решение того или иного произведения архитектуры.
Речь, следовательно, идет о композиции произведения, т. е, методе трактовки темы, ее воплощения в определенной целостной структуре.
Эти законы действуют и в пространственно-временных видах искусства.
Монтажный метод нашел своеобразное преломление и в живописи XX века. Так, мексиканское монументальное искусство грандиозных настенных росписей (Д. Сикейрос, Д. Ривера и др.) также построено на принципе монтажа. В единую композицию сведен разнообразный изобразительный материал: люди, техника, производство, природа. Чрезвычайно разнообразен и материал событийный; он охватывает многовековую историю страны, битвы, труд, революционную борьбу народа, сражения с иноземными захватчиками, сражения на баррикадах, собрания, митинги, быт крестьян и рабочих — и рядом с этим — аллегорически решенные образы Родины, Земли, Надежды, Справедливости и т. д.
Разнородность материала сказалась еще больше, когда Д. Ривера для достижения агитационных целей стал вводить в живописные композиции текст. Художник по праву считается создателем монументального плаката, где он смело соединил художественное изображение с политическим текстом, используя стихи прогрессивного мексиканского поэта Гутьерреса Кру-са или же текст песни, созданной группой самодеятельности.
Маяковский в «Моем открытии Америки» писал о фресках Диего Риверы: «Это много десятков сцен, дающих прошлую, настоящую и будущую историю Мексики... Подневольный труд с плантатором (весь в револьверах), валяющимся в гамаке. Фрески ткацкого, литейного, гончарного и сахарного труда. Подымающаяся борьба. Галерея застреленных революционеров. Восстание с землей, атакующей даже небеса. Похороны уби-
123
 тых
революционеров. Освобождение крестьянина.
Учение крестьян
под охраной вооруженного народа. Смычка
рабочих и крестьян.
Стройка будущей земли».
тых
революционеров. Освобождение крестьянина.
Учение крестьян
под охраной вооруженного народа. Смычка
рабочих и крестьян.
Стройка будущей земли».
Сотни, тысячи образов, сведенных в единую пластическую композицию. Полное смещение планов: рядом с общими планами народных сцен вдруг вмонтирован чей-то крупный портрет или огромный сжатый кулак и т. д. Зрителя то словно удаляют для обозрения общих сцен, то стремительно приближают, чтобы он мог внимательно разглядеть глаза героя, борца за свободу народа.
Издалека, на расстоянии, многих деталей не разобрать — схватывается общее, где ощущается не случайное пестрое сочетание событий и красок, а мощная целостность.
124 фрески, 1500 квадратных метров...
Разбросанные по стенам фрески, живущие, казалось бы, самостоятельной жизнью на самом деле были объединены «вес-связующей мыслью» художника, активно взаимодействуя друг с другом, сливаясь в единый могучий «Портрет Мексики».
Только монтажным методом можно было решить эту грандиозную задачу — свести в единый ряд огромное количество образов, судеб, событий, происходящих на разных исторических этапах, и уместить все это многообразие (движение истории народа, его становление, рождение самосознания нации) на пространстве, ограниченном от угла до угла стены.
Д. Ривере удалось при помощи монтажа придать энергию. динамику неподвижным изобразительным композициям, создать ощущение живого, сейчас, в данную минуту проходящего перед зрителями процесса.
Монтаж позволил художнику связать воедино множество различных компонентов, деталей, из смыслового сочетания которых постепенно рождается эпический, обобщенный образ Родины и Народа.
В постижении этого огромного образа художником был найден прием, организующий движение зрительского взгляда, но дающий рассеяться вниманию, а властной волей художники заставляющий взгляд зрителей следовать направлению, задан ному автором композиции. (Фаворский называл этот особый метод постижения произведения изобразительного искусства «очереди смотрения».).
Так монтажный метод нашел свое воплощение и в изобразительном искусстве, когда от художников потребовался откровенный гражданственный разговор с народом, со* страной. И этот метод стал сильнейшим агитационным оружием.
Говоря о монтаже как об определенном методе искусства. 124
мы должны вспомнить и о таком своеобразном явлении концертной эстрады, как творчество В. Н. Яхонтова. Великий чтец, он был удивительным драматургом. Яхонтовский монтаж являл собою новаторский поиск, приведший его к созданию нового жанра — монотеатра «Современник» (впоследствии «Театр одного актера»).
Яхонтов особо выделял монтажную структуру как основу драматургии «театра одного актера»: «Что же я обрел, нашед-ши монтаж? Я стал хозяином своего репертуара в том отношении, что смог свободно строить тематические программы политического содержания. Я держал в своих руках тот раздел, который в театре находился обычно в руках драматурга, ибо, используя, казалось бы, готовую продукцию, стихи, прозу,— я подчинял этот материал своей идее, отбирая наиболее ценное, сильное по выражению... Я отметил также, что сочетание стихов с прозой создает известную динамичность, вносит разнообразие и, ломая ритм, обычно обостряет внимание. С этого времени я увлечен новой работой: собиранием литературы и сочетанием элементов в целое.
...Я нашел драматургию своего жанра... Форма монтажей и литературных композиций вошла в жизнь наших культурно-просветительных организаций, а также утвердилась в профессиональных кругах, то есть, среди мастеров художественного слова... Сделав первую свою работу, я увидел огромные возможности, которые она открывает, и понял, что найден путь, по которому следует идти»'.
Совместить, казалось бы, несовместимое, столкнуть различные, зачастую противоположные явления, собрав в результате из разрозненных кусков единое целое,— к этому стремились не только поэзия, театр, кино, но, как видим, и концертная эстрада. И даже— фотография.
Художник Джон Хартфяльд (Хельмут Херцфельде) провел молодые годы в окопной грязи: шла первая мировая война. Оттуда, из окопов, солдат писал письма домой. Но письма с фронта проходили жестокую цензуру: любой намек на неудовлетворительность состояния военных дел расценивался чуть ли не как предательство и мог привести на каторгу. Хартфильд, чтобы обойти цензуру, стал вырезать из газет и журналов фотографии и тексты, склеивая их в неожиданных сочетаниях. Он брал газетный заголовок «Вся Германия охвачена единым героическим порывом», и монтировал его с двумя снимками:
1 Яхонтов В. Театр одного актера, с. 113—114.
125
 кладбищем
немецких солдат и великосветским балом
в Берлине.
Или же объединял две фотографии: голодные,
измученные женщины-работницы
толкают по рельсам нагруженную вагонетку,
а рядом — прелестная улыбающаяся
девушка, одетая в дорогое
платье, отдает цветок безногому солдату.
Этот фотомонтаж
комментируется вырезанным из газеты
лозунгом официальной
пропаганды: «Жертвуем всем для победы>.
кладбищем
немецких солдат и великосветским балом
в Берлине.
Или же объединял две фотографии: голодные,
измученные женщины-работницы
толкают по рельсам нагруженную вагонетку,
а рядом — прелестная улыбающаяся
девушка, одетая в дорогое
платье, отдает цветок безногому солдату.
Этот фотомонтаж
комментируется вырезанным из газеты
лозунгом официальной
пропаганды: «Жертвуем всем для победы>.
Противоположные понятия сталкиваются, рождая новый смысл. Так фотомонтаж, собранный из случайных, казалось бы, снимков, приобретал убедительность политсатиры.
Эмоциональное воздействие усиливалось тем, что основой монтажа Д. Хартфильда были документальные фотографии, несущие в себе силу неоспоримости подлинного документа. Статичная фотография приобрела динамичность, действенность, и родилось новое искусство — фотомонтаж.
После войны Хартфильд пришел к подлинной политсатире, добиваясь средствами художественного обобщения фотомонтажа поразительных результатов. И естественным представляется творческий путь Хартфильда: вместе с Бертольтом Брехтом, Эрвином Пискатором и художником Георгом Гроссом он встал в ряды антифашистов, борясь своим боевым политическим искусством с нарождающейся коричневой чумой.
1924 год. Выборы в рейхстаг. Кандидаты КПГ идут по списку № 5. На плакатах — символическое изображение то ладони-пятерни, то пяти пальцев, сжатых в могучий кулак. Так неожиданно просто и образно решил Хартфильд и призыв поддержать список № 5, и тему могучих рук трудящегося люда, и тему солидарности. (В 20-е годы v этому же символу пришел и> Д. Ри-вера в монументальных фресках.)
Придет время, и сжатый поднятый кулак превратится в символ международной солидарности антифашистов. Так художественный образ плаката Джона Хартфильда приобрел жизненную силу, став знаком политической борьбы и солидарности.
Фотомонтаж нашел своеобразное выражение и в Советской России, в работах такого художника, как А. Родченко, друга и сподвижника В. Маяковского. Его смелые сопоставления, неожиданные, но всегда оправданные по смыслу, позволили создать целые изобразительные серии — зримые поэмы о трудовой жизни страны.
Истоки полиэкранного решения, к которому пришел современный кинематограф, думается, надо искать в фотомонтаже, изобретенном Хартфильдом и Родченко. В фотомонтаже одновременно сталкивались, сливаясь в единую конструкцию, раз-126
личные изобразительные сюжеты и темы, давай в результате этого столкновения новое качество.
Полиэкран — это как бы фотомонтаж, приобретший внутри-кадровое движение.
В свое время еще Дидро выступил с удивительной идеей изменения принципов сценического действия, предложив использовать прием параллельного монтажа. «Чтобы изменить характер драматического жанра,— писал он,— я потребовал бы лишь очень обширной сцены, где можно было бы показывать, когда сюжет пьесы этого требовал бы ... различные места, расположенные так, чтобы зритель видел все действие, а для актеров часть его оставалась бы скрытой... Можем ли мы представить что-либо подобное на нашем театре? На нем можно показать только одну сцену, между тем как в действительности разные сцены почти всегда происходят одновременно, и их одновременные показы, взаимно усиливая друг друга, производили бы на нас потрясающее впечатление». И .недаром эту мысль Дидро об одновременном возникновении различных параллельных действий Р. Роллан считал гениальной.
Собственно, в высказывании Дидро уже заложена идея параллельного монтажа действия, т. е. того, к чему впоследствии пришел кинематограф и о чем впервые убедительно возвестил Д. У. Гриффит в фильме «Нетерпимость» (1916)—замечательном опыте философского осмысления жизни кинематографическими средствами.
Разработка теории монтажа, философского обобщения достигла кульминации в творчестве С. Эйзенштейна.
Монтаж является драматургической основой и самого молодого вида искусства, набирающего сейчас силы,— телевидения. Уникальность телевизионного монтажа заключается в том, что телевидение при помощи многокамерных установок может вести непосредственные передачи с места событий, «сталкивая», «собирая» отдельные эпизоды на единый стержень действия, происходящего в данный момент. Техника телевидения позволяет построить монтаж событий, действие которых в данный момент происходит в разных концах города, в разных городах, наконец, в разных странах.
Этот неповторимый «монтаж событий» создает возможности— и творческие, и технические, каких не знал даже кинематограф.
Монтаж как определяющий драматургический прием властно вошел в свои права и в жанре массовых зрелищ в конце 40-х — начале 50-х годов и наиболее ярко проявился в структуре театрализованного концерта.
127
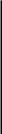 Должен
был произойти определенный процесс
становления жанра,
прежде чем создатели массовых зрелищ
пришли к его современному
стилю.
Должен
был произойти определенный процесс
становления жанра,
прежде чем создатели массовых зрелищ
пришли к его современному
стилю.
В конце 40-х — начале 50-х годов был найден принцип сценарного построения театрализованного массового концерта. Авторы отошли от традиционной поактной драматургии, сделав основным строительным материалом эпизод и номер, что со-собщало действию динамику, мобильность, возможность мгновенного переключения зрительского внимания с одного объекта на другой. Влияние здесь было многосторонним и многозначным: сказалось влияние киноискусства, в основе драматургии которого членение действия на короткие эпизоды; несомненное влияние на формирование монтажной структуры оказали эстрада и цирк, драматургия которых строится на соотношении и контрастном сопоставлении номеров различных жанров. (Еще Эйзенштейн утверждал, что цирк и мюзик-холл являются лучшей школой в овладении монтажным методом построения современного театрального зрелища.)
Новый принцип сценарного построения «монтажа номеров» в жанре массовых действ явился творческим преломлением таких плодотворных поисков, как «монтаж эпизодов» Мейерхольда, «монтаж аттракционов» Эйзенштейна, а также сценарного каркаса «Мистерии-буфф» и «Москва горит» Маяковского.
Таким образом, принцип применения монтажа отмечается нами в самых различных явлениях искусства современности: в поэзии Маяковского, и в его драматургии, в театральных опытах Мейерхольда и Охлопкова, в поисках агиттеатра Пискатора и Брехта, в киноэпопеях Эйзенштейна, в событийных передачах телевидения, в драматургической структуре массового действа, в «монтаже номеров» эстрадного представления.
В. Пудовкин справедливо отмечал силу и всепроникаемость монтажа, значительно расширяя сферу его действия. По его мнению, «монтаж оказался применимым к разрешению задач жанра. От хроники, очерка до романа. Создание новых жанров (использование приемов монтажа)—задача будущего».
Что же такое монтаж? В чем сущность смысловой сборки частей, существующих самостоятельно и разрозненно?
Понятие о монтаже многозначно и может расширяться, варьируясь в каждом виде искусства на новый лад. Собственно, сложность этого понятия обусловлена тем, что оно основано, по меткому замечанию В. Шкловского, на свойствах восприятия жизни.
Сама жизнь монтажна. «Линия дня» любого человека представляет собою сплошной поток резких монтажных стыков, где
128
причудливо переплетается смешное и трагическое, радость и огорчения, калейдоскоп лиц, событий, впечатлений, пестрый материал увиденного и услышанного... Один лишь день — а сколько в нем неожиданных сопоставлений, соединений, дающих зачастую новый смысл тому или иному явлению, поворачивающих течение жизни в самые непредвиденные русла.
А если сопоставить, столкнуть между собой несколько дней человеческой жизни? Как разнятся они зачастую один от другого, являя тот «жизненный монтаж», который сопутствует нам всегда, на протяжении всей жизни!
«Мы познаем мир, его разделяя. Мы передаем его словами, делим на фразы. Разрывы строки появились сравнительно поздно, как поздно появились большие буквы. Большая буква — это след монтажа, отруб одной мысли от другой, одного восприятия от другого.
В языке слово существует только как общее. Слово становится конкретным при помощи монтажа. Из слов мы строим фразы, мы отделяем их, сталкиваем, окрашиваем путем выбора словесного материала. Мы создаем сцены, разрубаем их на главы». Так писал В. Шкловский, рассматривая проблемы монтажной методики в своей превосходной книге «Эйзенштейн». И, подытоживая сказанное, он приходил к знаменательному выводу. «Вне монтажного восприятия, вероятно, восприятия нет».
В монтажной структуре эпизод не является продолжением предыдущего. В волевом сопоставлении они словно проникают один в другой, в конечном итоге становясь отдельными звеньями общего ряда.
Между этими звеньями существует связь не чисто внешняя, сюжетная, а более глубокая — та «всесвязующая мысль», о которой говорил Ф. М. Достоевский.
И смысл всего произведения откроется только в общем движении, во взаимосвязи всех звеньев; звено, взятое в отдельности, никогда не откроет смысла, подобно тому как отдельная фраза или строка, вырванная из поэмы, не определит смысла целостного произведения. Следовательно, смысл надо искать в гармоническом развитии целого, а не отдельно взятых частностей.
Создание целостного в монтажной структуре не определя ется внешними последовательно разворачивающимися события ми. Оно происходит, скорее, по внутренним связям, следуя ло гическим или психологическим закономерностям объединения, «сборки», по принципу резкого и неожиданного сопоставления, контраста, и само это сопоставление отдельных элементов при- 9—75
Рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
Должен был произойти определенный процесс становлений жанра, прежде чем создатели массовых зрелищ пришли к его современному стилю.
В конце 40-х — начале 50-х годов был найден принцип сценарного построения театрализованного массового концерта. Авторы отошли от традиционной поактной драматургии, сделав основным строительным материалом эпизод и номер, что со-собщало действию динамику, мобильность, возможность мгновенного переключения зрительского внимания с одного объекта на другой. Влияние здесь было многосторонним и многозначным: сказалось влияние киноискусства, в основе драматургии которого членение действия на короткие эпизоды; несомненное влияние на формирование монтажной структуры оказали эстрада и цирк, драматургия которых строится на соотношении и контрастном сопоставлении номеров различных жанров. (Еще Эйзенштейн утверждал, что цирк и мюзик-холл являются лучшей школой в овладении монтажным методом построения ■современного театрального зрелища.)
Новый принцип сценарного построения «монтажа номеров» в жанре массовых действ явился творческим преломлением таких плодотворных поисков, как «монтаж эпизодов» Мейерхольда, «монтаж аттракционов» Эйзенштейна, а также сценарного каркаса «Мистерии-буфф» и «Москва горит» Маяковского.
Таким образом, принцип применения монтажа отмечается нами в самых различных явлениях искусства современности: в поэзии Маяковского, и в его драматургии, в театральных опытах Мейерхольда и Охлопкова, в поисках агиттеатра Пискатора и Брехта, в киноэпопеях Эйзенштейна, в событийных передачах телевидения, в драматургической структуре массового действа, в «монтаже номеров» эстрадного представления.
В. Пудовкин справедливо отмечал силу и всепроникаемость монтажа, значительно расширяя сферу его действия. По его мнению, «монтаж оказался применимым к разрешению задач жанра. От хроники, очерка до романа. Создание новых жанров (использование приемов монтажа)—задача будущего».
Что же такое монтаж? В чем сущность смысловой сборки частей, существующих самостоятельно и разрозненно?
Понятие о монтаже многозначно и может расширяться, варьируясь в каждом виде искусства на новый лад. Собственно, сложность этого понятия обусловлена тем, что оно основано, по меткому замечанию В. Шкловского, на свойствах восприятия жизни.
Сама жизнь монтажна. «Линия дня» любого человека представляет собою сплошной поток резких монтажных стыков, где
128
причудливо Переплетается смешное и трагическое, радость и огорчения, калейдоскоп лиц, событий, впечатлений, пестрый материал увиденного и услышанного... Один лишь день — а сколько в нем неожиданных сопоставлений, соединений, дающих зачастую новый смысл тому или иному явлению, поворачивающих течение жизни в самые непредвиденные русла.
А если сопоставить, столкнуть между собой несколько дней человеческой жизни? Как разнятся они зачастую один от другого, являя тот «жизненный монтаж», который сопутствует нам всегда, на протяжении всей жизни!
«Мы познаем мир, его разделяя. Мы передаем его словами, делим на фразы. Разрывы строки появились сравнительно поздно, как поздно появились большие буквы. Большая буква — это след монтажа, отруб одной мысли от другой, одного восприятия от другого.
В языке слово существует только как общее. Слово становится конкретным при помощи монтажа. Из слов мы строим фразы, мы отделяем их, сталкиваем, окрашиваем путем выбора словесного материала. Мы создаем сцены, разрубаем их на главы». Так писал В. Шкловский, рассматривая проблемы монтажной методики в своей превосходной книге «Эйзенштейн». И, подытоживая сказанное, он приходил к знаменательному выводу. «Вне монтажного восприятия, вероятно, восприятия нет».
В монтажной структуре эпизод не является продолжением предыдущего. В волевом сопоставлении они словно проникают один в другой, в конечном итоге становясь отдельными звеньями общего ряда.
Между этими звеньями существует связь не чисто внешняя, сюжетная, а более глубокая — та «всесвязующая мысль», о которой говорил Ф. М. Достоевский.
И смысл всего произведения откроется только в общем движении, во взаимосвязи всех звеньев; звено, взятое в отдельности, никогда не откроет смысла, подобно тому как отдельная фраза или строка, вырванная из поэмы, не определит смысла целостного произведения. Следовательно, смысл надо искать в гармоническом развитии целого, а не отдельно взятых частностей.
Создание целостного в монтажной структуре не определя ется внешними последовательно разворачивающимися события ми. Оно происходит, скорее, по внутренним связям, следуя ло гическим или психологическим закономерностям объединения, «сборки», по принципу резкого и неожиданного сопоставления, контраста, и само это сопоставление отдельных элементов при- 9—75 129
дает каждому из них действенное значение в общей картине драматической композиции.
При смысловом монтаже внутренняя логическая связь действия обнаруживается как в любом компоненте, так и в целостной «сборке» всего произведения. Здесь вступает в силу закон соподчинения частей и частностей единству целостного разрешения (С. М. Эйзенштейн).
Монтаж — это волевое выделение смысла, заложенного в произведении. Поэтому метод монтажа находится в прямой связи с гражданской позицией автора, его идейно-художественными устремлениями. (Монтаж чистого пафоса — так очень точно назвал А. Пиотровский основной режиссерский прием Эйзенштейна в «Броненосце «Потемкине».)
Эйзенштейн писал: «Не «революционизированием» форм рыдвана создан паровоз, а правильным техническим учетом практического выявления нового, не бывшего вида энергии -пара» '.
В зрелищных искусствах XX века таким «новым видом энергии» стал монтаж.
Один из первых исследователей монтажного метода В. Пудовкин говорил, что монтаж оказался приемлемым не только для «глубокого описания явлений», но и «для ясного вскрытия связи явлений».
«...Монтировать — в основе уметь анализировать. Отсюда искать главное — причинность и т. д... Монтаж есть результ;п степени познания процесса»2.
Монтаж драматургичен в своей основе, конфликтен.
Смысл зависит от соотношения, столкновения друг с дру гом кусков, от их сцепки, создающей новое качество самих кусков в сопоставлении. Так рождается взаимоотношение кус ков в сценарной структуре, так проявляется драматургия ново го типа.
Искусство монтажа в том, что его первый этап — расчлене ние на самостоятельные элементы — подводит нас к части вто рой — соединению этих частей, рождающему качественно новое целое. В этом — диалектичность монтажа.
Монтаж — искусство расчленения, слом непрерывного дейст вия, поиск нового драматургического принципа прерванного, рожденного монтажной структурой действия.
Л. Н. Толстой говорил о «лабиринтах сцепления», т. е. со
1 Эйзенштейн С. Избр. произв. в 6-ти тт., М., 1964, т. 1, с. 111.
2 Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х тт., т. 3, с. 261.
130
единения, совмещения различных понятий и явлений и создания из «лабиринтов сцепления» единого, целостного художественного произведения.
В монтажной конструкции произведение дробится как бы на множество кристаллов, где каждый, являясь составной частью целого, подчинен единой воле художника, единой мысли, идущей сквозным действием через самостоятельно существующие, законченные эпизоды-номера, объединенные ритмически-смысловым, стремительным движением к конечной цели — сверхзадаче данного произведения.
Так создается эмоциональная цепь, где каждое звено самостоятельно и вместе с тем накрепко связано с другими звеньями, существующими во взаимозависимости и взаимовлиянии, в конечном итоге создающими единую целостную конструкцию.
Таковы вкратце действенные элементы структуры, которая определяет как развитие каждого из компонентов монтажной конструкции — каждого номера, эпизода или «аттракциона» в отдельности, так в конечном итоге и всего сценария в его целостной «сборке».
Монтажную драматургическую структуру, основанную на прерванном действии, не следует понимать как набор отдельно, самостоятельно существующих кусков и эпизодов. В сценарии массового действа и эстрадного представления монтаж отдельных эпизодов и номеров должен быть объединен в логически развивающееся действие.
В этом драматургия концертного действия впрямую соприкасается с кинодраматургией, где стоит та же задача — объединение в целостное произведение отдельных эпизодов. Поэтому требования, предъявляемые к кинодраматургии, во многом аналогичны тому, что мы требуем от драматургии концертного действия. Различие заключается в том, что кинодраматург создает произведение в одном определенном жанре, будь то киноповесть, лирическая комедия, исторический фильм, музыкальная комедия и т. д. Драматург же концертного действия добивается синтеза самых различных жанров различных видов искусств — театра, кино, эстрады и цирка. Эта жанровая многоплановость является сильной стороной концертной драматургии и одновременно представляет большие трудности для драматурга. Всю жанровую многоплановость он должен ввести в единое русло действия сценария, где каждый эпизод и номер необходимо логически оправдать и «завязать» с общим драматургическим «ходом» сценария.
, В. Пудовкин справедливо настаивал на том, чтобы сцена- f рист научился мыслить последовательностью кадров (в драма- : 9* 131
 тургии
концертного действия роль кинематографического
кадра выполняет
номер).
тургии
концертного действия роль кинематографического
кадра выполняет
номер).
Это очень важное условие — мыслить не плавно развивающимся непрерывным действием театральной драматургии, а именно последовательностью отдельных, самостоятельных кадров или номеров, складывая, соединяя их в единую динамически развивающуюся монтажную структуру.
Весь «пластический материал» на первоначальном этапе работы — в руках сценариста. Ему принадлежит право выбора «пластического материала» и отбора выразительных средств, т. е. того языка, на котором он будет обращаться к зрителю.
«Сценаристу нужно всегда помнить,— писал В. Пудовкин,— что каждая фраза, написанная им, в конце концов должна быть выражена пластически в каких-то видимых формах на экране, и, следовательно, важны не те слова, которые он пишет, а те внешне выраженные пластические образы, которые он этими словами описывает... Нужно стараться выразить свою мысль зрительным образом — ясным и ярким» '.
«Нужен «зримый сценарий»,— утверждал Довженко2.
Речь идет а том, что и кинодраматург, и драматург массового действа и эстрадного представления должны мыслить нс> чисто литературно-описательными приемами, а обязательно зрительными образами. Тогда созданный ими сценарий сможет стать основой будущего зрелища, построенного на монтажной драматургической основе.
