
- •Павел Николаевич Толстогузов Литературоведческая дискуссия: метод и стиль. По материалам аспирантского семинара
- •Аннотация
- •Павел Николаевич Толстогузов Литературоведческая дискуссия: метод и стиль. По материалам аспирантского семинара Предисловие и отрывочные сведения из теории дискуссии
- •Часть 1. Устная дискуссия Раздел первый. Презентация и интерпретация темы2
- •Раздел второй. Критика темы и виды реакции на критику
- •Раздел третий. Общее и частное как характеристика предмета обсуждения и как оценочный момент
- •Конец ознакомительного фрагмента.
Павел Николаевич Толстогузов Литературоведческая дискуссия: метод и стиль. По материалам аспирантского семинара
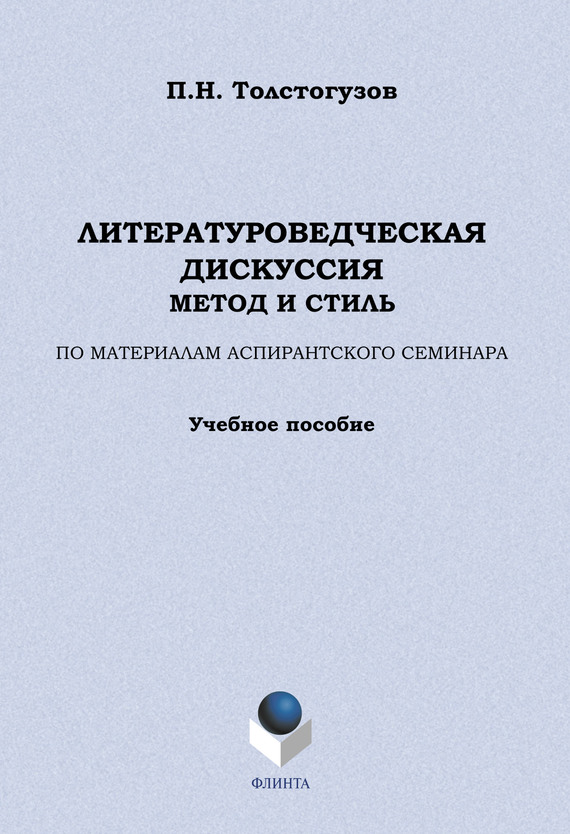
Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3260515
«Литературоведческая дискуссия: метод и стиль. По материалам аспирантского семинара [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.Н. Толстогузов. – 2‑е изд., стер.»: Флинта; Москва; 2012
ISBN 978‑5‑9765‑1412‑6
Аннотация
В основу данного пособия материалы филолого‑методологического семинара «Третье литературоведение», собиравшегося в Уфе и привлекшего заинтересованные отклики филологов из России и других стран. Пособие состоит из трех частей: первая часть посвящена устной дискуссии, вторая – дискуссии в открытой печати, третья содержит материал для самостоятельного разбора.
Пособие предназначено для магистрантов филологического образования (обучающихся по программе 540302 «Литературное образование») и аспирантов, обучающихся по специальностям 10.01.01 «Русская литература» и 10.01.03 «Литература народов зарубежных стран».
Павел Николаевич Толстогузов Литературоведческая дискуссия: метод и стиль. По материалам аспирантского семинара Предисловие и отрывочные сведения из теории дискуссии
Начиная этот текст, жанр которого можно определить как «описание одной образовательной практики», я хотел бы объясниться перед своим возможным адресатом (магистрантом, аспирантом, начинающим преподавателем вуза). Во‑первых, я хотел бы сказать, что, несмотря на аннотацию и назначение издания, я, в сущности, не имею в виду кого‑то учить или конструировать некое методологическое послание: просто потому, что вижу мало смысла в традиционных учебных жанрах там, где человеком правит его собственный интерес и где человек сам в состоянии позаботиться о научных и карьерных перспективах этого интереса. Во всяком случае, так должно быть на этих ступенях профессионального образования. В чем же по‑настоящему нуждается такой человек? Никакой интерес не в состоянии удержать свое естественное напряжение без атмосферы свободного диалога и оценки, когда сознание впервые направляется не столько на предмет изучения, сколько на собственную деятельность. Поэтому целью моих аспирантских семинаров (пусть и не вполне достигнутой, в чем я отдаю себе отчет) была, в первую очередь, рукотворная «химия» такой атмосферы.
Во‑вторых, я хотел бы выразить сомнение в том, что даже в случае свободного описания аудиторного опыта этот опыт можно рассматривать как готовую матрицу для чужой деятельности или как модель для переноса на какую‑то иную площадку. Возникает вопрос: для чего тогда это описание пригодно? Как описание опыта оно пригодно в качестве примера для осознания проблем, с которыми сталкивается формат филологического семинара на уровне магистратуры и аспирантуры, т. е. на уровне, где уже не нужны ни простое информирование, ни постановка технических навыков/умений. Даже навыки интерпретации и научной критики текста здесь, скорее, факультативны. Главным оказывается проблематизация собственных и чужих методологических позиций.
В основу этого пособия легли занятия с аспирантами, проведенные в учебных семестрах 2008–2009 гг1. Одним из предметов для обсуждения на этих занятиях стали материалы филолого‑методологического семинара «Третье литературоведение», собиравшегося в Уфе и привлекшего заинтересованные отклики филологов из России и других стран2. Это обсуждение я попытался построить как слежение за внешней и внутренней логикой семинарской беседы и как конструирование собственных (возможных) реплик участников обсуждения, предложение с их стороны реального и контекстного комментария по ходу разбора; как рефлексию над тем, что показалось удачным или неудачным. В итоге получилась смесь задач по прикладной риторике и герменевтических опытов, но главное – то, что я старался удержать как ведущую установку, – представление о «первенстве вопроса» (Ганс Гадамер). «Технологизация» поведения участников занятий во время разборов не являлась самоцелью. Также не было целью изучение логических законов аргументации, логических ошибок и т. п. (хотя приведенная в списке вспомогательная литература частично отсылает к этой теме). Если использовать современный педагогический словарь, то меня по преимуществу интересовала верхняя часть таксономической пирамиды Блума (анализ – синтез – оценка).
Учебное пособие состоит из трёх частей: первая часть посвящена устной дискуссии, вторая – дискуссии в открытой печати, третья содержит материал для самостоятельного разбора.
Первая часть пособия построена как выборка материалов уфимского семинара, где каждый выбранный фрагмент соответствует определенному разделу, сопровожден вопросами, заданиями и резюме, а также – иногда – описанием аудиторных реакций на происходящее. Кроме того, разбивка пособия на части, как видно из «Содержания», обусловлена композицией реального события и теми формализованными и неформальными ролями, которые вынуждены брать на себя участники дискуссии: «ведущий», «корреспондент», «докладчик», «участник» и т. п. Читателю придётся привыкнуть к мысли, что анализ семинарского материала постоянно осциллирует между предметом обсуждения и ходом обсуждения. (Инициалы участников уфимского обсуждения, в основном, раскрыты в заданиях и реакциях аспирантского семинара.)
Вторая часть пособия содержит примеры литературоведческой дискуссии в открытой печати (доклад М.Л. Гаспарова и три отклика на этот доклад) и учебные разборы этих примеров. Третья часть пособия представляет собой хрестоматию‑практикум по риторике литературоведческой дискуссии и содержит две стенограммы Института мировой литературы (ИМЛИ) 1941 г.: обсуждение докладов М.М. Бахтина «Проблема жанра» и А.Н. Соколова «Род, вид и жанр».
Все вопросы и задания к тексту уфимского семинара в первой части и к докладам во второй части получают ответы и решения в промежуточных резюме, отчасти напоминающих старые схолии (что, наверное, не совсем правильно с точки зрения обучения, но совершенно правильно с точки зрения корректного описания, а это более важный фактор эвристики, чем формальные тайны и загадки учебника; это, так сказать, сеанс магии с одновременным ее разоблачением; я намеренно оставил в тексте – в квадратных скобках – даже рабочие замечания редактора из журнала1, поскольку они также участвуют в создании необходимого объёма обсуждения). В тексте эта часть пособия заключена в рамки. Методические рекомендации включены в текст резюме, т. е. не выделены как самостоятельная часть. Литература дана в конце пособия алфавитным списком.
Заранее приношу извинения за то, что в голове читателя может возникнуть путаница из‑за двойного значения слова «семинар» в этом тексте: как обозначения уфимского события и как названия аспирантских занятий в Биробиджане.
Поскольку это пособие создавалось в горизонте целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» и, в частности, осмысливалось в залоге более или менее нестандартных способов объединения научных и образовательных практик в системе подготовки научных кадров, то – считаю возможным сказать: подчеркнутая лояльность по отношению к традиции является для автора этих строк одной из действительных инноваций в наше время.
______________________________________________
Поскольку жанр пособия предполагает ознакомление читателя с определённым объёмом теоретических сведений, не избегнем этого и мы. Условимся, что в нашем случае теория будет теорией риторической коммуникации (и полемики как частного случая такой коммуникации).
Литературоведческая риторика является разновидностью профессиональной коммуникации. Как любая гуманитарная риторика, она соединяет дидактику, академизм и критицизм (порядок может быть любым). Отсюда сложность позиции адресата: он подвергается обучению, совершает научную экспертизу и вовлекается в спор почти в одно и то же время.
Чтобы разобраться с такой сложностью и уметь грамотно формулировать (и грамотно реагировать на) коммуникативные стратегии и тактики, необходимо
– владеть навыками анализа собственных и иных коммуникативных намерений (интенций),
– разбираться в предпосылках и ухищрениях коммуникативного лидерства, а также в часто меняющихся ролях участников полемики,
– ориентироваться в прикладных видах речевой этики,
– знать основные регламенты речевого поведения и стандартных коммуникативных ситуаций, а также уметь их актуализировать в границах реальных событий (призывать к ним, к отказу от них, к их ограниченному использованию и т. п.).
И т. д.
Кроме того, необходимо разбираться в более частных вопросах:
– знать языковую и речевую специфику устных и письменных высказываний и применять это знание на практике;
– различать виды речи (информативная, аргументирующая, эпидейктическая и т. д.);
– различать элементы логики и риторики в аргументации;
– различать виды аргументов (рациональные, иррациональные);
– уметь осуществлять техническое руководство дискуссией (предъявление или обсуждение регламента, формулировка темы, речевое поведение ведущего, корректировка и модерация хода дискуссии и т. п.);
– уметь осуществлять как устное, так и письменное аннотирование и рецензирование чужих и своих текстов.
И т. д.
Все эти знания и навыки, в конечном счёте, должны быть фундированы основополагающей установкой нашей общей риторической и герменевтической культуры: вопрос о смыслах есть ключевой вопрос любого обсуждения. Только на этом фундаменте можно последовательно осуществлять принципы коммуникативного сотрудничества, стремиться к гармонизации отношений участников диалога как к поведенческой норме. «Никакого целеполагания без смыслополагания, без работы мысли и мышления, без восстановления этого поля и без присутствия в нём невозможно. Заниматься чисто целеполаганием можно только тогда, когда мы понимаем другого» (О.И. Генисаретский, стенограмма лекции «Проект и традиция в России. О соразмерности и событии»)1.
От себя хочу добавить, что никакие, пусть и качественно осознанные, теоретические установки не избавляют участника нашей дискуссии от постоянной необходимости в рабочем порядке решать те проблемы, которые вызваны спецификой литературоведческих обсуждений. Одну из этих проблем можно назвать проблемой расщеплённого профессионализма, когда в противоборство вступают установка на академическую полноту обзора и естественный критицизм. Вовлечённость магистрантов и аспирантов в семинарские заботы – развитие не до конца развёрнутых тезисов, оспаривание, дополнительная аргументация и т. п. – помогает не только осознать эту методологическую проблематику, но и превратить её в полноправный предмет обсуждения.
