
- •Сергей Павлович Щавелёв Историки Курского края: Биографический словарь
- •Аннотация
- •Историки курского края Биографический словарь
- •Введение (подходы к отбору и изложению справочного биобиблиографического материала по региональной историографии)
- •Анкета для словаря курских историков
- •Персоналии
- •Абаза Аркадий Максимович (1843–1915)
- •Авдеева Екатерина Алексеевна (1789–1865)
- •Александров а. Н. (1880‑е – 1930‑е (?) гг.)
- •Алихова (Воеводская) Анна Епифановна (1902–1989)
- •Амоскин Анатолий Сергеевич (1930 г. Рождения)
- •Андреев Олег Николаевич (1918–1995)
- •Анненков Иван Петрович (1711–1784)
- •Анненков Максим Никифорович (упоминается за 1680‑е гг.)
- •Анпилогов Григорий Николаевич (1902–1987)
- •Антимонов Николай Алексеевич (1902–1985)
- •Апальков Александр Николаевич (1966 г. Рождения)
- •Апанасёнок Александр Вячеславович (1980 г. Рождения)
- •Аполлов Александр Геннадьевич (1905 – после 1969)
- •Аристов Владимир Павлович (1898 – после 1941)
- •Архангельский Матвей Васильевич (? – 1860)
- •Ахметгалеева (урождённая Николаева) Наталья Борисовна (1969 г. Рождения)
- •Ахрамеев Василий Дмитриевич (1901 – после 1973)
- •Багалей Дмитрий Иванович (1857–1932)
- •Бантыш‑Каменский Дмитрий Николаевич (1788–1850)
- •Бартрам Николай Дмитриевич (1873–1931)
- •Баскевич Исаак Зельманович (1918–1994)
- •Бахмут Владимир Фёдорович (1937–2005)
- •Башилов Иван Фёдорович (1749 – после 1792)
- •Березовец Дмитрий Тарасович (1910–1970)
- •Билевич Николай Иванович (1812–1860)
- •Бобунова Мария Александровна (1961 г. Рождения)
- •Богданов Анатолий Петрович (1834–1896)
- •Борисковский Павел Иосифович (1911–1991)
- •Бочаров Анатолий Николаевич (1925 г. Рождения)
- •Бочаров Григорий Николаевич (? – после 1916)
- •Бугров Юрий Александрович (1934 г. Рождения)
- •Булгаков Георгий Ильич (1883–1945)
- •Булгаков Фёдор Ильич (1852–1908)
- •Бурнашёв Степан Данилович (1743–1824)
- •Васильков Матвей Васильевич (упоминается за 1910‑е ‑1920‑е гг.)
- •Васьянов Иван Васильевич (1819–1894)
- •Вержбицкий Тит Иоильевич (1845–1899)
- •Вернадский Георгий Владимирович (1887–1973)
- •Владимир Всеволодович Мономах (1053–1125)
- •Воеводский Михаил Вацлавович (1903–1948)
- •Волконский (‑Меньшой) Иван Михайлович (Жмурка) (? – не ранее 1651/1652)
- •Габель Владислав Феликсович (1888–1954)
- •Гвоздовер Марианна Давыдовна (Давидовна) (1917 – 28. XII. 2004)
- •Герасимов Михаил Михайлович (1907–1970)
- •Глазов Владимир Нилович (в области археологии действовал в 1898–1916 гг.)
- •Гойзман Шимон Рувимович (1935 г. Рождения)
- •Голицын Николай Николаевич (1836–1893)
- •Головашенко а. А. (упоминается за 1840‑е – 1870‑е гг.)
- •Голубовский Пётр Васильевич (1857–1907)
- •Горбачёв Пётр Олегович (1970 г. Рождения)
- •Гордеев Николай Николаевич (1854–1906)
- •Городцов Василий Алексеевич (1860–1945)
- •Горохов Тихон Абрамович (1869 – после 1951)
- •Горюнов Евгений Алексеевич (1940–1981)
- •Греков Борис Дмитриевич (1882–1953)
- •Григорьев Александр Вадимович (1959 г. Рождения)
- •Григорьев Геннадий Павлович (1937 г. Рождения)
- •Григорьева Галина Васильевна (1934 г. Рождения)
- •Гришков Иван Григорьевич (1922–2001)
- •Гумилёв Лев Николаевич (1912–1992)
- •Гутцейт Владимир Константинович (упоминается за 1840‑е ‑1850‑е гг.)
- •Данилевич Василий Ефимович (1872–1936)
- •Денисевич Григорий Васильевич (1901–1981)
- •Дмитрюков Алексей Иванович (1795–1868)
- •Донченко Юрий Викторович (1946 г. Рождения)
- •Дуброво Александр Яковлевич (упоминается за 1840‑е ‑1850‑е гг.)
- •Енуков Владимир Васильевич (1956 г. Рождения)
- •Енукова Ольга Николаевна (1956 г. Рождения)
- •Ефременко Софья Николаевна (1884–1956)
- •Забелин Иван Егорович (1820–1908)
- •Загоровский Владимир Павлович (1925–1994)
- •Замятнин Сергей Николаевич (1899–1958)
- •Конец ознакомительного фрагмента.
Сергей Павлович Щавелёв Историки Курского края: Биографический словарь
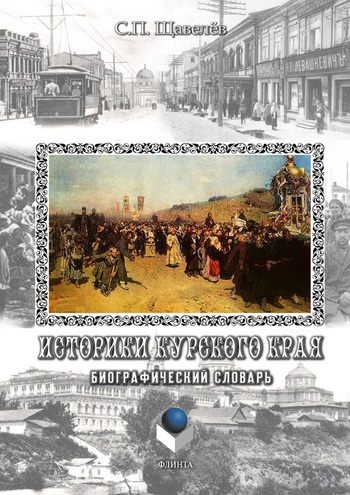
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=658225
«Историки Курсого края. Биографический словарь»: Флинта; Москва; 2011
ISBN 978‑5‑9765‑1144‑6
Аннотация
Словарь (первое, втрое меньшее по объёму и микроскопическое по тиражу изд. – 1997 г.) содержит основные факты биографий, перечни основных научных трудов, итоговые оценки творчества более чем 230 учёных и краеведов гуманитарного профиля (историков и археологов, а также антропологов, этнографов, лингвистов, фольклористов, литературоведов и др.); наконец, писателей, публицистов, живописцев, архитекторов, внесших тот или иной вклад в изучение далёкого прошлого Курской земли, выявление и охрану памятников её культуры, просвещение земляков на исторических материалах малой родины. Источниками словаря послужили материалы из архивов Москвы, Санкт‑Петербурга, Курска; из редких печатных изданий XVIII–XX вв. Многие представители провинциальной историографии, их работы впервые представлены в печати.
В настоящем издании словаря значительно расширен его персональный состав, исправлены пробелы и ошибки предыдущего издания, внесены биографические и библиографические дополнения.
Предназначен для специалистов разных отраслей гуманитарного знания; преподавателей истории и краеведения, учащихся средних и высших учебных заведений, для всех, кто интересуется историей родного края.
Историки курского края Биографический словарь
Составитель с уважением, любовью и благодарностью почтительно посвящает эту книжку своим учителям – преподавателям исторического факультета Курского педагогического института 1970‑х гг. – Вере Эммануиловне Скорман, Елене Илиодоровне Матве, Офелии Петровне Запорожской, Наталье Владимировне Ивановой, Юрию Александровичу Липкингу, Льву Фёдоровичу Спирину, Марку Абрамовичу Степинскому, Константину Фёдоровичу Соколу, Иосифу Шайевичу Френкелю, Льву Васильевичу Шабанову, Феликсу Фёдоровичу Лаппо, Михаилу Львовичу Фрумкину, Юрию Ивановичу Юдину.1
Введение (подходы к отбору и изложению справочного биобиблиографического материала по региональной историографии)
Словари нужны всегда и почти всем. Тем более по таким отраслям знания, которые слабо или совсем не охвачены большими энциклопедиями, справочниками широкого профиля. К разделам знания, где хронически не хватало справочно‑информационных пособий, относится областная, региональная история, а тем более краеведческая историография. Познание прошлого, как известно, возможно на разных пространственно‑временных отрезках. На тематическом поле от глобальной историософии до микроказусных штудий былого умещается множество разномасштабных историй – цивилизаций, эпох, континентов, народов, стран и, обращу особое внимание – районов, участков земли, чьи судьбы чем‑то похожи на соседние, а чем‑то от них отличаются.2 И в зарубежной, и в отечественной историографии областническому подходу отдавалась достойная дань. Реже замечалось, что с измененением исторического ракурса существенно меняется не только объект, но и субъект, и методы исследования. Поэтому и лексикон историков регионального ранга должен отличаться от персонального состава общенациональных энциклопедий. Об этих отличиях и пойдёт речь в настоящем введении.
Но прежде вкратце очертим пространственно‑временные границы именно данного – Курского края. Этот последний достаточно показателен в культурно‑историческом отношении, может быть признан своего рода модельным для южной, а в значительной степени и для всей центральноевропейской России. Сформировавшись вокруг поречья Сейма, этой географической сердцевины летописного объединения восточных славян «Север» (IX–X вв.); развиваясь (с начала XI в.) вместе со всем Древнерусским государством; оказавшись затем на пограничье Руси и Орды (XIII–XIV вв.), Литвы и Московии (XV–XVI вв.); войдя (с начала XVII в.) в состав Московского царства, Курск и его округа с тех пор накопили весь возможный в Европе репертуар памятников старины – вещественных и словесных, топонимических и этнологических, документально‑архивных и архитектурных. Поэтому весьма репрезентативно оказывается рассмотрение исторических древностей именно этой земли, её взаимосвязей со столичными центрами и с прочими регионами страны по части широко понятого древлеведения.
Уточнённые (при участии автора этих строк1) рубежные вехи истории города и области Курска выглядят следующим образом:
• первое упоминание города Курска в письменных источниках («Житии Феодосия Печерского») относится к началу 1030‑х гг.; в летописании («Поучение» Владимира Мономаха) – около 1066 г.;
• Курское княжество фигурирует там с 1095 (и по 1290);
• после чего на части его территории татаро‑монголами основано баскачество;
• в 1360‑х – 1370‑х «Курская тьма» отходит Великому княжеству Литовскому; сам «Курескъ на Тускоре» упоминается в «Списке русских городов…» (не позднее 1381) и в трактате князя Свидригайло Ольгердовича (за 1402);
• в 1596 на Курском городище возводится крепость Московского государства;
• с 1708 Курская земля составляет части Киевской и Азовской губерний; с 1719 – части Белгородской и Севской провинций Киевской губернии; в 1728 их вобрала в себя Белгородская губерния; в 1779 вместо неё образовано Курское наместничество; в 1797 оно переименовано в губернию; в 1799 тут введено гражданское губернаторство.
О дальнейших административных судьбах данного региона известно лучше.2
С определённой долей условности, исходя из этно‑социально‑политической принадлежности, можно разделить историю Курского Посеймья в новую эру на следующие периоды:
• славянский;
• древнерусский;
• русско‑ордынский;
• русско‑литовский;
• московский;
• императорский;
• советский;
• российский.
Эта периодизация, как видно, совпадает с общероссийской.
Таким образом, в лице Курского Посеймья перед нами многовековой образец тех жизненных реалий, что соответствуют культурноисторическому понятию «регион» (он же, если не требуются терминологические тонкости, «край» или «местность», «земля», «область» в усреднённом, разновременном значении этих слов), чьи границы во времени и пространстве то совпадают с условно‑административными, то отличаются от них. В основе регионализации – жизнедеятельность субэтнической общности людей‑земляков, осуществляемая при климате и ландшафте, прочих природных условиях определённого типа, в тех или иных внутриполитических и международных обстоятельствах.
А региононим «куряне» – одно из самых ранних и устойчивых земляческих определений в истории Руси‑России, фигурирующее в источниках с домонгольских времен (летописи, «Слово о полку Игореве») и непрерывно до наших дней, т. е. около тысячи лет. Применительно к составляемому мной словарю важны не столько различия, сколько поэтапная преемственность между отдельными отрезками развития данного региона: от потестарного объединения славян «семцев» – к удельному княжеству державы Рюриковичей, Киевской Руси; – через монгольский разор, подчинение Орде и литовское подданство – к военному укрепрайону Московского царства; – потом наместничеству, губернии императорской, затем Советской России – и, наконец (с 1934 г.), области СССР, ныне Российской Федерации. Некоторая изменчивость и проницаемость границ курских земель за последнее тысячелетие не нарушали намного и надолго их исходного политико‑географического ядра.
Очертив на всякий случай предмет региональной истории, обратимся к субъекту регионально‑исторического познания. Поясним, кого ниже предлагается считать историками края. Тем самым раскрываются принципы составления и пополнения словника для настоящего издания. Конечно, в эту когорту входят не только и не столько те лица, кто жил и писал на территории Курщины, а те, кто сумел сказать новое слово, прибавить фактов и гипотез об её прошлом.
Научная история, как и наука вообще, – довольно поздний «плод» европейской культуры. Но становлению академически‑университетской историографии предшествовали долгие периоды летописной и постлетописной «истории» своего рода, пограничной с вненаучными, мифолегендарными моделями прошлого. Как бы не отличались до– и предначные варианты историографии от её же вполне развитых стадий, от них вряд ли стоит отмахиваться, в том числе при словарной работе. Не стоит рассматривать как курьёз присутствие в региональном словаре персонажей из донаучных эпох отечественной истории – летописцев, агиографов, мемуаристов и т. п. Именно их усилиями сохранены для потомков первые, поистине бесценные крупицы исторической памяти. Для Курска это и «отец русского летописания» Нестор, в чьём «Житии Феодосия Печерского» впервые упомянут и, главное, подробно описан Курск сразу после своего возникновения; и князь Владимир Всеволодович Мономах, в чьём знаменитом «Поучении детям» сохранился термин «семцы», т. е., должно быть, жители Посеймья; и те курские воеводы и их подручные, которые первыми, ещё в XVII в. начали описывать здешние древности, а не только искать драгоценные клады. Эти лица представляют предысторию самой исторической науки, её генезис на русской, в том числе региональной почве.
Что касается новой и новейшей историографии, то здесь фигурируют, прежде всего, те профессиональные учёные гуманитарного профиля, кто внёс тот или иной вклад в изучение прошлого Курской земли, её исторических судеб и традиций. Сюда нужно отнести, понятное дело, прежде всего представителей собственно исторической науки, специалистов по тем или иным периодам отечественной истории и жанрам их изучения (источниковедение, событийно‑фактический нарратив, социальная, военная история и т. д.). Тут же смежные с историей, так называемые вспомогательные ей дисциплины – археология, этнография, антропология, лингвистика (в особенности фольклористика, диалектология, литературоведение), топонимика, нумизматика; отчасти география, геология, биология (палеонтология), палеоэкология и другие, но также ретроспективные в той или иной мере по своей направленности разделы науки. Некоторые из представителей всех этих исторических в той или иной степени дисциплин отражены существующими энциклопедиями, однако их работы, выполненные на курском материале, там далеко не всегда акцентированы. Значительно больше тех учёных регионального масштаба, кто упоминаний в справочниках не удостоился. Ведь это, образно говоря, не «маршалы» и не «генералы» науки, а её «младшие офицеры» и даже «рядовые», вплоть до, так сказать, «вольнопределяющихся», волонтёров. Общенациональная энциклопедия нипочём не вместит в свои томы всех провинциальных доцентов и профессоров, а тем более исследователей, учёными степенями да званиями не увенчанных. Между тем именно их сокупными усилиями создавалась научная картина исторического развития любого региона страны.
В послевоенном СССР определились три основные направления истории как науки и учебного предмета – история СССР, всеобщая история и история КПСС. На эту последнюю кафедру, в её аспирантуру шли, как правило, не самые лучшие с точки зрения Клио кадры. В основом – конъюнктурщики, ориентированные на ускоренную служебную карьеру; чтобы компенсировать недостаток личной культуры, образованности и творческих способностей. После ликвидации КПСС, в 1990‑е годы, «специалисты» по истории партии влились в когорту остальных историков и с тех пор делают вид, что они тоже историки. Непредвзятый историографический анализ, однако, демонстрирует тщетность этой мимикрии. Решившиеся в недавнем прошлом «служить и богу, и мамонне» в своём большинстве заплатили за своё советское рвение творческим бесплодием. Поэтому в моём словаре бывших историков партии отмечено немного и внимательный читатель различит этих более или менее убогих персонажей.
В первом издании настоящего словаря отсутствовали наиболее знаменитые, крупные историки России, в творчестве которых Курский край отразился попутно с множеством других сюжетов. В настоящее издание мы сочли возможным включить некоторые из этих знаковых, как сейчас говорят, для отечественной историографии фигур – от В. Н. Татищева и С. М. Соловьёва до Б. Д. Грекова и Л. Н. Гумилёва, например. Ведь именно из их обобщающих трудов всё новые и новые поколения рядовых научных работников и краеведов‑любителей черпают исходную для себя информацию по истории большинства регионов России, включая и Курский. Выход в свет такого рода рубежных трудов, от А. М. Карамзина до Б. А. Рыбакова, всегда поощрял историческую регионалистику к новым поискам местных иллюстраций к выводам маститых авторов. Порой губернские (областные) любители истории могли и поправить, дополнить столичного корифея в каких‑то деталях, фактах, им, бузусловно, более близких по месту жительства.
Поскольку биографии великих историков общедоступны, в нашем словаре очерки о них сокращены по сравнению с большими энциклопедиями; включают в себя в основном те сведения, что имеют прямое отношение к региональным реалиям.
Все остальные участники региональной историографии могут рассматриваться как помощники специалистов‑историков, поставщики источникового материала для дальнейшего изучения, архивирования, публикации. А также как работники по охране и популяризации региональных памятников истории и культуры.
А именно, кроме дипломированных историков, составителя подобного справочника должны, по идее, интересовать культурные любители местной истории – так называемые краеведы. В своём большинстве это здешние сотрудники школ, музеев, архивов, газет, прочих учреждений губернского (областного) или уездного (районного) масштабов. В разной степени присущий им дилетантизм чаще всего не мешает их самоотверженной, чаще всего на общественных началах выполняемой работе по сбору фактов о примечательных для потомков событиях, памятниках и лицах их малой родины.
Вопрос о научном и культурном значении исторического краеведения – сложен, деликатен и запутан в нашей историографии. Оценки соответствующего общественного движения колеблются в широком диапазоне. Представители столичной, университетской и академической науки чаще всего относились и относятся к своим добровольным и бескорыстным помощникам из провинции с иронией, если не с пренебрежением. Игнорируя их находки, замалчивая их достижения, они порой заимствуют эти находки без ссылки на первооткрывателей. Так получилось, например, при сенсационном открытии известной Каповой пещеры с палеолитической живописью на Урале.1 Или вот в рецензии на монографию по истории Астраханского ханства известный российский историк пишет: «Заметно, что исследователь следовал желанию охватить по возможности больший круг авторов, писавших о средневековой Астрахани. Поэтому он порой ставит в один историографический ряд профессиональных исследователей и компиляторов‑краеведов и с одинаковой основательностью – порой в ущерб научной весомости своей работы – анализирует логические построения первых и домыслы вторых. Мне представляется, что некоторые из последних даже не заслуживали бы упоминания. Тем более в столь серьёзном монографическом труде».2 Наверное, применительно к монографическому жанру это так. Но в историографических работах, к числу которых следует относить и словари, подобные моему, о любителях местной истории, как добросовестных, так и не очень, упоминать, на мой взгляд, целесообразно. Без этих фигур панорама региональной историографии окажется прерывистой и неполной.
В других случаях краеведческое движение наоборот превозносилось как проявление народной, земской инициативы, высокое служение науке и просвещению. Собственно говоря, до революции термин «краеведение» почти не употреблялся. Представители Губернских статистических комитетов, Губернских учёных архивных комиссий, Церковно‑исторических обществ, земских музеев и т. п. организаций считали себя никакими не «краеведами», а просто любителями науки, прежде всего истории и археологии. Они, будучи новичками, учениками на учёной стезе, как правило, довольно тесно сотрудничали с академическими и университетскими центрами в Москве, Санкт‑Петербурге и других университетских городах. Профессиональные учёные их периодически консультировали, инструктировали на раскопках и музейных выставках, в архивах. Всероссийские, а затем и областные Археологические съезды объединяли и учёных, и любителей, и меценатов – общественных деятелей.3 На мой взгляд, именно на рубеж XIX–XX вв. приходится так называемый «золотой век» российского краеведения.4
Показателем доброкачественности тогдашнего любительства в историографии стала целая плеяда выдающихся историков, археологов, этнографов, фольклористов, которые начинали именно в качестве краеведов. Как, скажем, А. А. Спицын и Д. К. Зеленин в Вятке, В. А. Городцов на Рязанщине; и т. д. Среди губернских и уездных любителей изучать прошлое родного края большинство составляли, конечно, куда более скромные фигуры. Встречались среди них и акцентурированные чудаки плюшкинского типа. Но у большинства имелось настоящее образование – гимназическое, университетское или богословское. Возможность периодических поездок в университетские центры страны и за границу насыщала академическое общение любителей и специалистов, тиражировала лучший опыт архивной, музейной, библиотечной работы. Для такой громадной империи, как Российская, нипочем не организовать и не оплатить работу профессиональных гуманитариев по всем её градам и весям. Не хватит дипломированных кадров. А любители археологии и всей прочей старины находились повсюду. Они‑то в меру сил и выявляли, собирали, описывали местные памятники истории и культуры. Короче говоря, любительская историография накануне революции составляла питательную среду академической науки и просветительской практики.
Всё изменилось после октября 1917 г. Краеведами стали называть себя любители местной истории и природы уже в 1920‑е – 1930‑е гг. Они в своём большинстве искренно желали вписаться в культурную политику нового, большевистского государства – «сеять разумное, доброе, вечное», как завещали нашей интеллигенции народники, социалисты, революционеры. Но никакого «спасиба сердечного», – метко заметил А. А. Формозов,1 – русский народ своим просветителям, историкам и учителям не сказал. Краеведческие организации были беспощадно разгромлены политической полицией советского государства, причём в числе первых когорт выдуманных «врагов народа», в конце 1920‑х – начале 1930‑х гг. Советским краеведам удалось сделать немало полезного на своей научнопросветительской стезе, однако в разных регионах этот вклад был различен; в среднем – не слишком велик, заметно меньше дореволюционного. Достижения первого поколения советских краеведов несколько преувеличены в последующей историографии, когда по обрывкам их архивов некоторые всё новые и новые историки стали писать о них книги, диссертации, выставлять себя их преемниками.2
Представляется, что с начала 1930‑х гг. организованное краеведение в нашей стране прекратило своё существование. С тех пор реальную работу в губернских центрах, а тем более в уездах могли проводить одиночки. Их объединения оставались на бумаге партийно‑хозяйственных отчётов, наравне со множеством дутых «кружков», блестяще высмеянных М. Булгаковым, И. Ильфом и Е. Петровым, А. Барто.
В послевоенный период эволюция «краеведения» на местах оно становилось всё более противоречивым. Отдельным областям повезло, там обосновались талантливые и энергичные личности, которые при поддержке столичных учёных выросли до ведущих специалистов по местным древностям, вещественным да рукописным. Таковы: директор Трубчевского краеведческого музея (Брянская область) Василий Андреевич Падин (1908–2003);3 военный врач Евгений Дмитриевич Петряев (1913–1987) в Вятке (Кирове);4 музейный сотрудник Фёдор Михайлович Заверняев (1919–1994) в Брянске; учитель географии Юрий Александрович Липкинг (1904–1983) в Курске и, очевидно, целый ряд других музейных, вузовских, архивных, газетных работников. Однако в целом по стране таких было немного. Например, по Курской области за вторую половину XX в. их можно пересчитать по пальцам одной руки.1
Но свято место, как известно, пусто не бывает. На смену культурным, образованным краеведам в советской глубинке приходили «краеведы» самозваные, некультурные и необразованные, сплошь и рядом просто функционально неграмотные. Зато ретивые на рекламу своих начинаний, фанатичные в отстаивании местного приоритета по любому поводу, самоуверенные в обнародовании своих «достижений». Личности этого пошиба инициировали фальсификацию 1000‑летних юбилеев ряда областных центров Центральной России (начиная с Белгорода); пытались сделать то же самое и в Воронеже, и в Липецке, и в Курске, в других местах. Выход на арену общественной деятельности неквалифицированных любителей краеведения – закономерное следствие экспансии так называемой массовой культуры, причём в её не самом цивилизованном – советском и постсоветском, партийно‑идеологизированном варианте.
Справедливости ради надо отметить, что моменты антинаучной идеологизации бывали, и не раз, присущи также профессиональной исторической науке. Причём и до революции, и особенно затем, с тех же до– и послевоенных времён и до сегодняшнего дня. И среди вроде бы профессиональных (по должностям, званиям) историков встречаются личности, клонирующие известный литературный персонаж – профессора Выбегалло, так реалистично написанного братьями Стругацкими.2 Историограф может просто обойти их в своём изложении, но выиграет ли от этого наша историография?
Ещё характернее для «кастовой науки» советского периода «просто» отход его представителей от авторских исследований, замыкание на преподавании истории, либо вообще смена профессии. Помимо общечеловеческих причин, тут действовала, наверное, всё та же партийная идеологизация тематики и методологии исторического исследования. В определённых ситуациях пользу для историографии приносили не те, кто писал и публиковался, а те, кто молчал.
Упоминания о названных недостатках и пробелах в региональной историографии должны, на мой взгляд, подчеркнуть жизненный подвиг тех историков, кто сумел посильно продолжить свою профессиональную работу даже в условиях тоталитаризма. Замалчивая «опыт» бездельников и конъюнктурщиков, мы тем самым умаляем подвижнический труд добросовестных исследователей. Впрочем, плюсы и минусы, свет и тени сплошь и рядом сочетались в одних и тех же творческих биографиях. Историографу (включая составителя подобного словаря) приходится ломать голову над тем, как сочетать деликатность с принципиальностью.
Вернёмся к анализу «краеведения». Его перспективы сегодня не ясны. С одной стороны, ряд краеведческих инициатив получил поддержку новых меценатов, спонсоров, региональных властей. Выходят краевые энциклопедии, периодические органы, сборники материалов.1 Их познавательная ценность разная – от полезных, просвещающих, до вредных, дезориентирующих широкий круг читателей. С другой стороны, активность краеведов оттеняет некоторое снижение уровня гуманитарных исследований в провинциальных музеях, библиотеках и институтах (переименованных в университеты). Кризисные 1990‑е гг. в высшей школе, других учреждениях культуры российской провинции, похоже, до сих пор не закончились. Поэтому научная экспертиза и редактура краеведческих опусов ныне сплошь и рядом отсутствует.
Больше всего среди «краеведов» просто коллекционеров разных редкостей, древностей. Филателисты, филокартисты, нумизматы, антиквары и т. п. Пёстрая среда, где благородное меценатство и прежде, и теперь соседствует с вульгарной наживой, спекуляцией. Отсюда выходят и союзники, и конкуренты, и сообщники официальных музейщиков, галеристов, учёных. Идеалом, а правду говоря, – нормой для деятелей этого сорта являлась бы передача, пусть и по завещанию, своих уникальных собраний на государственное хранение. Отрадных примеров такого обогащения столичной и провинциальной культуры за счёт её энтузиастов немало (в том числе в данном словаре). Но ещё больше печальных примеров обратного рода – безвозвратной потери, распыления частных собраний после смерти их владельцев, их продажи в частные же руки и за рубеж; ограбления государственных музеев в интересах антикварного рынка. Ещё печальнее, что начиная с 1917 г. и до сих пор российские музеи, в особенности провинциальные, не гарантируют сохранности своих собственных фондов. По разным причинам, – от вульгарной халатности до ещё более вульгарного воровства из фондов, эти последние несли и несут безвозвратные потери.2 Среди нынешних музейщиков не редкость встретить таких же коллекционеров. Так, в Курском областном краеведческом музее уже в мирные 1960‑е ‑1980‑е гг. была по необъяснимым причинам утрачена целостность коллекции из раскопок Д. Я. Самоквасова, Б. А. Рыбакова на Курской земле; «антский» клад суджанского происхождения; другие археологические находки.3
Подчеркну, что эти строки написаны мной задолго до прошумевшего на всю страну эпизода кражи ювелирных изделий из Эрмитажа.
В 1990‑е – 2000‑е гг. ситуация с провинциальными древностями резко усложнилась благодаря эпидемии так называемых «чёрных копателей» памятников истории и культуры. С либерализацией законодательства и особенно правоохраны в постсоветской России по археологическим объектам пошли с металоискателями всё новые и новые группы расхитителей. Сложился и растёт интернет‑рынок их находок из городищ, курганов, кладов. Курская область, судя по кладоискательским сайтам, один из лидеров таких криминальных продаж.4 Официальные археологи и музейные работники на словах обычно осуждают своих самозваных конкурентов.1 А на практике их поддерживают – консультируют, определяют, датируют находки – в обмен на их часть, на возможность сканировать те или иные редкости, вырванные из культурного слоя. При этом «чёрные копатели», дельцы антикварного рынка стыдливо именуются «краеведами».2
Недавно федеральные законодатели, наконец, внесли соответствующие изменения в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях. К этим последним приравнены покушения на памятники истории и культуры. Одна статья (7.15) предупреждает «Ведение археологических разведок или раскопок без разрешения», а другая (7.33) – «Уклонение от передачи обнаруженных в результате археологических полевых работ культурных ценностей на постоянное хранение в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации». Административные штрафы за указанные нарушения составляют для граждан от 15 до 25 минимальных размеров оплаты труда, а для юридических лиц – от 400 до 500. Разумеется, с конфикацией предметов, добытых в результате незаконных работ, также их инструментов и оборудования.3 Так что теперь человек с миноискателем и без открытого листа на археологическом памятнике – правонарушитель. Ничем не отличимый от человека с отмычкой на складе чужого добра или в чьей‑то квартире. А музейный работник, археолог, который консультирует такого незаконного поисковика, принимает его находки на экспертизу – его сообщник в административном правонарушении.
Невнятный ярлык «краеведа» накрывает очень разных персонажей. Тут и специалисты технического профиля высокого уровня, для которых занятия местной истории – любимое хобби. Инженеры, врачи, юристы, военные, чиновники и т. п., как правило, на пенсии. Допустим, Мишель (Михаил Андреевич) Кавыршин – сын эмигрантов первой волны из России, родился и вырос в Алжире, получил инженерное образование, стал ведущим специалистом Франции по строительному бетону. А выйдя на пенсию, увлёкся историей Курска, откуда были родом его родители и более отдалённые предки, опубликовал несколько статей в известном славистическом центре В. Водова.4 Таков лучший, пожалуй, пример нынешнего «краеведения».
Есть, к сожалению, и примеры худшего сорта (см., например, в приложениях к этому изданию мои рецензии на курские краеведческие издания).
Все высказанные соображения и оценки имеют прямое отношение к жанру настоящей работы. За последние годы в России активизировалась работа историков и краеведов по составлению и изданию разного рода региональных энциклопедий. Не остался в стороне от этого научнопросветительского движения и Курский край, где увидел свет целый ряд справочников такого рода, как общеэнциклопедического формата,5 так и профессионально‑биографических.6 К сожалению, при росписи словников, написании статей, их редактировании, а в особенности, при определении научных принципов всех этих этапов словарной работы сплошь и рядом допускаются ошибки, которые во многом дискредитируют упомянутые, благородные на первый взгляд, начинания. Отмечу самые типичные из этих недостатков:
• зачисление в «знаменитые земляки» лиц, хотя и родившихся в данном регионе или посетивших его, но никак не отразивших культурные реалии данной территории в своём научном, художественном или ином творчестве;
• преувеличенная комплиментарность оценок, отсутствие реалистичной иерархии заслуг; игнорирование слабых, теневых сторон в жизни и деятельности тех или других лиц из словарного списка;
• загромождение словарной статьи мелочными подробностями жизненного пути персонажа и, соответственно, неумение сформулировать итоговые заслуги его же перед общенациональной и провинциальной культурой;
• дублирование информации, содержащейся в общероссийских или профессиональных справочниках; игнорирование собственно регионального аспекта творческого наследия ученых и практиков;
• пренебрежение библиографической частью словарной статьи, которая на самом деле не менее важна для мало‑мальски квалифицированного читателя, нежели часть событийно‑оценочная;
• элементарные ошибки и опечатки, обусловленные редуцированием редакторско‑корректорской части современного российского книгоиздания в провинции, вульгарной малограмотностью так называемых краеведов;
• микроскопические тиражи большинства изданий (сотня‑другая, нередко даже считанные десятки экземпляров) и завышенная цена экземпляра; в первом случае издание не поступает ни в открытую продажу, ни в большинство библиотек города и области; во втором оказывается практически недоступным большинству покупателей.
Разумеется, сложности словарно‑энциклопедической работы не сводятся к указанным элементарным своим проявлениям. Применительно к региональной историографии не всегда легко определить, кто из исследователей к ней причастен, а кто нет. В отдельных случаях небольшая статья, выполненная на местных материалах, больше проясняет в прошлом того или иного края, чем пухлые компилятивные сочинения недостаточно критичных к источникам «авторов».
Если вернуться к определению настоящих краеведов, то в роли таких любителей местной старины выступают не только здешние аборигены, но и приезжие лица. Как правило, то уроженцы Курщины или смежных с ней мест южной России, пожелавшие отдать своей малой родине дань благодарной памяти. Среди таких посетителей региона были и профессиональные учёные, а любителями регионального прошлого их делал тот специфический материал, с которым они здесь, вне привычной им университетско‑академической среды, сталкивались. Допустим, видный филолог, в будущем академик М. Н. Сперанский по поручению Московского археологического общества вёл однажды раскопки курганов под Рыльском и публиковал их результаты. А историк и археолог Д. Я. Самоквасов в ипостаси этнографа‑полевика описывал архаичную форму большой крестьянской семьи в Курском уезде, встреченную им при раскопках там же.
Далее, к предыдущей когорте деятельных поклонников исторических традиций родного края примыкают просвещённые лица из числа государственных и политических, общественных деятелей. Сами они обычно не блещут историческими знаниями (хотя есть и яркие исключения из этого правила), однако сознательно помогают историкам и прочим гуманитариям, создавая условия для их архивной, экспедиционной, издательской, педагогической работы. Забывать такого рода меценатов и прямых организаторов исторической науки, музейного дела, историко‑архитектурных заповедников и прочих культуртрегерских начинаний было бы непростительным снобизмом со стороны историографа. Тем более применительно к российской провинции, чьи контакты со столичными учреждениями науки и культуры прямо зависели от местного начальства. Скажем, курская городская премия за вклад в музейное дело, изучение и пропаганду древностей, учреждённая несколько лет назад, совершенно справедливо носит имя Николая Николаевича Гордеева. Этот курский губернатор (в 1902–1905 гг.) не оставил после себя исторических трудов, однако именно он сумел организовать в Курске первое краеведческое общество – Учёную архивную комиссию и достать деньги на обустройство здесь же первого общедоступного музея.
История – не только и не столько заповедник кастовой науки, сколько объект комплексного освоения и пропаганды со стороны представителей разных форм духовной культуры. Образ прошлого не только вычитывается из учёных статей и монографий, но и складывается под влиянием художественной литературы, изобразительного искусства, даже музыки и архитектуры. Историографы чаще всего игнорируют познавательные и воспитательные возможности искусства. Опираясь на редкие, но плодотворные исключения из этого правила,1 я попытался в этом словаре представить, хотя и выборочно, тех представителей разных муз, чьё творчество на исторические темы питалось чернозёмными, курскими впечатлениями. Это, прежде всего, писатели, чьи рассказы, повести, романы строились на исторических событиях и фигурах Курского края с древнерусских времён до Нового времени; затем ещё некоторые живописцы, оставившие полотна той же тематики; скульпторы и архитекторы, пытавшиеся обессмертить подвиги курян своими монументами.
Таковы те группы лиц, кто, так или иначе, относится ниже к историкам края.
Напротив, за пределами настоящего словаря остались знаменитые сами по себе, но посторонние местной историографии земляки курян – те деятели науки, в том числе исторической, кто по рождению, постоянному или временному жительству оказался волею случая связан с Курским краем, но в своём творчестве прямо его не затрагивал.
Среди таковых, например, курский подьячий по началу своей головокружительной карьеры Семен Агафонникович Медведев, после монашеского пострига Сильвестр (1641–1691) – ученик и секретарь Симеона Полоцкого, «справщик» (редактор) Печатного двора, публицист и поэт, фаворит царевны Софьи, кончивший на дыбе и плахе «за возмущение к бунту». Хотя в его литературном наследии предполагается историческое сочинение «Созерцание краткое лет 7190–7192», но прямого отношения к его родному Курскому краю оно не имеет.
Любопытно, что соавтором упомянутого сочинения, вероятно, выступил другой прославившийся в политике и литературе курянин – придворный поэт Карион Истомин (1650–1717), который в своём «Летописце великом земли российской» в свою очередь обошёл вниманием Курскую землю.
Практически ничего не сообщал о ней и ведущий биограф Петра I Иван Иванович Голиков (1735–1801) – родом из курских купцов, составивший тридцатитомное жизнеописание великого императора («Деяния Петра Великого», тт. 1–12 (1788–1789); Дополнения к ним, тт. 1–18 (1790–1797)).
Точно так же и другой курский купец по рождению и воспитанию – Николай Алексеевич Полевой (1796–1846), самоучкой превратился в блестящего журналиста, известного писателя, самобытного историка русского народа, но не Курского края.
По той же причине в словарь не попали следующие лица, обычно фигурирующие в словарных списках «знаменитых курских историков».
Видный историк социалистических учений и сам деятель революционного движения, а затем большевистской власти, академик, секретарь АН СССР Вячеслав Петрович Волгин (1879–1962) – уроженец Рыльского уезда, выпускник Кишинёвской гимназии и Московского университета.
Известный исследователь античности и Новой истории Западной Европы, академик АН БССР Владимир Николаевич Перцев (1877–1960). Его в студенческие, а позднее в военные годы не раз высылали в родной Курск под надзор полиции, здесь же он пережидал Вторую мировую войну, но курские страницы отчественной истории его не увлекли.
В курских справочниках и энциклопедиях фигурирует ещё целый ряд тому подобных историков – «известных» (в глазах наивных краеведов) земляков курян. Однако прошлым этого региона никто из них, повторяю, специально не занимался, а потому причислить их к «историкам Курского края» затруднительно.
Как ни странно, именно и почти исключительно таких, в общем вполне почтенных авторов, но для местной историографии своего рода «свадебных генералов», включили в себя издания – предшественники данного словаря. Это, прежде всего, «сборник очерков о знаменитых земляках» «Гордость земли курской» (Составитель Н. Шехирев. Курск, 1992. 207 с. 1000 экз.). Именно к ним проявили наибольший интерес авторы двух последующих (уже после первого издания настоящего словаря) курских энциклопедий, координатором которых выступал Ю. А. Бугров, а также составители некоторых тому подобных краеведческих изданий.1 Причину такого отбора персоналий нетрудно понять: сведения о них можно почерпнуть в многотомных энциклопедиях и других общедоступных изданиях. А для рассказа об исследователях именно Курского края требуется самостоятельное изучение прежде всего архивных и редких печатных источников.
Так называемая «Малая курская энциклопедия» была составлена патентоведом Семёном Рувимовичем Гойзманом в начале 2000‑х гг. Перед отъездом в Израиль, этот курский краевед перепечатал свой справочник и передал его в одном экземпляре в Областную библиотеку имени Н. Н. Асеева. Теперь эта рукопись фигурирует в Интернете и время от времени пополняется составителем и его добровольными помощниками новыми материалами.
Во многих других российских областях (начиная с Московской, Тульской, Калужской, Воронежской, Вятской, Саратовской, Тамбовской) словари и даже энциклопедии по историческому краеведению, включающие в себя, разумеется, и персонально‑биографические материалы, уже изданы и находятся в активном научно‑учебном обороте.2
Стремясь восполнить отмеченный пробел в курской историографии, мы (с моими соавторами по нескольким статьям) и решились предложить вниманию читателей первый опыт её персонального справочника. При этом нами вполне осознавались возникающие здесь трудности. Среди них: заведомая неполнота словника и библиографии; неравномерность, порой контрастная, объёма и содержания информации о разных персонажах – «где густо, а где пустовато» из‑за состояния выявленных на сегодняшний день биографических источников; возможная спорность тех или иных оценок достижений и слабостей наших предшественников в науке и просвещении.
Однако с чего‑то и кому‑то надо же было начинать создание базы данных о курских историках. Иначе ещё больше фактов, имён, идей придёт в забвение; усилится разрыв поколений в культуре российской провинции.
* * *
Публикуемые в словаре материалы носят авторский характер – сведения для большинства из его статей извлечены мной (и моими соавторами по отдельным персоналиям) из архивов Москвы, Санкт‑Петербурга, Курска; из редких печатных изданий XVIII–XX вв. Суждения о личностях и деятельности перечисляемых ниже работников с курскими древностями выносятся на основании моих специальных исследований, публиковавшихся в 1980‑е – 2000‑е годы (См. ниже раздел «Избранная литература…», а также библиографические разделы многих персональных статей).
Решив включить в настоящее издание статьи, посвящённые ныне здравствующим историкам, в основном курянам по месту жительства, я обратился к некоторым из них с немудрёной анкетой.
