
ПРОЛОГ
Жизнь поставила передо мной неожиданную задачу — передать в письменном виде то, чему я научился у других людей. Я часто попадаю в одну и ту же ситуацию: в Аргентине, Мексике, Испании ко мне как к хорошему знакомому обращаются разные люди. Они приветствуют меня, называют по имени, задают вопросы, просят совета... Удивляет не то, что после короткого разговора становится ясно: они действительно знают Хорхе Букая. Гораздо важнее факт, что все эти люди постоянно вносят свой вклад и в мое личностное развитие, и в дело моей жизни. Ведь общение с людьми — фантастический и удивительный опыт.
Возможно, вам уже знакома моя почти навязчивая привычка объяснять все, о чем думаю и хочу сказать, рассказами и притчами. Ситуации, в которые я попадаю, у меня часто ассоциируются со всякими историями. Этой форме передачи знаний через сказку и иносказание научили нас мусульманские дервиши и дзенские монахи. Существует одна суфийская притча, которую я неизменно вспоминаю, когда знаю, что меня будут внимательно слушать или вдумчиво читать мои книги.
В ней, как и в большинстве суфийских притч, рассказывается о великолепном Ходже Насреддине. Этот уникальный герой обладает безграничной способностью к перевоплощению. В одних историях он дряхлый старик, в других — ловкий и неискушенный паренек. Чаще всего Насреддин — просветленный мудрец, но иногда — ничего не знающий глупец. Он предстает то попрошайкой, то девушкой на выданье, то богатым султаном. Но зовут этого героя всегда Насреддином. Возможна тот факт, что такие разные персонажи носят одно и тоже имя, — лучший способ показать, что Насреддином может быть любой из нас. Ведь в каждом из нас уживаются самые разные личности. Все мы и мудрые, и дураки. Иногда мы ведем себя, как юноши, полные сил, а временами — как старые немощные инвалиды.
В истории, которую я хочу рассказать в качестве приветствия, Насреддин — мужчина, по непонятной причине вдруг прослывший мудрецом — человеком обладающим знаниями по важным вопросам. Но слава Насреддина совсем не соответствует действительности, и он прекрасно знает, что вера окружающих в него необоснованна и преувеличена. По мнению самого Насреддина, он всего лишь бродит по свету и слушает людей, чего совершенно недостаточно для того, чтобы находить ответы на серьезные вопросы и передавать это знание миру. Тем не менее слава Насреддина опережает его: когда он оказывается в очередном городе или селе, народ собирается послушать его, уверенный, что он скажет нечто важное, прояснит какие-то сложные вопросы.
Итак, вот эта притча.
Однажды Насреддин приехал в небольшой городок на Среднем Востоке. Насреддин впервые оказался здесь, однако, как только он слез со своего мула, его окружил народ и стал громко приветствовать. Насреддин же искренне не знал, что говорить этим людям. После короткой паузы он развел руками и обратился к собравшимся.
Полагаю, — начал он высокопарно, — вы уже знаете, что я собираюсь сказать...
Наступило молчание через несколько минут, тянувшихся бесконечно долго, послышался шепот, и наконец кто-то ответил:
- Нет, мы не знаем. Говори!
Тогда Насреддин произнес:
- Если вы собрались здесь, не зная. что я хочу сказать, значит... вы не готовы это услышать.
Затем он развернулся и ушел.
Все были поражены, кто-то нервно засмеялся. Присутствующие надеялись, что Насреддин сразу же возвратится, но этого не случилось.
Легко догадаться, что произошло потом. Всегда найдутся люди, считающие, что если они чего-то не поняли, значит, сказанное было слишком умным. Они испытывают неловкость перед мудрецами и стараются показать, как ценят чужой ум. Один из подобных людей выкрикнул вслед уходящему Насреддину:
- Как это мудро!
И разумеется, когда один человек ничего не понимает. а другой говорит: «Как это мудро», то первый, боясь прослыть дураком, соглашается со вторым.
Поэтому все остальные тоже начали твердить:
- Как мудро!
- Как это умно!
И так до тех пор, пока кто-то не заметил:
- Да, умно, но... очень коротко, не правда ли?
Тогда в разговор вступил человек из тех, кто придает большое значение событиям, которых на самом деле нет:
- Краткость — символ мудрости. Учитель прав. Как же мы могли прийти сюда, даже не зная, что тут услышим? Мы глупцы! Мы потеряли такой уникальный шанс обрести знание.
После этих слов отовсюду стали раздаваться возгласы:
- Насреддин — настоящий мудрец!
Мы должны просить его о новом откровении...
Люди вновь направились к Насреддину и обратились к нему с просьбой о еще одной встрече. Ведь знания его глубоки, и единственного разговора недостаточно, чтобы постичь всю его мудрость.
Насреддин ответил:
- Вы ошибаетесь, все совсем наоборот. Моих знаний едва хватает даже на одну беседу. Я не представляю, о чем говорить с вами.
Но люди не слушали его.
- Какой он скромный! — раздавалось вокруг.
И чем больше Насреддин уверял всех в том, что ему нечего больше сказать, тем больше народ умолял его о новой встрече. Наконец после долгих упрашиваний Насреддин согласился побеседовать с горожанами еще раз.
На следующий день у дома Насреддина собралось еще больше народу.
- О чем он будет говорить? — интересовались люди, которых не было в первый день.
Знатоки отвечали:
Сложно объяснить, это нужно услышать от него самого... Но будьте осторожны: на его вопрос, знаете ли вы, что он собирается сказать, всегда отвечайте, будто знаете.
Выйдя и увидев огромную толпу. Насреддин вновь решил прибегнуть к своей тактике:
- Я полагаю, вы уже знаете, о чем я собираюсь вам сказать?
Внимательные слушатели, не желая обидеть учителя не стали повторять глупый ответ, который они дали в предыдущий день.
- Да, разумеется, знаем, — ответили собравшиеся. — Поэтому мы сюда и пришли.
Тогда Насреддин опустил голову и произнес.
- Если все и так знают, о чем я хочу сказать, то я не вижу смысла повторять это.
Слушатели замерли. После напряженного молчания кто-то воскликнул:
- Гениально!
Крикнувший человек слышал вчерашний разговор и сейчас хотел показать, что до него первого дошел смысл слов мудреца. Собравшиеся не стали отставать и наперебой закричали:
- Замечательно!
- Восхитительно!
- Просто поразительно!
Один из присутствовавших на предыдущей встрече, пытаясь подчеркнуть свой опыт и значимость, заметил:
- Не только поразительно, но отлично дополняет вчерашнюю мудрость!
Собравшиеся вновь одобрительно зашумели, пока кто-то не произнес:
- Да, это поразительно... но как-то коротко.
- Он говорит коротко, но о многом, — оправдал Насреддина один из знающих людей.
И тут же раздались крики:
- Мы хотим еще, мы хотим услышать еще! Пусть он прольет на нас еще немного своей мудрости!
В этот раз самые уважаемые люди города направились к Насреддину, чтобы просить его о третьей беседе.
Насреддин отказывался, говорил, что он не заслуживает подобной чести и что ему уже пора возвращаться в свой родной город.
Но посетители были настойчивы. Они умоляли и заклинали его, взывали к предкам и ко всем святым. Наконец Насреддин сдался и согласился на третью и заключительную встречу.
На следующее утро перед домом Насреддина собрался почти весь город. Люди решили, что в этот раз лишь городской судья станет отвечать на все вопросы, а остальные будут молча внимать речам мудреца.
Представ перед публикой. Насреддин спросил:
- Я полагаю, всем вам известно, что я собираюсь сказать?
Судья выступил вперед, окинул взглядом собравшихся и почти с вызовом заявил:
- Кому-то известно, а кому-то нет.
Люди одобрительно зашумели, захлопали в ладоши, потом затихли и устремили взгляды на учителя.
Насреддин не заставил их долго ждать.
- В таком случае пусть те, кто знает, объяснят тем, кто не знает.
После этих слов он театрально развернулся и... ушел.
Я вспомнил эту историю по нескольким причинам. Во-первых, некоторые предполагают, будто я обладаю неким таинственным знанием, чем я, естественно, на самом деле не обладаю. Во-вторых, книги Хорхе Букая — это синтез тех знаний, которые я почерпнул от других людей, настоящих мудрецов, с какими мне повезло повстречаться на своем пути, и написаны они исключительно в лучшие моменты моей жизни. По сути, только в такие моменты я и могу писать. Как я говорил уже много раз, я не писатель, я врач, психотерапевт, может быть, пишущий психотерапевт, но не писатель. И поэтому мне приходится дожидаться подходящих моментов, чтобы работать над книгами. И третья причина, по которой я рассказал эту историю, заключается в том, что все мои книги затрагивают такие темы, с которыми читатели, как правило, уже знакомы, иногда даже больше, чем я, и они имеют по этому поводу собственное мнение. Я не хочу никого удивить своими идеями, я лишь надеюсь, что человек, открывший мою книгу, по новому взглянет на себя и на свои мысли. Ведь именно так мы учимся — внимательно прислушиваясь к тому, как опытные люди, окружающие нас, делятся знаниями с менее искушенными.
Итак, мой будущий читатель, в этот раз мне вновь, как и прежде, потребуются твое внимание и сотрудничество. Поскольку тебя пока нет рядом со мной, то я позволю себе тебя выдумать. Твои вопросы будут поддерживать мое внимание, стимулировать меня и пробуждать, хотя бы иногда, мои лучшие качества. Спасибо за то, что, сам того не зная, ты будешь беседовать со мной в Нерхе.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОТ САМООЦЕНКИ ДО ЭГОИЗМА
Нерха — один из красивейших городов в мире, а Балкон Европы — мое самое любимое место из всех, где мне удалось побывать. Когда стоишь на этой смотровой площадке, кажется, будто плывешь по морю и одновременно находишься на твердой земле. С Балкона Европы всегда открывается вид на безоблачное небо, яркое солнце и синее море, а люди там непременно приветливы, почтительны и улыбчивы.
Каждое утро я совершаю утреннюю прогулку. Сначала захожу на несколько минут в церковь Сан-Сальвадор, потом огибаю здание и попадаю на Балкон Европы, где обязательно заглядываю в кафе, гнездящееся на утесе. Завтракая на террасе, я заказываю всегда одно и то же (тост с маслом и помидорами, двойной кофе с сахарином и газированную воду). Потом не спеша иду вдоль пляжа Бурриана. по улице Калье де ла Карабео, возвращаюсь на площадь Эрмита и направляюсь к пляжу Торесильяс (разумеется, проходя мимо корабля Чанкете, где снимались сцены из сериала «Синее лето»).
Вот именно здесь рядом со мной и появляешься ты, мой воображаемый читатель. Мы сидим и болтаем, делимся впечатлениями и обмениваемся идеями. Эта фантазия появилась у меня неспроста.
Несколько лет назад, когда я окончательно решил, что в Испании буду жить именно в Нерхе. я часами задерживался на Балконе, глядя на море. Однажды вечером я заметил молодую женщину. Увидев меня, она удивилась, а потом подошла и спросила: «Букай?. Вы Хорхе Букай? Тот самый писатель?..» Впервые за пределами Аргентины меня узнали на улице.
После того как эта женщина наговорила мне лестных слов, а я поблагодарил ее, она попросила разрешения задать мне вопрос. Она кое-что не поняла в одной из моих уже опубликованных книг. Разумеется, я согласился, и следующие два часа мы разговаривали обо всем, что волновало меня, а также о ее жизни, семье, беременности (она была на шестом месяце), о ее работе. Всегда сложно объяснить человеку что-то важное для тебя, когда ты предполагаешь, будто он ничего подобного не переживал. Но оказалось, нас интересуют одни и те же вещи.
Эта женщина, с которой я до сих пор время от времени встречаюсь, стала олицетворением всех моих читателей. Благодаря ей, я научился представлять их, вести с ними диалог.
Вопросы, которые появятся на последующих страницах, я воспринимаю именно как вопросы моего читателя, а значит, и твои вопросы.
- Я была на нескольких твоих конференциях, прочла почти все твои книги. То, что ты говоришь, понятно, и я по большей части с тобой согласна, но, мне кажется, иногда это сложно и применимо не для всех.
- Мне приятно слышать, что это сложно.
- Почему?
- Называя что-то опасным, ты тем самым признаешь, чпо это возможно, а это шаг вперед. Сколько я слышал гневных комментариев по поводу своих идей! Меня часто укоряют, будто они невыполнимы... А ты говоришь «сложно»… Меня это радует! После всего негативизма услышать, что это всего лишь сложно... Возможно, легче было бы идти уже проторенной тропой, никогда ничего не оспаривая, но я тебя уверяю, эго мешало бы твоему росту.
Если задуматься о том, как развивалось человечество, можно заметить, что всегда происходило одно и то же. Я продемонстрирую это на примере.
Посмотри на этот рисунок.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сколько тут квадратов?
- Шестнадцать.
- Я запишу твой ответ радом с решеткой. Взгляни на нее еще разок и опять скажи мне: сколько тут квадратов?
- Шестнадцать… ой… Нет, погоди, не шестнадцать, если вместе с большим…
- Под 16 я запишу 17. Это все?
- Ну теперь мне кажется, что тут больше, чем семнадцать; думаю, двадцать один.
- Отлично, напишу 21 под...
- Нет, нет, их двадцать два, я центральный не заметила.
- Окончательный вариант какой? Сначала тебе казалось, что квадратов шестнадцать. Потом оказалось, что их больше шестнадцати... Сколько квадратов ты видишь сейчас?
- Ну-ка... Двадцать два… и четыре по бокам… двадцать шесть. Я думаю, что их двадцать шесть.
- Я запишу 26 и спрошу еще раз: сколько тут нарисовано квадратов?
- М-м-м... Похоже, я ошиблась, их тридцать, есть же еще квадраты побольше…
- Тридцать. Записываю. Сколько тут квадратов?
- Ну я уже и не знаю… Как ни посмотрю, появляются новые… Я запуталась… Дай посчитаю… Тридцать два?
- Когда-то давно я понял, что многого не знаю, а ни медицина, ни психология не позволят мне восполнить эти пробелы в образовании. Я решил изучить философию и антропологию, но самостоятельно мне справиться с этой задачей было трудно. Тогда коллеги и друзья помогли мне стать слушателем курса философии в университете Сальвадора. На первом занятии преподаватель нарисовал такой вот квадрат и задал тот же вопрос, который я только что задал тебе. И почти до конца занятия все происходило так же, как и сейчас, с разницей лишь в результате — наша группа насчитала 240 квадратов.
Когда преподаватель записал все числа, которые мы назвали, он положил мел и сказал: «На этом примере легко показать процесс эволюции человеческого сознания».
Когда кто-то изобретает или придумывает что- либо новое — не важно, что именно, — он показывает результат и спрашивает, что видят остальные. Люди пытаются найти ответ. Часто бывает, что человек получает ответ, который кажется ему точным, но все равно не прекращает задавать вопрос. Я продолжал спрашивать, сколько тут квадратов, хотя ответ «шестнадцать» совершенно верный. Это первое правило развития человечества. Оно движется вперед, но это происходит не только за счет вопросов и ответов, а главным образом потому, что процесс повторяется до изнеможения.
Через некоторое время один или несколько человек замечают нечто такое, чего раньше никто не видел, и кто-нибудь отваживается сказать это. Он рискует ошибиться, выставить себя дураком, стать объектом насмешек, но все равно говорит, что квадратов семнадцать. И это дает толчок новым открытиям. Остальные тоже вдруг осознают, как много они раньше не видели. В нашем примере люди замечают, что есть спрятанные квадраты разных размеров, и начинают открывать их.
Один большой квадрат4x4, четыре квадрата 2x2 (по одному в каждом углу), еще один квадрат 2x2 в центре большого квадрата, четыре квадрата 2x2 в середине каждой стороны большого квадрата и четыре квадрата 3х3 в каждом углу. Если к вновь найденным квадратам мы прибавим первые шестнадцать, то получим правильный ответ, тридцать. Пока это все, что я вижу. Увидеть то, чего не видят другие, и рискнуть высказать свою точку зрения — это второе правило развития человечества.
- Но ты продолжал спрашивать и после того, как я сказала: «Тридцать». Ты сжульничал…
- Да нет. Это подтверждение первого правила (продолжать задавать вопрос после каждого ответа), а также попытка помочь тебе увидеть третье. Человечество движется вперед не только из-за того, что люди находят все существующие ответы, но еще и потому, что кто-то говорит, будто видит то, чего на самом деле нет. Третье правило заключается в умении заново взглянуть на то, что мы уже хорошо знаем, усомниться в этом и перестать считать собственные ответы окончательными и неоспоримыми.
То есть каждый раз, когда кто-то подвергает сомнению устоявшиеся результаты, остальные решаются продолжить поиск, и в ходе его они могут заметить нечто большее. Именно так развивается человечество, и, дабы оно продолжало двигаться вперед, нужно, чтобы кто-то продолжал задавать вопросы, кто-то раскрывал потаенное, а кто-то видел то, чего не существует на самом деле.
- Но мне хотелось бы, чтобы и в других вопросах ты показал мне первые «шестнадцать квадратов» и помог найти остальные.
- Я могу попробовать, если пообещаешь не забывать, что ты можешь заметить то, чего не увижу я, и помнить: иногда я всецело уверен в том, чего на самом деле не существует. Если ты будешь подвергать сомнению все мои слова, я согласен искать с тобой «квадраты».
- Договорились. Начнем прямо сейчас?
- Давай начнем прямо сейчас.
- Кругом все твердят о самооценке. Для некоторых это очень важная вещь, для других — глупость, выдуманная психологами, дабы оправдать свое существование. Что ты об этом скажешь?
- Самооценка — ценная и неотъемлемая часть душевного здоровья… Для меня это «шестнадцать квадратов». Остальные отыщи сама. Что такое самооценка для тебя? Что означает это слово? Этот термин используется часто, но его значение абстрактно.
- Я бы сказала, что это любовь к самому себе.
- А еще?
- Бережное отношение к себе.
- Что-нибудь еще?
- То, как человек видит себя.
- Прошу, продолжай.
- Принимает себя. Самооценка заставляет человека уважать себя.
- Это все?
- Она определяет выбор.
- И…
- Помогает превозмочь самого себя.
- Отлично! «Превозмочь себя» — хорошо сказано.
- Наверное, умение прощать себя тоже сюда входит… И забота о собственном росте.
- Похоже, в определении чего-то еще не хватает.
- Быть смелым, осуществлять свои желания.
- Еще что-то?
- По-моему, пока не упоминалось признание собственных способностей.
- Отлично, если, по-твоему, это все, то теперь моя очередь. Хотя мы, разумеется, уже недалеки от истины. Этимологически это слово означает оценивать самого себя, поэтому встает еще один вопрос — что значит оценивать?
- Ценить себя… хорошо относиться…
- Может быть. По сути, в повседневной жизни мы говорим, будто относимся к чему-то хорошо, когда не отваживаемся сказать, как мы это что-то любим. Давай отбросим это повседневное выражение и перейдем к другому слову, которое ты назвала: «ценить». Ценить — то есть знать ценность, давать чему-то оценку, оценивать. Действительное значение слова в нашем случае не так важно; нам сейчас важно отметить, что данный термин применяется по отношению к чему- то, имеющему ценность. Объект, получивший высокую оценку, — это ценный и желанный объект. Следовательно, по крайней мере в данном контексте, оценивать — значит ценить, а самооценка...
- …Оценка самого себя.
- Молодец. Таким образом, самооценка — это умение хорошо оценивать самого себя и находить в себе ценные качества. То есть способность оценивать себя адекватно. Я уточняю — адекватно... Так как не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, будто выдумывать о себе то, чего нет на самом деле, — это признак хорошей самооценки. Например, если я начну думать, будто я высокий голубоглазый блондин, так как предпочел бы быть именно таким, хотя на самом деле я выгляжу по- другому, это станет отрицанием реальности или попросту бредом, в крайнем случае попыткой выдать желаемое за действительное, но вовсе не самооценкой.
Каждый день я встречаю людей, уверяющих дураков в том, что те гении, считая, будто так они повышают их самооценку. Хота на самом деле это просто грубое лицемерие, если, конечно, вовсе не злобное издевательство.
Дурак с высокой самооценкой ничего не отрицает: «Да, в каких-то отношениях я немного глуповат, и что?», «Разве все должны быть умными?», «Кто-то и глупым проживет», «Может быть, дураки вообще не имеют права на существование?», «Я многое делаю не хуже других, а кое-что и получше многих».
Предположим, я дурак. (Ты, наверное, думаешь, что туг и представлять ничего не нужно?) Я спрашиваю себя: ну и что, если я дурак? Даже более того, я не совру и не преувеличу, если скажу, что в некоторых аспектах своей жизни я действительно полный дебил, как говорят в моих краях. Дурак дураком. Даже если так, в чем тут проблема? Почему мне все время надо нести ответственность, проявлять способности и быть продуктивным? Почему мои ответы непременно должны оказываться самыми правильными и адекватными, почему я всегда должен делать то, что должен? Нет, в некоторых аспектах я первостепенный дебил! Признаться, я давно перестал мучиться от осознания этого факта. Это значит, самооценка у меня на месте, то есть я имею представление о том, что у меня есть определенные способности, и знаю, что каких-то способностей мне недостает, и не стыжусь этого. У меня есть некие пробелы, в чем-то я беспомощен, к чему-то неспособен. Как я, так и другие. Так как, нравится нам это или нет, в каком-то отношении мы все неспособны к чему-то и все беспомощны.
- На самом деле я хорошо понимаю слова по поводу беспомощности и признаю это, но насчет «неспособностей» не согласна. Я же могу научиться делать то, чего не могла раньше…
- Да, можешь, но не всегда. Развитие возможно, когда стремление учиться вызвано твоим собственным желанием; движение вперед вряд ли будет успешным, если ты учишься по чужой указке. Зачем мне учиться тому, чему я не хочу? Или за что не получу похвалы или награды? Разве я должен заставлять себя учиться резьбе по дереву, если кто-нибудь из моего окружения злится из-за того, что я не умею этого делать? Я не желаю и не считаю целесообразным выполнять какие-то вещи только ради ублажения других. Но есть одна опасность. Нужно быть осторожным — ведь «неспособностями» можно оправдывать свою лень или использовать их как предлог, заставляя других делать то, что не хочешь сам. Например, я не имею права заявлять, будто не способен гладить одежду, приводить в порядок свою комнату.
- Но человек должен учиться Я, допустим, чувствую себя лучше, когда узнаю что-нибудь новое.
- Это замечательно. Но есть опасность: человеку может показаться, что он сделается лучше, если будет стремиться походить на того, кого в нем хотели бы видеть окружающие.
Проблема низкой самооценки становится очевидной, если рассмотреть ее с этого угла… Низкая самооценка — это когда человек оценивает себя только с точки зрения других людей.
Повторю, если вдруг непонятно. Являясь взрослым человеком (сказанное не касается детей и подростков), я должен восполнить свои способности, но только когда это вызвано моим желанием чего-то добиться, а не стремлением удовлетворить других.
Да, действительно, всем хочется продолжать расти, узнавать новое, но не стоит забывать, что здесь часто кроется ловушка. По сути, мы попадаем в замкнутый круг, начинающийся словами: «Я должен быть...»
Позволь мне нарисовать схему. Всякий человек достигает зрелости, имея перед собой образ Себя Идеального.
Я Идеальный
Я вижу Идеального Хорхе скрупулезным, аккуратным, умным, худым. Твой образ Тебя Идеальной скорее всего складывался из того, чего от тебя требовали родители, учителя или религия. В итоге Я Идеальный — это возвеличенный образ Я. Я, которое уже нельзя улучшить.
Но я также знаю, что существует еще и Я Реальный, настоящий Хорхе, видимый и ощутимый, который вовсе не таков, каким я должен быть по моему мнению, но такой, какой я есть на самом деле. Разница между этими двумя сущностями порождает конфликт. Мне неприятно осознавать разницу, которую я обнаружу, если отниму Я Реального от Я Идеального. Осознание разницы, большой или маленькой, всегда порождает во мне одно и то же:
Решение измениться.
Мы можем составить следующий график.
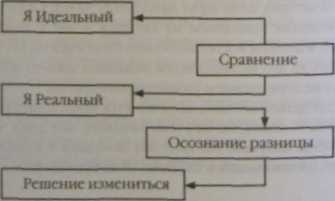
В этом решении меня поддерживают мои требования к себе, которые постоянно напоминают мне. «То, на что затрачены усилия, имеет ценность». И, следовательно, я делаю все для того, чтобы измениться и постепенно превратиться в того, кем я должен быть.
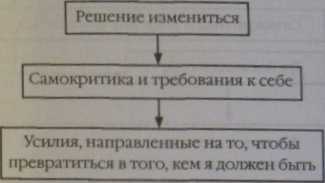
Рано или поздно я понимаю: сколько ни старайся, я не смогу стать Идеальным Хорхе. Я осознаю, что не сумею сделаться таким, каким меня учили быть или каким я должен быть по чьему-либо мнению. И тогда мои надежды рушатся. Я чувствую себя неудачником.
Дальнейшие результаты предсказуемы; завышенные требования к себе, плюс тщетные усилия, плюс постоянные переживания по поводу разбившихся надежд приводят к тому, что мое желание, силы и готовность изменяться истощаются. Вся гамма неприятных ощущений, которая часто ассоциируется с депрессивным состоянием, проявляется в результате резного снижения самооценки.
Как и следует ожидать, снижение самооценки приводит к ухудшению моего мнения о самом себе. Таким образом, разница между тем, какой я есть и каким я должен быть, увеличивается…
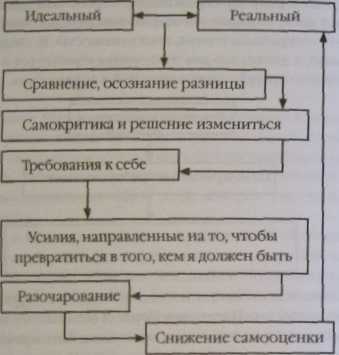
Как видно из схемы, чем больше расстояние между тем местом, где я нахожусь (или по крайней мере предполагаю, что нахожусь), и тем местом, где я должен находиться (или считаю, что должен находиться), тем большую разницу я осознаю. Следовательно, тем хуже моя самооценка, сильнее самокритика, напряжение и разочарование.
Это порочный круг, тупик. Я бы назвал его невротическим механизмом.
- Выхода из этого тупика нет?
- Успокойся. Когда ученые не знают, что делать, непременно появляется какой-нибудь поэт или артист и указывает им путь. В Аргентине есть юморист, которого я считаю истинным поэтом. Свои карикатуры он подписывает псевдонимом Ландру. Раньше, до периода военной диктатуры, в Буэнос-Айресе выпускалась газета под названием «Тиа Висента». На первой странице в качестве эпиграфа постоянно печаталась какая-нибудь остроумная ремарка. Все они били гениальны. Одна из этих фраз, принадлежавшая Ландру, может послужить ответом на твой вопрос:
«Если ты попал в тупик — не будь идиотом, выйди там, где вошел».
- Здорово.
- Вот, мне удалось тебя рассмешить... Итак, если мы считаем, что ситуация тупиковая, надо понять, как мы сюда попали.
- Первым пунктом было Я Идеальный.
- Я Идеальный. Точно. А что такое Я Идеальный?
- Мое представление о том, какой я должна быть, либо результат моего воспитания, либо то, какой меня желает видеть общество… Мы затрагивали разные аспекты…
- Хорошо! Все верно. Таким образом, если я хочу выйти из тупика, — а когда я осознаю, что оказался в порочном круге, скорее всего, мне захочется из него выбраться, — первым делом мне нужно избавиться от Я Идеального.
- Если я откажусь от мыслей, что должна представлять собой нечто определенное, останусь только Я Реальная.
- Точно. И если тебе не с чем будет себя сравнивать, не будет ощущения мнимой разницы, не будет поводов чего-то от себя требовать или критиковать. Тебе не придется напрягаться, чтобы стать тем, кем ты не являешься, и не возникнет депрессии из-за того, что это не выходит. Когда мы прекращаем мучить себя, наша самооценка растет. Самокритика снижается, человек становится доволен собой, вместо напряжения проявляется естественное желание делать свое дело все лучше и лучше. Разумеется, все это повышает мнение о самом себе, следовательно, я оказываюсь в более благоприятной атмосфере, и на поверхность выходит самое светлое из моих внутренних Я. Самый умный, самый трудолюбивый, самый правильный Хорхе, неотрывно следующий со Мной Реальным по пути личностного роста, благодаря кому я сделаюсь самым лучшим Хорхе, которым только могу стать, пусть и не таким, каким меня хотят видеть остальные.
- А что же делать с людьми, которые постоянно твердят нам о том, какими мы должны быть?
- Вопрос не в том, что делать с этими людьми, а в том, что делать с собой с учетом собственных желаний.
- Это понятно, но мнение окружающих меня тоже волнует…
- Ну а чем оно тебе мешает? В конце концов, у других людей тоже есть полное право быть теми, кто они есть: важными, авторитетными, назойливыми перфекционистами или даже параноиками. И у тебя, разумеется, есть право слушать их, терпеть, игнорировать или расставаться с ними.
- Но как поступать, если я устанавливаю определенные ограничения, а человек этого не понимает?
- Я думаю, надо установить их заново.
- А если и это не помогает?
- Попробуй объяснить как-то по-другому или попроси кого-нибудь помочь тебе донести до назойливого человека твои пожелания.
- Но ты должен признать: бывают ситуации, когда твои ограничения всё равно не воспринимают.
- Если человек продолжает нарушать твои границы даже после того, как ты все четко проговоришь, объяснишь, подождешь и исчерпаешь все варианты помощи извне, тебе остается лишь сделать ему символический подарок пачку «Стиморола». Тогда он точно поймет.
- Что поймет?
- Что он слишком назойлив.
- Но я сама не понимаю, при чем тут «Стиморол».
- Интересно, удастся ли мне тебя рассмешить, какая-то ты слишком серьезная. Это старая шутка, я всегда прибегаю к ней, когда мне задают подобные вопросы. Если после того, как я установил ограничения, повторил их тысячу раз и даже попросил кого-то объяснить тебе все за меня, ты так ничего и не поняла, тогда я даю тебе предупреждение в виде пачки «Стиморола»: тебе лучше жевать, чем говорить!
- Как здорово! Да, я знаю людей, которым жвачка не повредит.
- Вернемся к самооценке. Мы выяснили, что оценка не столько определение того, кем человек должен или не должен являться по собственному мнению, сколько признание его ценности. И эта ценность имеет слабое отношение к моим знаниям, умениям и способностям, она не зависит от того, чего ждет от меня супруга, чего от меня требуют друзья или общество, в котором я живу.
Итак. Для кого мы должны представлять ценность? Только для себя самих? А помимо этого имеем ли мы, среднестатистические жители планеты, существующие среди миллионов таких же людей, какую-нибудь ценность?
Хочу напомнить слова матери Терезы из Калькутты, крайне уместные в данной ситуации. На упрек: «Мать Тереза, в мире царит ужасающая нищета. С учетом числа людей, нуждающихся в помощи, то, чем ты занимаешься, бессмысленно. Твои действия ничего не изменят», — она ответила: «Верно: то, что я делаю, — это лишь капля в океане, но если бы я не занималась этим, в океане одной капли не хватало бы».
Действительно, ценность каждого человека для мира, в котором мы живем, сравнима лишь с капелькой в океане. Но эта капля необходима для того, чтобы океан был полон. Любой человек рано или поздно должен осознать свою ценность. А для этого ему придется кое-что сделать.
Начинать оценивать себя следует с качества, которым мы обладаем исключительно потому, что являемся самими собой. Ценить себя только за свое существование можно лишь в одном случае — если оставаться настоящим в любое время и в любой ситуации.
Способность быть настоящим тесно связана с умением принимать себя, то есть с умением личности отказаться от борьбы с собой в стремлении измениться в угоду другим людям. Как известно всем психологам, умение принимать себя необходимо для психического здоровья человека. Являться тем, кем себя хочешь видеть ты, а не окружающие, — это оптимальный способ бытия.
Еще раз напоминаю: обо всем изложенном выше надо забыть, когда речь идет о воспитании детей. Процесс воспитания другого человека занимает продолжительное время; мы, по сути, показываем ему путь. Мы объясняем ребенку, как следует поступать, а как не следует, расставляя на его пути многочисленные указатели. Понятно, что воспитывать ребенка, не ставя перед ним целей, не бросая вызов, не требуя от него усилий, очень сложно. Но, наверное, это возможно, если делать это не спеша.
Надо признать, что воспитание недемократично, но ничего страшного в этом нет. Опасность в другом: в ходе воспитания человек получает определенную установку, ему внушают, будто стать значимым можно, лишь представляя из себя что-то. Вот эту идею и надо искоренять. Чтобы являться действительно ценным человеком, надо быть только тем, кто ты есть, и больше никем.
- Это ценность изменения. Или, как ты говоришь, роста. Не надо становиться лучше. Нужно просто проявлять лучшее в себе, как ты только что сказал.
- Если изменения неизбежны, они пройдут успешно, лишь когда мы принимаем себя настоящего. Например, я не похудею, пока не признаю, что я толстый, пока не прекращу бороться со своим телом, так как процесс похудения требует бережного и нежного к нему отношения. Хотя это не означает, что только одного такого признания будет достаточно.
Как я уже говорил ранее, если человек собирается работать над собой, ему надо начинать с решения стать лучше, но ни в коем случае не следует заставлять себя меняться, думая, будто сейчас он ничего не стоит.
- То есть ты хочешь сказать, даже не нужно заставлять себя становиться лучше?
- Да.
- Ты сошел с ума…
- Да. Но я не уверен, что именно это подтверждает мое «безумие». У меня что-то щелкает в голове, когда я слышу фразы, начинающиеся с «я должен»: «должен научиться», «должен навестить мать», «должен сходить поужинать с кем-то»... Эти слова фальшивы... Я еще раз повторяю: я ничего не «должен». Когда речь идет о моем желании, моей выгоде или прихоти, тогда да, я это сделаю, но именно потому, что это я так решил. Я, несомненно, хочу сделаться лучше, но не из-за того, что сейчас ощущаю себя никуда не годным. Нет, просто при этом я чувствую себя лучше, а это не отменяет того, что как личность я могу вырасти еще. Постоянно становиться лучше — значит ощущать себя хорошо не только в будущем, но и сейчас, а не придерживаться тактики «Сегодня я плохой, а завтра стану хорошим». Правильный личностный рост никогда не начинается с самокритики и недооценки самого себя. Ведь только приняв себя, я стану настоящим, а значит, полностью свободным.
- Мне интересно, существует ли такая абсолютная свобода?
- Хорошо, что ты задала этот вопрос, поскольку тема свободы приводит нас ко второму компоненту, составляющему самооценку, независимости. О ее значении можно рассуждать целый день. Независимость, о которой мы говорим, имеет отношение не столько к свободе действий, сколько к выбору правил и норм, определяющих наши решения. Независимые, свободные люди сами для себя решают, что хорошо, а что плохо, но не бессистемно, а оценивая действия и их последствия по собственной шкале ценностей.
- Это напомнило мне одну подругу. Рассказывая мне о своих делах, она непременно задает вопрос: «Я поступила так-то — хорошо это или плохо?» Или еще хуже: «Я хочу поступить так-то. Что скажешь?» Думаю, она ждет советов не только от меня. Наверняка она, даже бывая на рынке, рассказывает всем о семейных неурядицах и спрашивает, стоит ли ей расстаться с мужем или нет.
- Да уж, представляю себе, возвращается она домой и подсчитывает результаты опроса: «Двадцать восемь человек сказали “да", двенадцать — “нет", значит, разведусь». Потешно! Действительно, независимость — это всё с точностью наоборот. Независимый человек сам принимает решения в соответствии с собственными моралью и принципами. И, подчеркну еще раз, речь идет только о взрослых людях.
- Что тому нас дальше?
- Ограничение. В этом слове соединяются два значения: граница, определяющая твое личное пространство, и вытекающее из первого значения понятие соседства. Таким образом, в этом компоненте самооценки совмещаются желание определить собственное место и готовность установить отношения с другими. Возможно, границы необходимы для того, чтобы почувствовать себя ценным человеком. Я должен установить границы своего личного пространства и защищать их — реально существующие (свою комнату, ящик стола, свой кошелек) и виртуальные (эмоции, идеологию, историю) места, принадлежащие мне. Это мое пространство, и я готов его разделить только с кем хочу и когда хочу. Другой человек может предпринимать что угодно по поводу моих решений: высказывать свое мнение, задавать вопросы, оспаривать и даже действовать вопреки моей воле. Мое же дело — дать человеку понять, что в мое личное пространство можно проникать, только когда я разрешу, до того предела, какой я установил и который допускаю, потому что это — мое пространство.
- Мне кажется, это применимо для чужих людей, но не для тех, кого мы любим.
- Я могу понять, почему ты так говоришь, но не согласен. Умение устанавливать границы особенно важно в общении именно с теми людьми, которых люди даже и не думают вторгаться в мое личное пространство. А близкие часто посягают на мою личную свободу, зачастую даже не отдавая себе в этом отчета. Как я уже писал в «Письмах Клаудии», границы разделяют, но в то же время именно они нас связывают.
- Не понимаю. Значит, если мой друг, который чистосердечно хочет помочь, дает мне ненужный совет, то я должна рявкнуть на него: «Не лезь не в свое дело, твоего мнения никто не спрашивал»?
- Чтобы обозначить свои личные границы, нет абсолютно никакой необходимости проявлять агрессию. Не надо ни кричать, ни выходить из себя. Более того, можно сказать все очень деликатно, даже вежливо: «Спасибо, я очень ценю твои намерения и благодарна тебе за все, но, честно говоря, сейчас мне этот вопрос обсуждать не хочется». С другой стороны, в твоих словах легко уловить следующую мысль: если кем-то движут добрые побуждения, то для него жизнь другого человека может быть проходным двором. Я так не считаю. В любом случае, мнение, высказанное с уважением к твоей позиции, не считается особым вторжением.
Некоторые люди просто не умеют устанавливать границы деликатно. Они терпят чужое вторжение, терпят, терпят... Когда терпение кончается, они злятся, взрываются и пробуют разорвать отношения. Они просто не верят, что имеют право самостоятельно очертить личное пространство, и пытаются, повышая голос, скрыть от себя и других свою неуверенность.
Как видишь, все это в первую очередь связано с самоуважением и лишь потом — со способностью внушать уважение окружающим, особенно тем, кто нас сильно любит. Обоюдное уважение личного пространства друг друга — это уже почти любовь.
- Ясно. Двигаемся дальше.
- Как правило, из-за следующего компонента возникает довольно много конфликтов — многие часто замечают в нем отрицательный оттенок. Тем не менее, в хорошем смысле это очень сильное свойство. Я говорю о гордости. Чтобы поддерживать самооценку, необходимо гордиться и быть по-настоящему довольным собой... Правильная самооценка подразумевает способность не только принять все свои достоинства и недостатки, но и гордиться их сочетанием в себе.
Я повторяю, недостаточно думать, что в тебе просто не все хорошо, необходимо гордиться собой в целом, без исключений. Это сочетание достоинств и недостатков и образует мою личность, я горжусь этим и продолжаю работать над собой.
- И последнее...
- Это способность Принимать. Неотъемлемая часть самооценки — это умение существовать, принимая все полезное, что дарует нам жизнь. Человек с нормальной самооценкой считает себя достойным всего хорошего, происходящего с ним. Он охотно получает подарки, похвалу, ласку, внимание и, что самое главное, признание окружающих его людей.
Есть одна старинная английская легенда.
Когда-то давно некий король захотел оставить свой след в истории. Он собрал во дворце множество великих мудрецов со всего света и попросил их написать книгу о том, что они считают наиболее важным в жизни. Эту книгу король намеревался оставить потомкам в память о себе.
Мудрецы неустанно работали над книгой много месяцев. Наконец они вручили королю плод своих трудов — 140 томов по 500 страниц в каждом, в которых было описано все, что, по мнению мудрецов, человек должен знать об этом мире.
Король сказал:
Нет-нет. Разумеется, вы проделали серьезную работу, но книга слишком велика. Никто не прочтет ее целиком. Ее надо сократить. Оставьте только самое основное.
Мудрецы еще год работали над книгой, после чего преподнесли королю единственный том, все страницы которого были исписаны мелкими непонятными буквами.
Нет, — снова сказал король, — знание должно быть доступно всем людям, а не только посвященным.
Следующего варианта книги королю пришлось ждать еще два года. Наконец мудрецы вновь пришли к нему.
Вот, — произнес самый старый ученый, — кратчайшее изложение всего, что человек должен знать о мире.
И он подал королю единственный листок бумаги, на котором была написана всего одна фраза:
«Бесплатной пищи не бывает».
Я о том, что ничего даром не достается. Более того, платить почти всегда приходится вперед. Если у тебя хорошая самооценка, ты можешь воспринимать в качестве пищи все, что предлагает тебе мир, так как знаешь: все принадлежит тебе, ведь ты заработал это, иногда даже не подозревая как.
Итак, иметь нормальную самооценку — значит быть настоящим, оставаться независимым, уметь определять свои границы, гордиться собой и, наконец, открыто принимать от мира то, что ты заслужил.
Способность быть настоящим
Независимость
Умение ограничивать
Гордость
Способность принимать
У меня ощущение, что еще не все, так?
- Да. Я думаю, самооценка формируется, пока человек маленький, а как ты сказал, ребенок зависит от других и очень восприимчив к внушению…
- Все обстоит именно так. Наша самооценка формируется на основе отношений с другими людьми, начиная с родителей. И поэтому самый надежный способ приобрести здравую самооценку — родиться в «правильной» семье. К сожалению, это вопрос удачи. Представь себе, некоторые считают, что человек выбирает себе будущих родителей еще в предыдущей жизни. Но я в это не верю. Родители, которые нам достаются, — образованные, невежественные, поглупее, поумнее, получше, похуже — это жребий, и нам предстоит с этим жить. Разумеется, в любой семье можно что-нибудь узнать, хотя бы то, что не надо делать. Как я всегда говорю своему сыну: «Тебе многому предстоит научиться, в том числе и у меня. Например, если что-то во мне тебе не нравится, ты можешь проследить, как бы этот же недостаток не появился у тебя». Это тоже часть обучения.
Как я уже отмечал, если родители относились ко мне с должным вниманием, предоставляли определенную независимость и уважали мое личное пространство, если они гордились мной и сумели уверить, что я заслуживаю их любви, если я не ощущаю вину, получая что-либо в дар, тогда я достаточно легко почувствую себя ценным человеком. Главным образом мы учимся ценить себя в отчем доме. Но не только. В любом случае повышение самооценки зависит только от нас.
- Но ведь наступает возраст, когда, наверное, уже нельзя измениться…
- В возрасте нельзя переменить лишь некоторые вещи. По моему мнению, к началу взрослой жизни личность человека в основном сформирована, но небольшие изменения возможны. Хотя, вероятно, ты разговариваешь с психотерапевтом, который не прав...
- Нет, не в этом дело. Мне порой кажется, что счастливой я себя чувствую, лишь меняясь…
- Это отдельный вопрос. Повторяю, я считаю, что наступает момент, когда личность кристаллизуется...
- Когда же это случается? Хотя бы приблизительно?
- В нашей западной культуре, в условиях мирной городской жизни, это происходит примерно в двадцать пять — двадцать шесть лет. Что потом? Получается, если я лентяй, то так и останусь им до конца жизни? Да нет, ведь леность не является частью моей натуры, она всего лишь один из способов проявить себя, а такие способы — любой из них — могут преобразовываться бесконечно. Ведь они в конечном итоге всего лишь привычки, продукт воспитания, и их возможно изменить, приобретя другие, более здравые навыки. С возрастом, несомненно, это сделать все труднее и труднее. В качестве доказательства выполним простое упражнение, которое займет всего секунд тридцать.
- Давай. Что надо делать?
- Сцепи, пожалуйста, пальцы рук. Обрати внимание, что большой палец одной руки находится поверх большого пальца другой. У некоторых — правый, у других — левый. Смотри — у тебя вверху левый, а у меня правый. Видишь?
- Да.
- Отлично. Теперь отпусти руки. Как только я досчитаю до трех, снова быстро сцепи пальцы, только наоборот, чтобы наверху оказался другой палец
Раз, два, три!
Видишь, что получилось? Сцепить пальцы не так как привык, сложно! Почему? Точных объяснений не существует, это не зависит от анатомии, это всего лишь привычка. И тем не менее ее очень трудно изменить.
Предлагаю еще одно упражнение. Скрести руки на груди. Снова одна рука расположена поверх другой. Так. А теперь попробуй скрестить их наоборот...
Как я вижу, тебе смешно. Что происходит?
- Я понимаю: это нелепо… Но так почти невозможно сделать. Нужно концентрироваться, а это занимает много времени.
- К тому же держать руки в таком положении жутко неудобно.
- Действительно, весьма неудобно.
- Это всего лишь дело привычки. Начать скрещивать руки по-другому сложно, а представь себе, насколько трудно перестать принимать душ в определенное время, поменять кулинарные пристрастия, стиль одежды, манеру говорить, походку, способы выражения гнева и любви!..
- Да уж…
- В то же время напоминаю тебе: то, что сделать сложно, более достижимо, чем то, что сделать невозможно. От неприятной привычки можно избавиться в любое время, по крайней мере пока у тебя остается хоть минута жизни. Но свою натуру, как мы уже говорили, поменять нельзя.
Для человека важно не то, сумеет ли он, например, перестать быть меланхоликом, использующим в качестве психологической защиты истерические выпады, а то, готов ли он изменить свое поведение, отношение к окружающим и миру. Разумеется, все зависит от его желания это сделать.
- Мне кажется, ты всего лишь упражняешься в словесной эквилибристике.
- Ты думаешь?. Ну да... Тем не менее я предпочитаю рассуждать именно так, а не верить в запутанную теорию, будто моя личность сформировалась в результате произошедшего со мной в глубоком детстве. Лучше моя «словесная эквилибристика», чем заявления, что на меня влияет бессознательное, всецело определяющее мои поступки и не оставляющее за мной свободы принимать решения, и фальшивая уверенность, будто я нахожусь в руках людей, знающих обо мне больше меня самого. Мне сильнее нравится теория, гласящая, что любой может измениться, нужно только поработать над собой.
Следует остерегаться доводов, которые мы часто используем в качестве оправдания своей инертности: «Ну что же, я таким родился...» Или попыток прикрыться трудным детством и плохими родителями.
- Но я вернусь к волнующему меня вопросу… Если родители не научили меня ценить себя, я потерянный человек?
- Поскольку самооценка зависит в первую очередь от отношения родителей к нам, то иногда может показаться, будто мы действительно упустили время. На самом деле это не так. Большая часть обитателей нашего несколько потерянного мира не получала от родителей нужного внимания, их недостаточно ценили, не гордились ими, ограничивали свободу. Чаще всего это связано с тем, что родители делали вещи, которые на тот момент казались им важнее. Я говорю это без иронии. Как правило, родители занимаются поиском денег, чтобы прокормить детей, заплатить за их обучение, обеспечить жильем. Именно по этой причине детям не хватает внимания. Но — и это очень важный момент — если до человека хотя бы доходит важность повышения самооценки, он способен научиться ценить себя в любой период своей жизни, а не только в раннем детстве. Более того, не стоит видеть в этом проблему — ничего страшного тут нет, жаль лишь потерянного времени. Чтобы почувствовать себя ценным, нужным и независимым, взрослому человеку достаточно найти среду, в которой он сможет приобрести и развить ощущение собственной значимости.
- Знаешь, о чем я думаю? Жить в семье, где ты этого не получаешь, довольно тяжело.
- Да, так и есть. Но недостаток внимания можно компенсировать в различных группах: в кружке любителей литературы, в обществе наблюдателей за птицами, в альпинистских партиях... Не важно, по какой причине люди собираются, но если сложился действительно настоящий коллектив, он заметно поддерживает. Его члены получают одобрение и независимость, учатся определять границы, отличающие их от остального мира и одновременно объединяющие с ним. Сплоченная группа дает своим участникам повод для совместной гордости, уважения и взаимного признания. Именно по этой причине для человека так важна семья. Ведь семья — это группа, к которой он принадлежит.
- Меня это тревожит. Я думаю о своих сыновьях, о наших проблемах. Мне кажется, сегодня семья утрачивает свою значимость как группа.
- Многие из нас принадлежат к поколению, чьи родители часто говорили: «Быстро замолчи!» Сегодня ситуация изменилась. Разумеется, если я сейчас скажу такое моему сыну, он ответит: «С чего бы это?» Более того, если я буду настаивать на своем, он станет дерзить: «Да замолчи сам!» Хорошо это или плохо, но все мы, кому сейчас от тридцати пяти до шестидесяти лет, в одном поступаем одинаково. Мы пытаемся дать своим детям то, чего не получили от наших родителей: возможность бунтовать. Мы воспитываем это в них. Я никак не пойму, почему нас удивляет, что наследники больше с нами не считаются. Мы сами научили их сопротивлению — и это правильно. Разумеется, наши дети могут пойти против нас. Но все же именно умение бунтовать спасет их от последствий наших ошибок, поможет выжить в сложном мире, который мы оставляем им, а в конечном итоге защитит их от нас. Наши дети смогут избежать того родительского воздействия, которому подверглись мы. Им не передадутся наши переживания, как они передавались еще одно-два поколения назад. Моему отцу приходилось страдать от того, как обходилась с ним моя бабка. Он не мог выступать против нее, но сам начал учить меня бунтовать. И теперь я продолжаю учить этому своих детей. Вот так все и передается. И, к счастью, это спасет моих детей от меня.
- Чтобы дети стали ценить себя, достаточно научить их бунтовать?
- Разумеется, нет. Семья — это трамплин, с которого ребенок прыгает во взрослую жизнь. Если трамплин не упруг, хорошего прыжка не получится. Если трамплин сломан, прыгая с него, можно свернуть шею. Одной из опор такого трамплина служит уровень самооценки, впитанный ребенком в семье. Понятно, что человеку, которого в детстве не очень ценили, в жизни будет сложнее.
- Твои слова заставляют меня почувствовать свою ответственность и осознать значение, которое для данного вопроса имеет семья. Поэтому прошу тебя поконкретнее объяснить, как научить ребенка ценить себя. Из чего складывается эта опора трамплина?
- Существуют два механизма воспитания самооценки в детях. Первый, классический, заключается в том, что родители, понимающие важность самооценки, дают ребенку внимание и заботу, которые, как мы говорили, создают ощущение собственной значимости.
Второй механизм более тонкий, но он оказывает не меньшее воздействие, чем первый. Его можно назвать имитацией, и зависит он от уровня самооценки самих родителей. Высокая самооценка, скорее всего, возникнет у меня, если меня будет ценить человек, трезво относящийся к себе. Так что лучший способ научить ребенка ценить себя — поднять собственную самооценку. Но обрати внимание: обмануть ребенка не просто. Известно, что 75 процентов информации человек усваивает на невербальном уровне, поэтому дети в большей степени замечают наши действия, а не то, что мы им говорим.
- Я полагаю, это условие должно выполняться, даже если я стану искать среду для повышения самооценки на стороне?
- Определенно. Зачем надо, чтобы меня ценил кто- то, кого я не уважаю, или тот, кто сам плохо относится к себе?
Всегда, когда речь заходит на эту тему, я вспоминаю одну сказку. Я редко рассказываю ее на публике, потому что она довольно жестокая. Вот и сегодня, разговаривая с тобой, я се вспомнил, но на этот раз решил все же поделиться. История эта доказывает, что всегда нужно быть готовым платить за свои поступки, а также превосходно иллюстрирует, как сильно влияют на нашу жизнь отношения с родителями.
В далеком селе жил когда-то один человек, ему только недавно исполнилось шестьдесят лет, но он уже совсем одряхлел и не мог ничего делать, даже следить за собой. Его жена умерла, когда рожала последнего ребенка, три старших сына завели свое хозяйство, за отцом долгое время ухаживал младший сын, но в один прекрасный день и он женился.
Сразу после этого четыре брата встретились и стали думать, что же делать с их немощным отцом. Никто из братьев не мог взять его в свой дом, а денег для найма человека, который стал бы ходить за стариком, они не имели. Они долго спорили и наконец решили заботиться об отце по очереди.
Приняв решение, сыновья, сменяя друг друга, стали ухаживать за отцом, но вскоре поняли, какое это хлопотное и дорогое дело. Сначала одному, потом другому брату начали закрадываться в голову мысли, что старик зажился на этом свете.
Сыновья жалели отца, но сил ходить за ним у них не осталось. Тогда братья вновь собрались и решили, что зимой, когда ударят первые морозы, они заведут отца в лес и оставят его там, а холод и волки сделают остальное...
Когда землю засыпало первым снегом, братья пришли в дом старика.
- Собирайся, отец, пойдем с нами.
- Сейчас? На улице же снег! — удивился отец, но подчинился.
Оказавшись в лесу, братья стали выбирать место, где можно было бы бросить отца, чтобы он не смог найти дороги домой. Они заходили все дальше и дальше и наконец вышли на большую лесную поляну.
Вдруг старик замер и сказал:
- Здесь.
- Что здесь? — удивились сыновья.
Но старик словно не слышал их, а только повторял:
- Да, именно здесь. На этом самом месте.
- Что это за место, отец? О чем ты говоришь? — спросил отца старший сын.
И старик ответил:
- Почти двадцать пять лет назад я бросил здесь своего отца.
- Я сейчас расплачусь… Очень жестоко. Понимаю, почему ты ее не рассказываешь.
- К счастью или к несчастью, в этом определяющая сила воспитания. Как правило, мы относимся к родителям так, как они нас научили, как они относились к своим родителям и каким образом наши дети будут относиться к нам.
Когда дети видят, что мы любим своих родителей, заботимся о них и поддерживаем их, они и сами в будущем станут так делать. Но если я постоянно повторяю: «Когда же наконец умрет мой старый отец?» — в один прекрасный день и мой сын задумает бросить меня в лесу. Подобным образом проходят и остальные уроки воспитания. Если я твержу, не переставая, что ненавижу работу, жизнь ужасна, а я ничего не стою, если моя самооценка низка, как же я смогу научить своего сына (сына человека, ни во что себя не ставящего) ценить себя? Только тот, кто ценит себя, способен передать это умение своим детям.
То же самое происходит, когда самооценку приходится повышать взрослому человеку. Лучше всего это получается среди людей, которые гордятся собой и умеют управлять своей жизнью.
- Твои слова важны, и я согласна почти со всем. Но ты ничего не сказал о любви к себе. Как же так?
- Да, верно, если мы вновь вспомним компоненты самооценки, то заметим, что любви к себе среди них нет. Я считаю самооценку чрезвычайно значимой, она один из столпов психического здоровья. А любовь к самому себе — это близкое качество, но другое.
- У меня есть сомнения относительно твоих составляющих хорошей самооценки. По поводу слова «гордость». Тебе не кажется, что гордость скорее недостаток?
- Все зависит от твоей позиции. Потому я и оговорился, что это сложное понятие. Но лично я достаточно горд тем, что я такой, какой есть.
- Разве это не тщеславно?
- А разве это можно назвать тщеславием? Тщеславие — это уверенность в том, что я лучше тебя и всех остальных.
В Мексике мне рассказали один анекдот об аргентинцах в Испании.
Некий профессор, читая лекцию, заметил:
- Тщеславие... это маленький аргентинец, который живет внутри каждого из нас...
Тут со второго ряда поднялся мужчина:
- Можно вопрос?
Профессор кивнул, и мужчина сказал:
- Я аргентинец. Почему это я маленький?
- Ну да, об этом и речь. Разве тщеславие не является результатом чрезмерно раздутого эго? Разве гордость не антоним скромности?
- Наверное, это зависит от того, кого ты назовешь гордым. В моем понимании гордиться собой — не значит заливать другим о собственной важности, а говорить это самому себе, шепотом.
- Я всегда считала, что быть скромным лучше, чем гордиться собой.
- Ты продолжаешь упорствовать... Скромность — это противоположность тщеславию. Но тщеславие не эквивалент гордости. Радость, которую испытывает отец, когда его сын с отличием заканчивает университет, — это настоящая гордость. Но если он начинает кичиться этим перед друзьями — тщеславие.
- Я понимаю. Не надо думать, будто до меня ничего не доходит, но все равно это слово не дает мне покоя.
- Ну тогда назови это ощущение, как тебе нравится. Понимаешь, для меня, грубо говоря, мочиться под себя — значит мочиться под себя. Если кто-то предпочитает называть это энурезом, потому что так звучит деликатнее, — да пожалуйста. Так и здесь. Если тебе не нравится слово «гордость», используй какое-нибудь другое!
Главное — помнить: важно именно гордиться своей жизнью, а не просто быть ею довольным. Я никогда не забуду того ощущения гордости, которое возникло у меня, когда мои дети, Демиан и Клаудия, наперебой рассказывали нам с женой, как понравилось их друзьям гостить у нас. Они то и дело повторяли возгласы приятелей: «Ого, какой красивый дом! Какая у тебя красивая мама! Все было так вкусно!» Мы с женой были тогда чрезвычайно горды, ведь ту атмосферу в доме, которую мы создали и старались поддерживать, заметили не только наши близкие, но и люди со стороны.
- Самооценка сильно связана с личными достижениями и гордостью?
- Да. Но она не должна зависеть исключительно от достижений.
- М-м-м… Не знаю.
- Это мое мнение, можешь не соглашаться.
Послушай. Если мы и дальше будем встречаться и беседовать, я хотел бы кое-что прояснить. То, о чем я говорю, всегда лежит в основе моего мировоззрения. Да, я часто настаиваю на своем, иногда бываю даже резок, но не позволяй себя обманывать. Это лишь одна из многих точек зрения, только мое мнение. Если человеку приходится много беседовать с другими, со временем он начинает говорить по-настоящему убедительно. Но это не значит, что он прав. Заметь: темы, которые я поднимаю в беседе, важны для меня, и именно поэтому я к ним обращаюсь.
Однажды из уст одного аргентинского юмориста, Луиса Ландризины, я услышал историю, которая отлично иллюстрирует эту идею.
В пампасах Аргентины один гаучо пил мате, сидя у дверей своего скромного жилища. Вдруг рядом с ним остановился роскошный автомобиль, огромный и, разумеется, ужасно дорогой. Из него вышел изящно одетый сеньор и обратился к гаучо:
- Скажите мне, добрый человек, где находится ранчо «Петух»?
Тот отпил мате и принялся размышлять вслух:
- «Петух»? «Петух»... «Петух»... Слушайте, я так редко выхожу, что... «Петух»... Не могу сказать.
- Это должно быть рядом. Мне сказали, что на двести пятнадцатом километре нужно свернуть с шоссе направо и по грунтовой дороге ехать в течение двадцати минут до тропы. Именно там я его и найду. После поворота я ехал минут пятнадцать, и ранчо должно быть где-то неподалеку.
- «Петух»? Не-е-ет... «Петуха» тут нет... Я так редко выхожу, что даже не могу подсказать...
- Послушайте, вы должны знать. Это ранчо Родригеса Альгасы, самого крупного депутата конгресса.
- Родригес Альгаса? «Петух»? Не-е-ет, такого тут нет. Депутат? Не знаю такого.
- А по соседству у кого тут можно спросить?
- Нет, тут никого нет, я живу на отшибе... Соседи? Нет, я никого здесь никогда не видел. Я, по правде говоря, так редко выхожу, а близких соседей у меня нет. Вы сказали: «Петух»?
- Да, Родригес Альгаса, депутат.
- Нет, тут такого нет... Не могу ничего подсказать.
- Ладно, не волнуйтесь. А не знаете, где поблизости находится заправка?
- Заправка? Вы про... такое место, где бензин в тракторы заливают?
- Да, заправка.
- Ну, не знаю... Заправка, поблизости... Понимаете, у меня трактора-то нет. Заправки поблизости нет... Вы говорили, что ищете моего соседа? Нет, тут никого нет... Родригес Альгаса? «Петух»? Не знаю, что сказать, понимаете, я никуда не хожу.
- Ладно, не волнуйтесь. Расскажите тогда, как добраться до какого-нибудь поселка, я спрошу там.
- До поселка?
- Ну да, до поселка.
- Вы про... такое место, где дома...
- Поселок!
- М-м-м... Не могу сказать, я так редко выхожу... Я однажды ездил в поселок, когда был совсем маленьким, с отцом. Мне было лет пять-шесть, он отвез меня куда-то, где стояло много домов, и площадь, и... Но я не могу сказать, где он находился, я ведь почти не выхожу, понимаете? Вы сказали: «Петух»? Родригес Альгаса? Заправка? Сосед? Вообще-то тут их нет...
- Ладно, хорошо, вы мне помочь не сможете. Я сам попробую разобраться. Скажите мне, как вернуться к шоссе.
- Шоссе?
- Ну да! Господи... Не может такого быть! Я спрашиваю про Родригеса Альгасу, вы его не знаете! «Петуха» не знаете! Не знаете, где ближайший сосед! Не знаете, где заправка! Не знаете даже, как добраться до поселка! А теперь я спросил про шоссе, вы и этого не знаете! Вы невежда, вы дебил, вы ни черта не помните, вы идиот!
Гаучо выслушал крики сеньора и спокойно ответил:
- Возможно, я действительно такой, как вы сказали, но вообще-то тут только один человек заблудился, и это вы...
Это справедливо во всех отношениях. Ориентиры, нужные человеку, чтобы он не чувствовал себя потерянным, имеют смысл только для него, а для остальных — не всегда. Таким образом, я хочу еще раз подчеркнуть: то, что важным считаю я, не обязательно будет иметь значение для кого-то другого.
Мне кажется — по моему скромному опыту, — что люди, которые могут гордиться собой только за какие- то достижения, находятся на середине пути. Нынче очень популярна идея, что на высокую самооценку имеет право лишь тот, кто заработал больше миллиона евро, занимает высокий пост или обладает популярностью. Но это не так.
Не следует забывать, что успех человека измеряется в конце его пути. Сам же путь состоит из возможностей.
Добиться успеха, как сказано у одного английского философа, означает умереть там, где выберешь сам, в окружении людей, которых хочешь видеть. И не более того.
Считать, будто ценить себя можно, только достигнув какого-то рубежа, накопив определенную сумму денег, связав себя узами брака с нужным человеком, нарожав предусмотренное обществом количество детей и живя там, где хочется, — неверно.
- Да еще и опасно.
- Точно. Если бы умение человека гордиться собой зависело только от его успеха, тогда самооценка была бы фикцией. Ведь очевидно, что подобные достижения по большей части лишь тешат самолюбие, и в таком случае все приобретенное человеком — это признак тщеславия. В связи с этим я хочу сказать две вещи. Во-первых, вспомнить слова суфиев. С твоего позволения, я процитирую:
«Ты владеешь только тем, чего не можешь потерять при крушении».
А во-вторых, хочу рассказать еврейскую сказку, одну из тех, что у них по традиции передаются из поколения в поколение.
Один человек приехал из дальнего села за советом к известному раввину. Он зашел в дом раввина и с удивлением заметил, что у того нет мебели, кроме тюфяка, лежащего на земляном полу, двух кресел, одного жалкого стула и свечи. В остальном комната была совершенно пуста.
Человек задал вопрос, с которым приехал, получил на него по-настоящему мудрый ответ и направился к выходу. Но, удивленный скудностью обстановки, прежде чем уйти, он спросил:
- Где вся ваша мебель?
- А ваша? — поинтересовался в свою очередь раввин.
- Что значит, где моя? Я тут временно, — удивился человек.
На что раввин ответил:
- Я тут тоже временно.
Так вот, следует понимать: наше существование временно. Идея о том, что самооценка базируется исключительно на достижениях и привязана к материальной собственности, возникла благодаря современной культуре потребления. Но это неверно. Нет необходимости представлять из себя что-то определенное, не стоит гнаться за ценностями, которые кто-то извне определяет как «жизненно необходимые». Нужно просто быть, а это совершенно другое дело.
- Иногда случаются такие моменты, какие-то каждодневные мелочи, которые могут расцениваться как крошечные достижения.
- Согласен. Я называю это умением ценить мелочи, которые тебя окружают. Умение ценить то, что у тебя есть, что находится вокруг тебя, — очень хорошо, но в первую очередь нужно ценить то, кем являешься ты сам.
- Но в меру, да? Если перестараться, это может стать опасно…
- Ты намекаешь на эгоизм?
- Да.
- Ты подняла тему эгоизма, поэтому я задам тебе вопрос. Когда один человек называет другого эгоистом, что он хочет этим сказать?
- Что тот думает только о самом себе. Он никого не любит.
- А еще?
- Что никому не сопереживает.
- Прошу, продолжай.
- Он равнодушный.
- Хорошо...
- Считает, будто мир вращается вокруг него, и не способен поставить себя на место другого человека.
- Что-нибудь еще?
- Это понятие — антоним альтруизма.
- Это все?
- Эгоист бесчувственный. Ему недостает скромности!
- И последнее?
- Он любит только себя.
- Отлично. Когда человек хочет определить какое- то понятие, он в первую очередь выявляет все входящее в это понятие и исключает то, что к нему не относится. В противном случае точного определения не получится. Определять, как следует из самого слова, означает устанавливать пределы.
Например, у меня есть стол со спинкой, он немного низковат, и его, как правило, ставят рядом с другим столом... Я могу называть это столом, но на самом деле это стул. Согласна? Стол в форме стула — это стул, а не стол.
Таким образом можно рассмотреть все другие слова.
На мой взгляд, важно отметить, что бесчувственный человек не обязательно эгоист, он просто бесчувственный. Эгоист может быть бесчувственным, но это не единственная составляющая эгоизма.
- Ну ведь эгоисты часто бывают бесчувственными.
- Разумеется. Но у эгоистов иногда бывает и плоскостопие. Я хочу сказать, что эти слова не синонимичны и одной бесчувственности недостаточно, чтобы назвать человека эгоистом.
- А кто такой эгоист? Я где-то слышала, что эгоист — это человек, считающий, будто весь мир вращается вокруг него.
- Это эгоцентрист. Эгоист — это эгоцентрист, эгоцентрист — эгоист? Пока не знаю. Попозже посмотрим, так ли это. Человек, думающий, что все в мире зависит от него самого, по крайней мере с формальной точки зрения, не эгоист, а солипсист. А те, кто не разделяет его идею, — жалкие люди. Я не совсем уверен, что они эгоисты.
Всё, что ты назвала, — это определения жалких, жадных, бесчувственных людей, психопатов и, как мы увидим позднее, самовлюбленных типов... Пожалуй, больше всего я согласен с твоим вариантом «антоним альтруизма». В конце беседы мы рассмотрим, что же под этим подразумевается. Возвращаясь к нашему вопросу, говоря об эгоизме, исследуем значение этого слова, так же как мы поступали с «самооценкой».
Посмотри-ка... Слово «эгоизм» состоит из частей «эго-» и «-изм». Что такое «эго»?
- Я.
Ясно, «эго» значит «я». А «изм»?
- Доктрина.
- Может быть, но тут подразумевается кое-что еще. Ты не замечаешь?
- Это увеличительный аффикс.
- Разумеется, но что он увеличивает?
- Оценку.
- Хорошо. Завышенная оценка, ценность... И при этом степень моего интереса к определяемому объекту. На самом деле суффикс «-изм» означает сильную склонность или предпочтение.
- И это всегда плохо.
- Плохо? Буддизм — это плохо?
- Не знаю.
- Кубизм, патриотизм, позитивизм. Все эти -измы плохие?
- Теперь мне уже так не кажется.
- Не все это плохо. Почему? Плохой может быть склонность человека к определяемому понятию, но не само слово по себе. Значит, это не обязательно отрицательное понятие, а только горячая преданность чему-либо или кому-либо. Буддист — человек, который предпочитает все, что связано с жизнью Будды и его религией.
Суффикс «-изм» обозначает привязанность, часто даже любовь к предмету, выраженному словом, к которому добавляется этот суффикс. Буддизм — это привязанность и любовь ко всему, связанному с Буддой; иудаизм — ко всему, что связано с еврейской культурой; марксизм — предпочтение марксистской идеологии всем остальным путям развития общества; терроризм — склонность добиваться своих целей путем террора; пацифизм — привязанность к мирной жизни и так далее.
Следовательно, этимологически эгоизм — это привязанность к Я, любовь к себе, возможно, чрезмерно сильная. И что в этом плохого? Разве плохо очень любить себя?
Некоторые считают, у того, кто сильно любит себя, в душе не остается места другим. Я обожаю подобные заявления, ведь после них очень просто доказать, что все на самом деле не так...
На самом деле мысль, что человек, сильно любящий себя, не может любить остальных, — неверна. В нашем обществе эта идея считается очень толковой, будто у людей есть какое-то ограниченное количество любви. Если согласиться с данной теорией, то получится, будто у одного человека, например, имеется 11,28 международных единиц любви, и всю ее он тратит на себя, поэтому уже не способен любить других. Сколько у человека любви? Какой объем? Кто его высчитал?
Разве, когда у нас рождается второй ребенок, мы перестаем любить первого, чтобы маленькому тоже досталось любви? Откуда берется любовь ко второму ребенку, к новым друзьям? Разве если я сильно люблю свою жену, то вообще больше никого на свете не смогу полюбить? Это ведь не так.
К счастью, наша способность любить не имеет подобных ограничений. Не доказано, что человек перестает любить других, если сильно любит самого себя. Он может не любить других, так как не способен на эмоции или испытывает боль, но не потому, что он эгоист. Мы можем лишь поразмышлять, почему другие люди не вызывают никаких эмоций у такого человека.
Ты сказала, что гордость может быть опасна. А мне настоящая опасность видится в том, что людей — и особенно детей — заставляют верить, будто человек, слишком любящий себя, не в силах хорошо относиться к другим. Это ложный посыл, на самом деле все точно наоборот. Любить других можно, только полюбив самого себя. Человек, который не любит себя, не в состоянии полюбить никого другого.
Если человек говорит, что он любит людей, но при том плохо относится к себе, — это ложь. Либо первая, либо вторая часть фразы — неправда.
Принимая во внимание все сказанное раньше, я предлагаю тебе следующее определение эгоиста: эгоист — это человек, который предпочитает себя всем остальным.
- Всегда?
- Да, почти всегда.
- За исключением его детей.
- Совершенно верно. За исключением его детей. Существует множество книг по психологии, где описывается, как вести себя с другими людьми, и такое же огромное количество книг, в которых говорится об отношениях между родителями и детьми. Что любопытно — в книгах второго типа делается множество заявлений, противоречащих тому, что написано в книгах первого, но авторы как тех, так и других книг в какой-то мере правы. Сегодня мы не станем концентрироваться на отношениях родителей с детьми, хотя, возможно, поговорим об этом в следующий раз.
Хочу сказать, что родители обычно не рассматривают детей как нечто отдельное от них самих. Предвкушая твой вопрос, объясню сразу. Наши дети — особенные, они для нас единственные и чудесные, но к нам они подобным образом не относятся.
- Почему?
- Если быть кратким — потому, что они ЯВЛЯЮТСЯ продолжением нас, а мы их продолжением не являемся. Кроме того, мы начинаем их любить еще до их появления, а для них полюбить нас — целая задача. Ясно только то, что наши дети также способны на безусловную любовь, которую мы к ним испытываем, но не по отношению к нам, а по отношению к собственным детям. Это передается сверху вниз, а не снизу вверх; это необратимо.
Но сейчас мы ограничимся отношениями со всеми окружающими нас, а не только с этой исключительной группой. Я еще раз хочу подчеркнуть: эгоист является таковым не потому, что сильно себя любит. Иногда мне хочется напечатать множество постеров и расклеить их повсюду:
ЭГОИСТ —
это человек, который любит себя
и ставит себя на первое место
перед остальными людьми
А под ним — еще один постер с провокационным вопросом:
И что с того?
Я и тебе задам этот вопрос: и что? Разве плохо предпочитать себя остальным, отдавать первостепенное значение своим желаниям, ставить свои потребности выше чужих? Хотя бы иногда?
Я удивляюсь, когда замечаю, что людей злит эта тема. Все знают, мои слова верны, но все равно начинают со мной яростно спорить, так как полученное воспитание твердит им, что это неприемлемо. Ну и как же поступать тогда? Разве я должен отдавать предпочтение их точке зрения? Неужели кто-то верит, будто в первую очередь я должен позаботиться о нуждах других и лишь потом — о своих? Это совершенно нелепо. Надо признать, существуют по крайней мере две разновидности эгоизма. Здравый эгоизм, такой, который встречается у здравомыслящих людей, и патологический эгоизм, случающийся у крохоборов, манипуляторов, авторитаристов и обиженных.
Возьмем мои взаимоотношения с женой, важнейшим человеком в моей жизни. Должен ли я любить ее больше, чем себя? Подумай. Во-первых, спросим: а почему я с ней? Почему мы живем вместе? Я знаю, как наши отношения важны для меня, насколько поддерживает меня ее любовь. Но я не готов сказать, будто то же самое происходит и с ней. Я с женой не для того, чтобы сделать ей одолжение. Я с ней ради себя — и в любом случае я надеюсь, что ее мотивы аналогичны.
Быть с другим человеком ради него самого — значит жертвовать в хорошем смысле слова, отказываться от себя. Меня раздражает и возмущает, когда люди мелют что-то типа: «Я делаю это только ради тебя».
Знаешь, что на самом деле совершает человек, который так говорит? Он как бы записывает в блокнотик подробности этого события, дабы потом выставить тебе счет: «10 октября 1998 года мне пришлось сделать для тебя вот это, а значит... за тобой должок». А «должок» означает: «В следующий раз, когда я пойду куда- то, ты должна будешь сопровождать меня, даже если не захочешь, так как я ходил с тобой 10 октября».
И это не шутка. Играя в такие игры, надо быть начеку. Я считаю, человек должен научиться жить, используя самооценку и эгоизм, под которым подразумевается предпочтение собственных интересов.
- А какое место тут отводится взаимовыручке? Ты же не будешь отрицать, что взаимовыручка тоже валена.
- Да, я этого не отрицаю. В первую очередь потому, что понятие взаимовыручки не так далеко от эгоизма, как кажется. В жизни человека есть два этапа, которые мы условно назовем взаимовыручка-туда и взаимовыручка-обратно. Чтобы дойти до обратного этапа, нужно много пережить, приобрести определенный опыт, раскрыть какие-то секреты. На самом деле человек точно не знает, находится ли он уже на обратном пути, но он получает подсказки, позволяющие ему следовать дальше.
Как говорит священник Мамерто Менапасе, живущий в аргентинском городе Кордоба, если восемнадцатилетний утверждает, что он уже «на обратном пути», это значит, он «недалеко еще ушел...». Я всегда улыбаюсь, когда вспоминаю эти слова, и я рад, что ты тоже улыбаешься. На самом деле лишь спустя некоторое время после разворота ты осознаешь, что это произошло. Но надо также, чтобы это открытие сделали и твои близкие.
Если я нахожусь на первой половине пути, при этом я хорошо воспитанный и более-менее умственно здоровый человек, то я должен помогать людям. Почему я так считаю? Вот несколько доводов моей правоты.
Потому что я сам могу оказаться в беде.
Потому что, когда мне будет плохо, другой человек подумает обо мне и поможет мне.
Потому что я чувствую вину, если не помогаю другому человеку.
Потому что этому меня научили родители.
Потому что опасаюсь, что Бог или жизнь меня накажут, если я этого не сделаю.
Потому что мне все вернется вдвойне...
Это некоторые из причин, которыми руководствуется идущий туда. И из нашего определения ясно, что это эгоистические причины. Ведь очевидно, этот человек в первую очередь заботится о себе. Здесь не заметно признаков альтруизма. Ты ведь говорила, что эгоизм и альтруизм — антонимы, да? На самом деле альтруизм, как мы теперь знаем, — это предпочтение интересов другого человека собственным. В целом это чудесно, но, если бы человек проявлял альтруизм постоянно, я бы счел его нездоровым. Ведь, чтобы сопереживать окружающим, альтруистом быть не обязательно, по крайней мере, это верно для взрослых людей со здоровой психикой.
В какой-то момент человек начинает осознавать свое место в мире и разворачивается. Он вступает на обратный путь, как и все мифические герои. После этого с ним происходит одна из самых удивительных трансформаций, какая только может произойти с человеком. Он открывает для себя радость, которую получаешь, когда делаешь что-то для кого-то, кого любишь или кого даже не знаешь.
Это случилось со мной не так уж и давно, и лишь после я начал понимать истинную ценность помощи и важность эгоизма. И с тех пор я говорю: «Я эгоист, я большой эгоист, и, поскольку мне доставляет удовольствие помогать другим, я буду это делать, так как я хочу это делать, потому что меня это радует. Я это делаю для себя, а не для тебя, поэтому ты мне ничего не должен».
Однажды мне сказали, что в языке гавайцев куда меньше слов, чем в нашем. Слово, которым выражают благодарность, «махал» («majal» или «mahalo»), означает «я тебе очень признателен». Больше всего меня удивило, что в ответ на такую благодарность они вместо «не за что» тоже говорят «махал».
Если мы согласимся, будто язык, на котором мы говорим, многое рассказывает о своих носителях, мы оценим мудрость гавайцев, которые благодарят человека за то, что он разрешил себе помочь. Они наслаждаются самой возможностью помочь другим. Таким образом, обмен фразами «Махал!» — «Махал!» означает: «Спасибо за помощь!» — «Спасибо за возможность тебе помочь!»
Когда один человек помогает другому, в конечном итоге выигрывают оба.
Идея, что человек, помогая кому-то, должен заранее подсчитать свои потери, и порождает модную ныне концепцию, по которой добиться чего-то или оказать помощь можно, лишь принеся себя в жертву.
Любовь, альтруистическая или эгоистическая, — это другое дело. Любовь в моем понимании заключается не в постоянных жертвах, как раз наоборот. Следует научиться отмечать, что мы в течение дня делаем с любовью, что мы делаем для другого из эгоистических побуждений.
Зрелая любовь, по-моему, основывается на том, что человек, заботящийся о своих интересах, наслаждается, поддерживая во всем любимого человека, при этом не обязывая его ничем.
Итак, в твоей жизни нет никого важнее тебя. Кто- то может возразить: «Но, доктор... а как же добродетель? Как же все социальные доктрины, христианская церковь, иудаизм, ислам, которые кричат нам со всех сторон: “Возлюби ближнего своего”? Как же этот посыл, объединяющий большинство мировых религий?» Все это замечательно — такая гипотетическая идеальная любовь. Но обрати внимание. Говорят: «Возлюби ближнего своего, как самого себя», но не «больше, чем самого себя». Правильно? И знаешь, почему говорят именно так? Потому что в повседневной жизни, в реальности, полюбить ближнего так же, как себя, — это максимум, чего можно ждать от человека. Таким образом, коэффициент меры идеальной любви — это способность любить себя. И лишь потом — умение любить окружающих, как самого себя.
И снова мы возвращаемся к твоим словам — о том, что эгоист думает, будто весь мир вращается вокруг него. Эгоист, как ты недавно уверяла, — это эгоцентрик... И, хоть это мне и не нравится, я вынужден согласиться с тобой! Едва ли не больше всего на свете я не люблю, когда в каком-то глобальном споре я вдруг с чем-то согласен... Я предпочитаю дискутировать, в лучшем смысле этого слова, ты меня понимаешь...
- Какой ты нехороший человек.
- Важно отличать эгоцентризм и нарциссизм. Эгоцентрик чувствует себя центром вселенной. И, честно говоря, я не считаю это недостатком. Ведь человек действительно ЯВЛЯЕТСЯ центром вселенной. Какой вселенной? Той, какую он населяет, ЕГО вселенной. Давай так центром вселенной всех вещей, которые я люблю и знаю, являюсь я, центром вселенной ТВОИХ вещей являешься ТЫ.
Каждый из нас является центром своей вселенной, и все, что делается вокруг, происходит обязательно благодаря ему.
Нарциссизм — это другое. Это уверенность, будто ты являешься центром вселенной всех остальных людей. В этом-то и сложность. Ненормально быть нарциссом, а не эгоцентриком. Одно дело — считать себя центром вселенной и осознавать, что моя консьержка — центр собственной вселенной, что мой друг Пепе — центр вселенной, где живет Пепе, и совсем другое дело — считать себя центром миров, где живут все эти люди.
Я не приемлю нарциссизм и тщеславие, впрочем, как и стремление уничижать себя, позволяя окружающим думать, будто они являются центром моей жизни.
Если бы я, например, сделал центром своей вселенной моего друга Хосе, то независимо от того, как далеко я от него находился, я все равно вращался бы вокруг него. Если бы основой моего существования являлись деньги, вся моя жизнь крутилась бы вокруг денег. То же самое с властью, сексом и славой. Единственный способ избежать подобной зависимости — это стать центром своей собственной жизни, собственной вселенной.
Позволь рассказать тебе одну из самых восхитительных и волнующих историй о любви, которую я слышал. Ее написал североамериканский писатель О. Генри, это его переложение старинной швейцарской новогодней сказки.
В этой истории рассказывается о прекрасной молодой паре. Они жили в небольшом городке, расположенном у подножия крутой горы. Он был высоким, статным и мускулистым, что не удивительно, ведь с ранней юности он занимался рубкой леса. Она могла похвастаться длинными белокурыми волосами, а ее восхитительные голубые глаза лучились добротой и искренностью.
Они полюбили друг друга и вскоре поженились. Родные и соседи помогли им с небольшой хижиной, в которой молодые зажили вместе, наслаждаясь любовью и счастьем.
Подходил день первой годовщины их свадьбы, и молодая жена решила сделать мужу подарок, который показал бы ему всю глубину ее любви. Она задумалась... Новый топор напомнил бы ему о работе; искусно связанный свитер понравился бы мужу, но она часто вязала ему и без всякого повода; вкусная еда тоже не казалась значимым подарком...
Женщина решила купить что-нибудь, но тех скромных средств, которые она сэкономила за последние несколько недель, не хватало ни на что достойное.
Проходя мимо ювелирной лавки, она заметила в витрине красивую золотую цепь.
Ее муж обладал единственной по-настоящему ценной вещью — золотыми часами, которые подарила ему перед смертью бабушка. Он очень дорожил этими часами: хранил их в замшевом чехле, каждый вечер доставал их, нежно протирал, заводил немножко, слушал их тиканье, пока завод не кончался, снова протирал и убирал обратно в чехол.
Женщина подумала: «Эта цепочка так хорошо подошла бы к его часам». Она зашла в лавку и спросила цену, но, услышав ответ, опечалилась. Цепь стоила куда больше, чем она могла предложить, ей не удалось бы скопить таких денег и за три года. Но она не могла столько ждать.
Грустная, задумавшись, где бы взять денег на подарок, брела молодая женщина по улице и вдруг на стене единственной в городке парикмахерской увидела объявление: «Покупаем волосы». Она немедленно направилась туда.
Денег, которые она могла получить, хватило бы не только на цепочку для часов, но и на футляр для них. Она пообещала парикмахеру вернуться через три дня, чтобы отрезать волосы.
В утро годовщины супруги обнялись чуть крепче обычного. Потом он пошел на работу, а она — в город.
Коротко отрезав волосы и получив за них деньги, молодая женщина отправилась в ювелирную лавку, где купила цепочку и деревянный футляр. Вернувшись домой, она приготовила ужин и стала ждать мужа. Голову она прикрыла косынкой, так как не хотела, чтобы он сразу заметил перемены в ее облике, ведь он так любил ее косы.
Когда муж пришел домой, они крепко обнялись и сказали, как сильно любят друг друга. Потом она достала из-под стопа деревянную шкатулку с золотой цепочкой для его часов. А он вытащил коробку, в которой принес свой подарок.
В этой коробке лежали два великолепных гребня для волос, которые он купил... продав бабушкины золотые часы.
Любовь измеряется не только готовностью пожертвовать собой ради другого, но и просто умением наслаждаться его существованием.
Лучшее, что я могу сделать для любимого человека, — это помочь испытать одну из самых больших радостей жизни: радость встречи.
- Мы встретимся еще?
- Встретимся.
- Может, завтра?
- Давай завтра.
- Тогда целую, до завтра. Я возьму с собой твои схемы?
- О’кей.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СТРАХИ
- Я принесла блокнот и карандаш. И для тебя тоже взяла. Начнем?
- Давай.
- Я хочу поговорить о страхе.
- Только о страхе?
-Да.
- Это очень интересная тема. Сложность заключается в том, что тема обширная. Мне придется постараться быть не слишком поверхностным, чтобы в итоге не получилось, будто я ничего не сказал, но и не углубляться настолько, что ты не сможешь ничего понять. Со мной так часто бывает — я пытаюсь что-то объяснить, используя специальные термины, а потом и сам зачастую не могу понять, что хотел сказать. Да-да, не смейся.
Я попробую быть кратким. Во-первых, потому, что, повторяю, тема довольно обширная. Во-вторых, беседа заинтересует тебя, если я стану отвечать на твои вопросы. И третья и последняя причина заключается в одной фразе, которая произвела на меня сильное впечатление и заставила заново обдумать мою писательскую работу. Вот эта фраза: «Когда говоришь мало, некоторые могут подумать, что ты идиот. Но это лучше, чем говорить много — и ни у кого не оставить в этом никаких сомнений». Да, звучит интересно, но я не знаю, стоит ли тебе ее записывать.
В моей первой книге «Письма Клаудии» я отважился объяснить, кто такой невротик, повседневными словами. Следуя положениям гештальттерапии, я писал, что невротик — это незрелый человек, который не может полностью наслаждаться жизнью, не живет настоящим, а только мешает сам себе жить.
- Я хочу задать вопрос, он немного отвлечет нас от темы, но мне будет полезно это узнать. Как ведет себя невротик в повседневной жизни? Каков он?
- Как его распознать?
- Ну ладно… Как распознать невротика?
- Я бы выделил три стандартных признака: плохое настроение, жалобы и обиды, а также страх.
Все мы знаем, что человек не может быть счастлив, если не является самим собой. Мы понимаем: на поддержание заданного образа уходит много сил. Но мы все равно продолжаем играть эти роли. Мы страдаем от недостатка эмоциональных контактов, но ограничиваемся тем, что смотрим на своих любимых издалека. Мы раскаиваемся и досадуем, когда понимаем: что- то внутри нас не дает нам наслаждаться жизнью...
- Ты хочешь сказать, будто человек, часто бывающий в плохом настроении, жалующийся на неудачи и испытывающий страх, — невротик?
- У меня сразу возникают два ответа: и да, и нет. Нет — так как все дело в степени: если плохое настроение, жалобы и страх — это норма, если они заполняют всю твою жизнь, то тогда это болезнь, патология. А да — потому что все это в конечном итоге является выражением степени невроза конкретного человека, а невроз в какой-то мере есть у всех.
- Это значит, у совершенно здорового человека никогда не бывает плохого настроения?
- У совершенно здорового? Никогда.
- И он никогда не жалуется?
- Никогда.
- И не боится…
- Мы сейчас дадим определение страху, и в таком смысле здоровый человек его действительно не испытывает. Не злись, выслушай лучше мои доводы до конца, и тогда, возможно, ты со мной согласишься.
Один очевидный вопрос преследует людей с самого начала зарождения цивилизации; и философов, и психологов, и социологов — с самого момента появления наук, изучающих человеческое существо. Почему мы не перестаем быть невротиками? Или, другими словами, что мешает нам быть теми, кто мы есть на самом деле?
Ответ: в основном — страх. Вторая причина — определенные привычки, вызванные скованностью перед страхами, собственными или чужими.
- Не понимаю. Какая скованность? Это причина или следствие?
- И то и другое. Страх — это и причина, и следствие невротического поведения и до какой-то степени — его определение, поскольку страх ограничивает и сдерживает, уменьшает и искажает.
- Я не собиралась говорить о каких-то конкретных страхах. Я просто хочу понять: что значит бояться чего-то и как я могу, то есть как мы можем справиться со страхом?
- Хорошо. Для начала скажем, что все мы когда- либо испытывали, испытываем и будем испытывать страх. Любой страх. И тот, который называем просто страхом, и тот, который мы без разбору величаем боязнью, испугом, кошмаром, фобией или паникой, все эти слова, в сущности, означают разные вещи.
Также стоит добавить сюда страхи, которые мы испытываем, но не можем называть их ни одним из перечисленных слов. Обычно мы скрываем эти страхи за эвфемическими выражениями, пытаясь хоть как-то обуздать их.
Вот список эмоций, за которыми в реальности зачастую таится страх.
Антипатия
Благоговение
Брезгливость
Мнительность
Недоверчивость
Ненависть
Неприязнь
Неприятные воспоминания
Неудобство
Неудовольствие
Омерзение
Осмотрительность
Осторожность
Отвращение
Отторжение
Покорность
Противодействие
Раздражение
Робость
Поразмысли над следующими фразами:
«Я боюсь моря? Нет. Я просто осторожна».
«Тараканы? Нет, я их не боюсь. Я испытываю к ним омерзение».
«..Я немного робею».
«Я не летаю на самолетах. Это так неудобно, к тому же с ними у меня связаны неприятные воспоминания».
«Я не хочу встречаться с этим типом. Он неприятен».
Все эти фразы и слова выражают страх той или иной степени. Прочитав их, я думаю, ты согласишься, что в целом мы куда более боязливы, чем готовы признать.
- По твоим словам, все это — выражение наших неврозов…
- Здоровый человек, абсолютно здоровый (то есть несуществующая теоретическая модель), пугается перед лицом опасности, запоминает ее, но его последующее поведение не обуславливается страхом.
- Мне кажется, это всего лишь игра слов. Разве испугаться и бояться — не одно и то же?
- Ты уже второй раз обвиняешь меня в манипулировании словами. Я и сам иногда спрашиваю себя, не являются ли все мои рассуждения, в некоторой мере провокационные, об эгоизме, чувстве вины и любви в конечном счете всего лишь игрой слов? Кто знает. Мне нравится слово «играть». Когда играют дети, они интенсивно переживают происходящее. Вообрази ситуацию: ребенок, играющий в компьютерную игру, почти не замечает ничего вокруг. К нему подходит другой ребенок и спрашивает: «Ты кто?» Первый отвечает, продолжая играть: «Я блондин со шпагой, я должен дойти до замка...» Он играет, он полностью погружен в ситуацию, разворачивающуюся на экране. Мне нравится! Давай погрузимся в эту игру слов и посмотрим, чему мы можем научиться в процессе.
Во-первых, то, что мы называем страхом, включает в себя многочисленные понятия, в том числе и непосредственно страх. Вот список.
|
Боязнь |
|
Испуг |
|
Опасение |
|
Кошмар |
Страхи |
Паника |
|
Страх (непосредственно) |
|
Ужас |
|
Фобия |
Я начну отвечать на твой вопрос с попытки отделить испуг от всего остального.
В отличие от страха, испуг относится к конкретному событию, он появляется одновременно с этим событием; то есть по определению это реакция на ситуацию в настоящем.
Если человек просто сидит и спокойно читает газету, и вдруг вместо того, чтобы позвонить в звонок, кто- то вышибает дверь и врывается к нему в дом, то любой подскочит от испуга — и ты, и я.
Испуг — естественная и абсолютно здоровая реакция, возникающая в момент конкретной и объективной опасности. Опасность эта вполне может оказаться безвреднее, чем показалось сначала, но мы реагируем так, как будто она серьезна.
Испуг можно определить как физическую, так и психическую реакцию, возникающую в ситуации опасности.
Но вот тебе другой пример. Если бы в ситуации, аналогичной предыдущей, в комнату ворвался лев, я бы испугался. Ведь сама фигура льва ассоциируется с опасностью, даже если это дрессированный лев, который не собирается меня съесть.
Это испуг, а не страх.
Если я расскажу об испугавшем меня случае другому человеку, он меня поймет, хотя сам не испугается, так как причина угрозы в целом ясна.
А страх? Продолжу развивать предыдущий пример. Приходит дрессировщик и забирает льва. Я вижу, как льва ведут в зоологический центр, и понимаю, что он покинул здание, но через пять минут или на следующий день, без всякого стимула, за исключением собственных воспоминаний, я вдруг начинаю думать, что лев может появиться снова. Я начинаю испытывать страх от собственных мыслей, у меня появляется тревожная реакция, но льва-то нет, поэтому речь здесь идет не об испуге, а о страхе.
- Моя мать постоянно повторяла одну фразу, и я тоже часто ее произношу: «Страх не глуп». Разумеется, послушав тебя, я начинаю думать, что не глуп испуг. Страх бывает все же глуповат, особенно когда появляется ни с того ни с сего. Я имею в виду твой пример со львом.
- Иногда ты очень хорошо говоришь. Человек может предугадывать надвигающуюся опасность благодаря своему предыдущему опыту. В таких случаях страх защищает и является проявлением мудрости. Хочу выделить общее правило, как отличить испуг от страха: первое является реакцией на воспринимаемое событие, а второе — на воображаемое. Смотри, я пишу:
Воспринимаемая ситуация -----► испуг
Воображаемая ситуация -----► страх
Воображение вызывает страх, как восприятие вызывает испуг. Хотя, разумеется, существуют страхи, обоснованные реальностью, как и испуг иногда бывает порожден воображением. Например, я что-то вижу, воображаю себе развитие ситуации и пугаюсь выдуманного. Позже мы узнаем, как называется этот тип страха, это особенный страх, и у него особое название.
- А если я воображу, что испугалась, у меня появится страх?
- Страх и испуг не воображают, их чувствуют, человек пугается или боится. Обе эти эмоции — настоящие, они вызваны реальным или воображаемым событием.
Во время испуга органы восприятия могут подавать адекватные или неадекватные сигналы. То есть ситуация может быть реальной и по-настоящему опасной (адекватная информация), но одновременно то, в чем человек увидел угрозу, может быть абсолютно безопасным либо не существовать вообще (неадекватная информация). Такое происходит, когда сознание человека изменилось, например, под воздействием наркотиков или при высокой температуре.
- А что случается с человеком, находящимся в бреду или страдающим тяжелой душевной болезнью, например паранойей (если я правильно употребляю названия) или шизофренией?
- Человек довольно долго может жить, пугаясь событий, не существующих ни для кого другого, но абсолютно реальных для него. Такие явления называются галлюцинациями. Например, параноидальный шизофреник, считающий, будто его преследуют, на самом деле видит преследователей. Когда наблюдаешь за мучениями человека в такой ситуации, не думаешь, страх это или испуг. Хотя для психиатрии это фундаментальный вопрос. Казалось бы, это страх, так как чувства пациента вызваны его воображением. Но в то же время это испуг, потому что восприятие у него нарушено, и он боится происходящего по-настоящему, хотя кроме него никто этого не видит. Бедняга пугается того, что считает реальным. Если я вдруг стану слышать голос, твердящий не переставая: «Рис с молоком», я, разумеется, тоже испугаюсь. Голос больше никто не будет слышать, но я-то стану считать его реальным и начну соответственно реагировать. То же самое происходит с теми, кто слышит голоса, угрожающие им и оскорбляющие их.
- Я начинаю думать, что испытывать испуг — это хорошо.
- Я сказал бы, что тревожная реакция — это здоровое явление. Почему? Такая реакция позволяет нам предотвратить опасность, будь она реальной или вымышленной.
Если бы я не испытывал испуга, то в некоторых опасных ситуациях не смог бы защититься. Потребность убежать из дома, когда начнется пожар, — это нормальная защитная реакция, хоть и основана она на испуге.
- Но пугаться все время плохо. Где находится грань?
- Я поставлю вопрос по-другому. Когда умение пугаться превращается в проблему? Когда она становится симптомом болезни? Я отвечу: ситуация может стать фатальной, когда наше восприятие информирует нас об опасности, которой нет. Могу повторить прекрасную и ужасную фразу своего учителя Карлоса Маркеса о том, что пациент начинает воспринимать все безопасное как опасное, все обычное как нечто странное, все безвредное как вредоносное...
- Мне кажется, мы залезли слишком глубоко… Насколько опасны искажения восприятия?
- Одна из проблем, связанных с патологическим страхом, заключается в том, что организм непроизвольно вырабатывает адреналин, химические соединения начинают циркулировать в крови, и в результате это приводит к интоксикации. Я говорю не только о психологическом вреде, но и о физическом воздействии этих веществ на организм. Подобная интоксикация не возникает, когда человек, например, подскакивает от внезапного шума или пугается пробегающей мимо собаки. Это бывает только у людей, постоянно ощущающих угрозу со всех сторон, у которых реальный испуг приправлен постоянным страхом.
- Это фобия?
- Не совсем, фобия — это нечто другое. Одно дело, если я увижу трещину в стене и отойду, подумав: «А вдруг упадет?» — хотя нет никаких признаков, что она собирается падать. И другое дело, когда, увидев стену, я начинаю думать, будто она может треснуть, или вообще стараюсь не заходить в помещения из-за страха, что стены могут рухнуть.
- А если опасность, реальная внешняя опасность, продолжается в течение какого-то времени?
- Возможны два варианта. Первый — тревожная реакция человека будет длиться довольно долго, тогда его организм ждет интоксикация, о которой я уже говорил. Второй вариант — эта реакция прекратится, поскольку органы, вырабатывающие адреналин и тому подобные вещества, устанут. Почти все мы способны научиться жить в условиях постоянной опасности, хотя со временем все равно непременно ощущаем последствия этого.
Рассмотрим один неприятный пример, но он очень хорошо подходит к нашей теме. Теракт 11 сентября. Это событие сильно запугало весь западный мир. Сложилась реальная и конкретная ситуация: террористическая атака, произошедшая в Нью-Йорке, стала причиной страданий и гибели людей. Последствия катастрофы люди переживали в течение месяцев... Произносились траурные речи, публиковались статьи в газетах, кадры горящих зданий постоянно показывали по телевизору... Что случилось потом? Опасность исчезла? Террористы прекратили существовать? Разумеется, нет, но тем не менее напряженность ситуации пошла на спад. Огромная опасность заключается в том, что террористы, которым о страхах людей известно так же хорошо, как и нам, или даже лучше, опять могут попытаться возродить пережитый ужас с помощью новых угроз и атак, когда почувствуют, что общество расслабилось. Или еще один пример, не менее драматичный. Когда мы впервые видим изображения голодающих детей в Африке или Латинской Америке, когда нам показывают ужасы, творившиеся в ходе войны в Ираке, страдания людей, переживших цунами или ураган, все мы испытываем шок. Что происходит дальше? Мы каким-то образом свыкаемся с тем, что такое происходило или происходит сейчас. Я бы сказал, как это ни печально, но мы учимся с этим жить.
Но оставим мировые проблемы. Возьмем, например, женщину, муж которой — алкоголик, избивающий ее. Когда этот тип в первый раз приходит пьяным и бьет ее, она пугается, у нее начинается паника и т. д. На второй и третий раз происходит то же самое. Но потом, если женщина не уйдет из дома, она начнет привыкать к такой жизни.
Как ни печально, эта женщина перестает считать ситуацию опасной, хотя опасность никуда не исчезает. И, как правило, если появляется какой-то человек со стороны, он свежим взглядом замечает ту опасность, к которой все другие давно уже привыкли.
- Я знаю один пример. Моя тетя Лоли однажды вечерам зашла к соседке и застала ее мужа пьяным в стельку. Он был весьма агрессивен и явно не контролировал себя. Соседка затолкнула его в комнату и закрыла за ним дверь. Моя тетя жестами показала, что собирается уходить, но соседка сказала: «Не волнуйся… Ничего не случится! Много шума из ничего! Я уже этого подонка не боюсь!»
- Именно так. Вот еще один пример. Представь себе очень нервного человека. Когда он не может добиться того, чего хочет, он грозится убить себя. Тех, кто его любит или воспринимает его угрозы всерьез, охватывает настоящий ужас. Они испугаются в первый раз, во второй, третий, четвертый. А что будет на пятый раз?
- В пятый раз они перестанут опасаться за его жизнь. Ведь человек, который постоянно угрожает покончить с собой, никогда этого не сделает.
- Не стоит быть настолько уверенной в этом. Подобная ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Когда манипулятор замечает, что его угрозы ни на кого не действуют, он удваивает ставки и начинает совершать попытки самоубийства, с каждым разом все более и более серьезные, стараясь держать окружающих в постоянном страхе. Кто-то может думать, будто это всего лишь способ привлечь внимание, и возможно, так оно и есть, но иногда человек переходит границу и по- настоящему умирает. Без шуток.
Возвращаясь к теме. Страх с течением времени иссякает, как и любые другие эмоции. Когда уходит страх, появляются вызванные им защитные механизмы. Наше счастье, что существуют эти механизмы, которые позволяют нам продолжать жить в таких ситуациях и переживать их. Ни один человек не может жить в ситуации опасности вечно, сохраняя острую эмоциональную реакцию на нее. Так же как никто не может долго испытывать безумную любовь (хотя такая агония, разумеется, куда приятнее).
- А если и опасность не исчезает, и человек не привыкает к ней?
- Если напряжение не спадает, возможны два варианта развития событий. Человек надрывается, что ставит его в опасное для него самого положение, возникает, например, безумие или тяжелая депрессия. Либо, что случается чаще, развиваются специальные механизмы, позволяющие поддерживать напряжение в течение длительного времени. То есть, если возраст человека не располагает к умопомешательству, постоянная жизнь в условиях опасности неизбежно приводит к состоянию, называемому стрессом. В книгах по психиатрии понятие стресса возникло после описания «военного невроза», так как он впервые наблюдался у солдат, пребывающих в постоянном напряжении, испытываемом в ходе сражений.
- А что такое стресс, который популярен сейчас?
- Этот популярный стресс, как ты его называешь (хотя на самом деле это дистресс, который следует отличать от здоровой реакции организма, называемой эвстрессом), — это состояние полной истощенности механизмов адаптации и контроля над опасностью, в котором организм уже не может подавать сигналы тревоги, и человек «ломается». Он испытывает крах, чувствует, что ничего не способен сделать, у него ни на что не осталось сил, и погружается в психическую и физическую прострацию, выход из которой довольно труден и занимает много времени. Если угрожающая или вызывающая напряжение ситуация длится долго, у человека могут появляться определенные психические отклонения, а также измениться его поведение.
Расскажу анекдот, чтобы тебя повеселить немного...
Около семи утра женщина заходит в спальню к своему сыну и начинает будить его.
Он сонно протестует:
- Мама, не хочу иди в школу, не хочу...
- Сынок, но ты не можешь остаться дома, — уговаривает она.
- Но я не хочу, — повторяет он, — не хочу. Пожалуйста, разреши мне остаться. Мама, я боюсь. Я очень боюсь туда идти.
- В чем дело, сынок? Почему ты так упрямишься?
- В школе дети кидаются в меня мелом, таскают у меня вещи со стола, — хнычет он. — И учителя ко мне плохо относятся... Они насмехаются надо мной... Мамочка, я не хочу туда идти... Позволь мне остаться дома... Пожалуйста...
- Сынок, послушай, — говорит она твердо. — Ты должен пойти, этому есть целых четыре причины. Во- первых, ты должен побороть свой страх. Во-вторых, надо проявлять ответственность. В-третьих, тебе уже 42 года. А в-четвертых, ты — директор школы...
- А если человек боится летать на самолете, это страх или испуг?
Страх — это испуг, возникающий от какой-то мысли. Причина, вызывающая страх, находится внутри, а не снаружи. Меня пугают собственные мысли. Я себе представляю, как что-то происходит или может произойти, и боюсь этого. Вот, например, человек, еще дома думающий, что самолет, в котором он полетит, может упасть, определенно испытывает страх.
А когда самолет уже в воздухе, неожиданный рывок в зоне турбулентности может напугать далеко не одного пассажира. И уж подавно перепугаются люди, которые патологически боятся летать.
Как я всегда говорю, для того чтобы избавиться от страха, надо встретиться с ним лицом к лицу.
Человек должен совершить то, чего он боится, дабы превратить страх в испуг, то есть сделать реакцию более здоровой. Как только страх преобразится в испуг, человек способен победить его. Это очень важно, и первый шаг на пути избавления от страха — его серьезное изучение. Для начала нужно усвоить одно дело — бояться тигра, а другое — бояться тигра на фотографии.
- Вот об этом я как раз и собиралась тебя сегодня спросить: как перестать бояться? Как выбраться из лап страха, если это вообще возможно?
- Разумеется, это возможно, хотя и не всегда просто. Чтобы избавиться от страха, в первую очередь желательно иметь возможность (а таковая не всегда представляется) попасть в пугающую нас ситуацию в удобный нам момент. Увидеть реальную угрозу, пощупать, понюхать, послушать, чтобы потом предстать перед ней лицом к лицу.
Испуг — это реакция на текущую реальную ситуацию. Если один человек может показать другому пугающий его самого объект или ситуацию, испуг может распространиться и на второго. Дополнительная сложность заключается в том, что в определенных ситуациях объект присутствует в реальном времени, но угроза существует лишь в воображении. Соответственно, испуг преобразуется в страх.
Вернемся к предыдущему примеру. Если вместо тифа или льва в комнате окажется пудель, а человек испытает тревожную реакцию, мы назовем ее страхом, а не испугом, так как стимул существует только в воображении, а объективной угрозы нет.
- Можешь объяснить, что такое ситуация, при которой возникает объективная угроза?
- Это такая ситуация, когда ощутить угрозу может любой.
- Давай проверим, поняла ли я. Например, я купаю ребенка, поворачиваюсь, чтобы взять полотенце, и слышу шум. Я пугаюсь, так как мне кажется, будто ребенок упал. Но когда я поворачиваю голову обратно и вижу, что ребенок в порядке, испуг проходит.
- Да... Хотя какое-то время сердце у тебя колотится, словно что-то реально произошло... Но если, например, кто-нибудь прицелится в меня из игрушечного пистолета, я не буду раздумывать, игрушечный это пистолет или нет, и испытаю сильный испуг, так как мне будет казаться, что в меня целятся из настоящего пистолета. Когда я пойму, что пистолет игрушечный мой испуг уменьшится, но тем не менее останется беспокойное ощущение, мне угрожали, пусть даже ненастоящим оружием.
- Но не все люди пугаются одного и того же…
- И к тому же все в разной степени. Разумеется, реакция отчасти зависит от опыта человека. Я, как и некоторые мои коллеги, считаю, что человек вероятнее испугается, если у него имеется какой-либо неприятный опыт, связанный с текущей ситуацией (и это может совершенно не зависеть от объективных отношений между двумя событиями, прошлым и настоящим). Страх, но не испуг влечет за собой размышления. Страх начинается с одной мысли, которая вызывает другую, и так далее, пока человек не приходит в отчаяние. А испуг, наоборот, рефлекс, реакция на стимул, на происходящее. Мы в Аргентине говорим: «Меня охватил испуг», потому что испуг как будто бы охватывает тебя сам, без твоего участия.
- Насчет настоящего времени… А человек не может испугаться того, что уже, в общем-то, произошло?
- Конечно, может. Мне сказали, что поезд, с которого я минуту назад сошел, потерпел крушение, не доехав до следующей станции. Я чуть было не погиб.
Чуть было... Этого не произошло, но я все равно испугался, хотя, по сути, опасности для меня не было. Я испугался того, что могло бы произойти, но не произошло.
Разовью этот пример. Если каждый раз, перед тем как сесть в поезд, я буду думать, что может произойти катастрофа, а я пострадаю или умру, то это — трансформация испуга в страх. Первая реакция при наличии опасности — это испуг. Вторая реакция, как правило, — это страх, который появляется в результате раздумий.
Страх, как говорил индийский мыслитель Кришнамурти, — это плод мысли, а это значит, что мы сами выдумываем собственные страхи, они — наше творение. Как правило, страхи возникают на основе личного опыта каждого из нас. Страх появляется как реакция на выдуманную опасность.
- Но ведь человек в состоянии принимать меры против определенных опасностей? Я, например, боюсь, что мои дети могут подхватить ветрянку, поэтому делаю им прививки. Но я полагаю, это превентивная мера, а не страх.
- Верно, но до определенной степени, так как предупреждающие действия человек совершает из- за страха. Так же как испуг помогает человеку избежать некоторых опасностей, страх иногда позволяет предотвратить определенные беды. Например, страх попасть под автомобиль заставляет нас смотреть по сторонам, прежде чем перейти дорогу. Вопрос, как обычно, в том, где пролегает граница между патологией и здоровым страхом.
Прежде всего следует понять: страх — как здоровый, то есть приводящий к размышлениям, так и патологический, то есть вводящий человека в ступор, — это результат наших мыслей. Оба вида страха, и помогающий, и мешающий нам, возникают, когда я воображаю, что в будущем может произойти что-то нежеланное для меня. Страх — это отражение неприятных раздумий о том, что может случиться против моего желания. Пусть даже я боюсь событий, какие вообще никогда не произойдут. Если я подумаю о том, что завтра случится конец света, и не найду этому никаких опровержений, я залипну на этой идее, и все размышления о катастрофе будут вызывать у меня страх.
- Есть один вопрос, который меня беспокоит и которого я не понимаю. Если мне так страшно, так тяжело и так больно думать о конце света, почему я не перестаю о нем думать?
- То есть почему человек продолжает думать о том, что ему неприятно?
- Именно.
- Это непросто как объяснить, так и понять. По мнению Геopra Гроддека, причина заключается в том, что глубоко под любым страхом прячется желание.
- А ты как считаешь?
- В некоторых случаях мне кажется, это не так, а в других — это единственное объяснение. Разумеется, чтобы принять такое объяснение, нужно принять и массу теоретических предвзятостей, с которыми согласно большинство психотерапевтов, в том числе идею о существовании желаний, не осознаваемых самим человеком.
У любого из нас в свое время возникал страх, вдруг что-то произойдет или, наоборот, закончится. И если речь идет о единичном явлении, то такая фантазия может быть вызвана каким-то реальным событием. Попробуем разобраться в этом на основе следующих примеров. Допустим, я узнаю из газет, будто в моем районе все чаще и чаще происходят ограбления, и я могу начать бояться, что меня ограбят. Страх проистекает из предположения: если это происходит с другими, то может случиться и со мной. Я начну действовать: поставлю решетку на окна, найму охрану или перееду в другой район. Заметь, в данном случае страх рождается из-за размышлений над конкретным внешним явлением. Я могу рассказать об этом любому другому человеку, показать ему газеты и поделиться своими опасениями, и меня легко поймут, другому мои предосторожности покажутся разумными, и он тоже поставит себе решетки на окна. Но если я, прочитав в газете, что у кого-то на голове выросло третье ухо, впадаю в результате в панику, вскакиваю по ночам и нервно ощупываю себя, проверяя, не появилось ли третье ухо и у меня, то этот мой страх уже не так обоснован, и его мало кто поймет. Не смейся, ведь с кем-то такое действительно происходит...
- Моему старшему сыну 16 лет. Когда я по выходным уезжаю в Малагу, он, разумеется, пользуется этим, уходит гулять и возвращается каждый раз все позже и позже. Перед выходом я всегда говорю ему: «Позвони, когда вернешься домой, чтобы я была спокойна». А он злится. Каждый раз! Я понимаю, идеально все быть не может, но на улицах случается всякое, и я прошу его звонить мне, чтобы не мучиться подозрениями.
- И чтобы научить его бояться. Иначе как же еще мы обучаем детей бояться? Но этот пример очень интересен. Если ежедневно читать в газетах о всяких ужасах, как же не бояться, что такое произойдет с кем- то из наших близких? Этого страха невозможно избежать.
- Этот страх действительно передается детям?
- Разумеется. Знаешь почему? Это нужно знать. Испуг — это автоматическая реакция, животный инстинкт, разум тут не вовлечен. Зверь видит более крупного зверя, который к тому же угрожающе рычит, и пугается, не размышляя: «Убьет он меня или нет? Привязан он или нет?» Когда я гуляю со своей собакой, и из-за решетки на нас начинает рычать и лаять другой пес, моя собака пугается, и происходит это не потому, что она думает: «А вдруг решетка не выдержит?»
Испуг — это естественная реакция. Так вот, испуг переходит в страх, который уже не инстинктивная реакция, а ментальная. Страх не является врожденной реакцией ни у нас, ни у наших детей, ни у детей наших детей, хотя возможность пугаться заложена генетически — как и у собак, и у кошек, и у птиц. Любому страху, который человек испытывает, он научился, а не родился с ним. Мы научились бояться, потому что нас этому научили. А нашими первыми учителями были...
- Мама и папа.
- Ясно, да? Начиная со всяких глупостей, которые мы, отцы и матери, безнаказанно говорим детям, вроде. «Будь осторожен».
- А почему это глупость?
Потому что «будь осторожен» означает «бойся», «мир опасен», «следи, чтобы с тобой ничего не случилось». Более того, тут есть и мрачный подтекст: «Будь осторожен, так как, если с тобой что-то случится, я не переживу».
- Но ведь это говорится, дабы предостеречь их.
- Да, возможно. Но это не предостерегает, а пугает. Предостережение — это не просто предупреждение. Предостеречь — значит показать, как обстоят дела, объяснить, что может произойти, и научить, как избежать этого. По сути дела, когда мама говорит мне: «Будь осторожен», она пытается нагрузить меня дополнительно: «Ты должен быть осторожен, потому что в противном случае твоя мама станет страдать».
- Но если это сказать заботливым и спокойным голосом…
- Не знаю. Надо научиться говорить «Развлекайся», «Желаю хорошо провести время». Это куда лучше. Если ты говоришь семилетнему ребенку: «Будь осторожен», ему это, может, и полезно, хотя, скорее всего, нет. Если ему двенадцать, это будет бесполезно. А если восемнадцать, от такого предупреждения не только никакого проку, а возможно, и вред. Я говорю это, будучи уверен: если родителям не удалось научить ребенка осторожности до двенадцати лет, то в восемнадцать у них точно ничего не получится, особенно с помощью их излюбленной фразы: «Будь осторожен».
Когда моя мать узнаёт, что я собираюсь на пляж, и говорит «Будь осторожен, не гони быстрее других машин», она не думает меня чему-то научить. Ею движет ее собственный страх, она произносит эти слова, чтобы разогнать свои опасения, она воображает, будто ее предупреждение может каким-то магическим образом сработать, и со мной ничего не случится.
Я надеюсь, что не зародил в тебе ни беспокойства, ни смятения. Мы обязаны научить детей быть осторожными, но делать это они должны по собственной воле. Говоря: «Будь осторожен», мы внушаем человеку, будто он должен что-то сделать для того, кто его предостерегает. На самом деле детей надо научить беречься ради них самих, а не для кого-то еще.
Я расскажу тебе одну историю, чтобы ты поняла, о чем я пытаюсь сказать. Когда мне было двенадцать лет, я поехал покататься на велосипеде по округе. Завернул за угол, упал и напоролся на рукоятку тормоза ногой. Я взвалил велик на плечо и отправился домой, заливая путь кровью, текущей у меня из ноги. Пока я шел, у меня в голове крутилась единственная мысль: что будет с матерью, когда она это увидит? Я не волновался из-за того, что идет кровь, или из-за боли, я думал лишь: «Бедная моя мамочка, как она расстроится, когда увидит». Это же нелепо. Дети должны беречь себя ради себя же. И именно поэтому я не считаю, что говорить: «Будь осторожен» — хорошая идея. В любом случае, мне кажется, лучше учить детей беречь себя, свое тело и душу.
- Но ведь это случается не только с детьми. Например, когда мой друг едет в другую страну, я говорю ему добродушно: «Береги себя».
- Для чего это? Ты понимаешь? Человек уже привык к этому «Будь осторожен» или «Береги себя». Это не распространяется только на отношения между родителями и детьми.
Однажды я разговаривал с достаточно взрослой женщиной, и она сказала, что в детстве никогда не слышала «Будь осторожна». Ее мать всегда произносила: «Смотри внимательно!» Я ей ответил, что это одно и то же и суть не зависит от слов или жестов. Если мы знаем, как наши дети, супруги или подчиненные воспитаны и как они себя обыкновенно ведут, какой смысл в этих напоминаниях? Да, жена говорит мужу, собирающемуся лететь на самолете «Береги себя», но чего этим добивается? Она думает, будто эти слова как- то повлияют на его поведение? Я так не считаю, честно говоря. Я почти начинаю злиться, когда думаю об этом, правда. Никто не считает, что предостережения повлияют на чье-либо поведение, их не произносят из-за любви, люди просто пытаются контролировать собственные страхи.
- Ну извини. Ты не веришь, что действия человека могут быть продиктованы одновременно и собственными страхами, и любовью к другому человеку? Почему либо одно, либо другое?
- Потому что страх аннулирует любовь, и, кроме того, человек, который меня любит, пожелает мне насладиться поездкой, а не беречь себя, более того, он не считает меня дураком. Напутствующий меня: «Будь осторожен» напоминает мне, что мир опасен. А тот, кто говорит: «Наслаждайся», сообщает мир полон удовольствий. Ну и у кого из них больше любви?
- Ладно, успокойся. Ты еще схему не нарисовал…
- Точно. Вот.
![]()
Возьмем какую-нибудь стимулирующую ситуацию. Назовем ее X. Эта ситуация, какова бы она ни была, обязательно порождает сильные или слабые эмоции. Они, в свою очередь, вызывают реакцию, сообразную сданными эмоциями.
Например, ко мне подходит человек и говорит «Привет» или «Дурак». У меня возникает то или иное чувства в зависимости от того, что я услышал. И это дает мне энергию, трансформирующуюся в определенную реакцию.
Если меня, например, оскорбят, то моя энергия будет направлена на ответное оскорбление, пощечину или — когда противник окажется больше или сильнее меня — на бегство. Тебе смешно, но это правда. Если встреча окажется дружественной, я почувствую радость, а ее результатом станет объятие. Запомни раз и навсегда - эмоции — это половина дела, другая половина — то, как человек распорядится этими эмоциями.
- Эмоции возникают перед реакцией?
- Чаще всего. Существуют автоматические реакции, которые появляются одновременно с эмоциями. В других случаях порожденные каким-либо стимулом ощущения изменяют восприятие, изменяя, соответственно, и начальную ситуацию. То есть реакция возникает как результат нескольких эмоциональных изменений.
![]()
Я встречаю друга, которого давно не видел, испытываю эмоции и реагирую на встречу: меня охватывает дрожь, на глазах выступают слезы, возникает намерение обнять его. Это состояние, когда определенное намерение уже возникло, называется возбуждением.
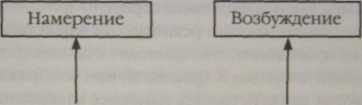
Человек испытывает возбуждение, когда идет, например, на важную встречу или долгожданную вечеринку. Внутри словно включается мотор, заставляющий надеяться и думать о том, что произойдет нечто определенное. Некоторые называют это позитивным, или хорошим, волнением.
- Такое эйфорическое возбуждение тоже связано с выбросом адреналина?
- В какой-то степени да, ведь адреналин выделяется при мобилизации энергии, чтобы подготовить тело к действию. Но именно намерение сделать что-либо преобразует изначальное волнение в возбуждение. Понимаешь?
- А если человек испытывает эмоции и потребность отреагировать на ситуацию, но по какой-то причине не осмеливается сделать это, что происходит в таком случае?
- Эту ситуацию мы называем прерыванием! Человек получает определенный стимул, знает, как отреагировать на него, эмоции придают ему энергии для этого, а он в последний момент так и не решается сделать то, что хочет.
- Это про таких людей, которые все время угрожают: «Я тебе сейчас покажу! Я тебе дам!» Когда им отвечают: «Ну давай, покажи!» — они лишь продолжают: *Не провоцируй меня! А ты у меня посмотришь!»
- Ну да, про таких. Иногда вся эта накопленная энергия действует во вред человеку, она его буквально разрушает, как и постоянный стресс.
Как правило, эмоции реализуются в действии, если этого не происходит, они приводят к беспокойству.
В нашей ситуации X (реальной или воображаемой) непонятно, как действовать наиболее адекватно. В подобных случаях потребность в реагировании оканчивается сомнением и в результате — беспокойством.
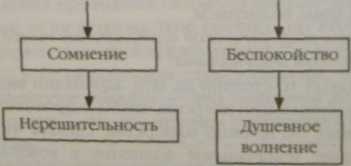 Возникает
состояние нерешительности. Мобилизация
же, которая должна была преобразиться
в возбуждение, превращается в душевное
волнение.
Возникает
состояние нерешительности. Мобилизация
же, которая должна была преобразиться
в возбуждение, превращается в душевное
волнение.
Душевное волнение, рожденное из сомнений и нерешительности, всегда сопровождается недовольством.
Это неудовольствие вызвано мыслью, что может произойти какое-то не ожидаемое нами событие. Вдруг что-то случится? Как мне реагировать? Мне придется как-то поступить, а я не знаю, что делать.
- И это может длиться бесконечно?
- Если нерешительность и душевное волнение овладевают нами на длительное время, в первом случае мы впадаем в ступор, а во втором — начинаем страдать. Такая ситуация нагоняет ужас. Человек в подобном состоянии не просто не знает, что делать, — даже если ему подсказать, он будет не в состоянии это выполнить. Оказавшемуся в такой ситуации кажется, будто что-то сдавливает ему грудь. Он чувствует себя беззащитным. Он даже не готов попросить помощи.
- Это может привести к приступу паники?
- Нет, приступ паники — это другое, по сути, он связан не со страхом, а с душевным волнением. Оставим эту тему, по крайней мере на сегодня, скажу только приятную новость для 30% жителей городов, подверженных приступам паники: согласно последним данным, это одна из немногих полностью излечимых болезней.
- Что значит полностью?
- Это значит, что, несмотря на сложности, последовательное лечение данного недуга заканчивается успехом в ста случаях из ста. Не забудь, эта проблема возникает из-за душевного волнения, а не в результате страха.
- Можно ли сказать, что человек испытывает душевное волнение, если он приходит куда-то за два часа до назначенного времени?
- Часто душевным волнением называют возбуждение и наоборот. Некоторые волнуются очень сильно и считают: если что-то должно произойти, пусть это случится как можно раньше. Они спешат и сами делают все преждевременно.
- Но ведь это не повод страдать.
- Есть такая разновидность волнения, которое оказывается бесполезным, то есть никогда не превращается в мотивацию.
- А как бы ты определил мотивацию?
- Мотивация, как подсказывает само слово, — это мотив действия. Это дополнительный стимул для выработки энергии, необходимой для какого-либо поступка. Мотивация помогает доводить до победного конца наши планы, в первую очередь зависящие от нас, так как в остальных случаях даже сильная мотивация не гарантирует достижения желаемого результата.
Часто случается, что молодой человек полчаса одевается, брызгается одеколоном, бреется, делает стрижку, покупает костюм и галстук ради встречи с любимой женщиной, а она не приходит на свидание. Мужчина ждет два часа напрасно. Бывает такое? Действия не всегда приносят результат, иногда они абсолютно бесполезны. Понимаешь, о чем я?
Смотри.

- Может ли неспособность реализовывать решения сделать эту схему еще страшнее?
- Разумеется, так и происходит. Тщетность поступков усиливает наше страдание, загоняя нас в еще больший ступор. В конце концов мы перестаем на все реагировать. Это вызывает страх.
Итак, то, что мы называем страхом, — всего лишь сочетание сомнений, волнения, страдания, нерешительности и ступора.
- Это край...
- К сожалению, нет, если ступор и страдание не прекращаются, а наоборот, становятся все глубже и глубже, наступает другое, куда более серьезное состояние депрессия.
- Ведь ничего нет хуже депрессии, верно?
- В нашей культуре депрессия видится только серьезной угрозой здоровью человека. Но чтобы лучше понять это явление, подумаем о депрессии как о грандиозном и нездоровом защитном механизме.
- Как же депрессия защищает и от чего?
- Представим: я подавлен предчувствием опасности, меня переполняет ощущение грядущей гибели, меня охватывает страх. И я впадаю в депрессию, хотя ситуация не ухудшается.
Один из основных симптомов депрессии — сокращение связи с внешним миром и эмоциональная заторможенность. Перед нашим взором словно задергиваются шторы, все вокруг застывает, а звуки слышатся будто через вату.
- Не могу с этим полностью согласиться. Когда я в подавленном состоянии, то наоборот, я становлюсь гораздо восприимчивей. Все происходящее заставляет меня чувствовать себя неудачницей особенно остро.
- Не пугай депрессию с унынием, это две разные вещи. Когда кто-то в депрессии, он не ощущает ничего. А вот человек, пребывающий в унынии, переживает все, что ты описала, и не только это. Разница для неспециалиста не особо заметна, но она есть. Именно поэтому я говорил о защитной реакции: в состоянии депрессии (а не уныния) теряется восприятие стимула, не возникают эмоции, пропадает и необходимость в реагировании, и это притупление восприятия защищает человека. Разумеется, это нездоровый механизм, ведь он способствует бегству от реальности, а не избавлению от недуга.
- Ты хочешь сказать, депрессия — это хорошо?
- Вовсе нет. Депрессия, условно говоря, — это состояние, в которое погружается человек, пытаясь выйти из невыносимой и неразрешимой ситуации. На самом деле он оказывается в точно таком положении, что и раньше, или даже хуже. От подобного обмена человек, по сути, только теряет. Это все равно, что выпрыгнуть со сковороды в пламя — ничего не выигрываешь.
По телевизору иногда показывают страшные кадры: люди выбрасываются из окон горящего многоэтажного дома, пытаясь спастись от огня. Если бы они были в состоянии поразмыслить, то поняли бы: прыгать — это верная смерть; и тем не менее они кидаются вниз головой, лишь бы их не тронул огонь. В случае с депрессией тактика та же: стараясь изменить ужасные обстоятельства, человек попадает в ситуацию еще более тяжелую, чем начальная.
- Но ведь человек, находящийся в депрессии, страдает?
- Страдает, но не так, как при унынии или пожаре. Такие страдания называют ощущением внутреннего разрушения. Человеку кажется, будто внутри него что- то сломалось. Это тяжело и порой болезненно. Некоторые переживающие депрессию даже говорят, будто хотят умереть... Хотя, вернее сказать, эти люди не хотят жить, что вовсе не то же самое. В большинстве случаев у человека, находящегося в депрессии, нет никаких желаний, в том числе и желания покончить с собой.
Разумеется, депрессия бывает разной степени. Некоторые люди, даже находясь в депрессивном состоянии, выходят на улицу, работают в офисе, встречаются с друзьями... Но всё через силу!
- Да, это требует нечеловеческих усилий!
- Как с языка сняла. Именно так. Продолжать жить и пытаться что-то делать в состоянии депрессии — это настоящий героизм. Любой, кто попадает в подобную ситуацию, приобретает болезненный опыт. В своей первой книге, «Письма Клаудии», я описал собственные чувства, какие испытывал, находясь в депрессии. Хочу признаться, что сейчас мне кажется, будто я тогда не существовал. Я думаю, понять это может только человек, который действительно пережил подобное. Разумеется, все зависит от степени болезненного состояния: по некоторым людям не скажешь, что они испытывают депрессию, а другие позволяют себе отойти от жизни, хотя и не пытаются лишиться ее, — они просто причиняют себе боль и разрушают себя.
Окружающим кажется, будто от человека, пребывающего в серьезной депрессии, осталась лишь оболочка. На первый взгляд он выглядит нормально, поддерживает разговор, улыбается, но если всмотреться, то можно заметить, что блеска в глазах у него нет, из него будто ушла жизнь.
Иногда человек, вышедший из депрессии, говоря о пережитом, упоминает, что у него «словно белое полотно висело перед глазами». Я поправляю: не белое, а скорее черное полотно.
- Действительно бывает, что человек не замечает своей депрессии?
- Люди не всегда искренни с окружающими. Мы часто надеваем маску благополучия и делаем вид, будто у нас все замечательно. Обычно так бывает с теми, кто долгое время вынужден был жить несообразно со своими желаниями, подстраиваться под обстоятельства и поэтому привык скрывать свои настоящие эмоции. Как ты понимаешь, это требует сил и нередко заканчивается измождением, которое может перейти в депрессию. Процесс может развиваться, скрываясь за обыденностью. Человек работает, ест, гуляет, смеется, занимается какими-то своими делами. Кажется, у него все нормально, но в личной беседе он может признаться, что его ничего не радует и ничего не интересует. В психиатрии такое явление называется латентной депрессией, она поражает людей, чья жизнь пуста по содержанию, но при этом наполнена бездумной активностью. Человек, испытывающий такую депрессию, даже не отдает себе в этом отчета и узнает о своем диагнозе лишь во время бесед с психологом. Зачастую такой диагноз воспринимается с большим недоверием. Иногда пациент даже обращается к другому специалисту, чтобы подтвердить его.
- А не бывает скрытого уныния?
Уныние бывает скрытым, бывает сознательно замаскированным. Оно может проявляться в парадоксальной форме, но, в отличие от депрессии, по субъективным оценкам и как показывает практика, уныние диагностируется намного легче.
Человек, находящийся в унынии, испытывает внутреннюю боль, переживает ощущение потери, ему часто хочется плакать. Такой человек вообще крайне эмоционален, у него повышена чувствительность, в отличие от пребывающего в депрессии, которому кажется, что с ним ничего не происходит.
Депрессия делает нас равнодушными. Как я уже говорил, человек, находящийся в глубокой депрессии, не против даже умереть.
- Но ведь выход есть?
- Да, конечно. Выход есть, и не один, хотя путь к ним очень нелегок и может занять довольно долгое время. Помнишь слова Ландру про безвыходный тупик, которые я цитировал? Выходить надо туда, откуда вошел.
То есть надо вернуться к тому этапу жизни, на котором находящийся в депрессии попал в тупик, проследить его и понять, как от нерешительности и душевного волнения — ситуации, в которой человек не увидел решения, — он перешел к ступору и страданию, и это породило в нем такую боязнь действия, что он скатился в депрессию. Важно найти способ вывести человека из данного состояния и заставить его вернуться на свой путь.
- Это касается любого вида депрессии? Для всех стратегия выхода одинакова?
- Нет. Происхождение депрессии может быть разным. Иногда проблемы оказываются скорее органическими, чем психологическими. Это эндогенная депрессия, которая больше зависит от биохимических процессов, чем от личной истории пациента (хотя известно, что два этих аспекта неразрывно связаны). Эндогенные и экзогенные депрессии требуют разных подходов к лечению. Для избавления от болезней первого типа может понадобиться прием лекарств. Зачастую подобные средства, от которых стараются отказываться некоторые пациенты и терапевты (в том числе и я сам), все же необходимы для излечения.
- У меня ощущение, что граница между всеми этими понятиями довольно тонка. Я права?
- Да, неподготовленный человек легко может ошибиться. Следует быть очень осторожным, ставя диагноз, учитывая, что от него будут зависеть лечение и конечный результат. Сильное уныние, которое длится довольно долго или причина которого чрезвычайно серьезна (например, потеря любимого человека), зачастую может привести к тяжелой депрессии.
Этому есть масса примеров, но я предпочитаю их здесь не рассказывать. Довольно будет сказать, что ситуация, описанная в схеме, может ухудшиться. Для этого составим новую схему.
- У меня появился важный вопрос. Страх может привести к разнообразным заболеваниям и другим неприятным последствиям, но в то же время это нормальная реакция человека, а в некоторых случаях она даже выполняет защитную функцию. Как же нам действовать, чтобы оградить себя от негативных сторон страха?
- Схема как раз отвечает на этот вопрос. По ней хорошо видно, что страх полярен действию. Страх с действием несовместим, доказательством чему служит также наша полная неспособность действовать, когда появляется страх. Но в то же время страх можно победить только действием, и другого пути нет.
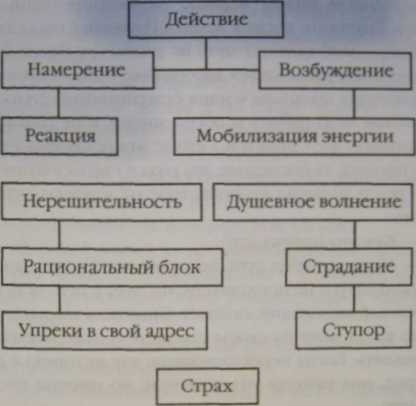
- Значит, речь идет о выборе между действием и страхом?
- Именно так. Когда человек наконец начинает действовать, он может испугаться того, что он собрался сделать, но это уже не страх. Если человеку удастся, несмотря на нерешительность, ступор, душевное волнение и страдание, принять какое-то решение, это поднимет его на уровень действия, и страх уничтожится возбуждением, которое человек испытает, задумывая выполнить намеренное.
- Но у тех, кто колеблется, остается испуг.
- Ну и пусть, это не имеет особого значения, потому что испуг проходит.
- Все равно нужна храбрость, да?
- Не знаю, нужно ли быть храбрым, но важно знать, что действие — это выход. Я расскажу пример из собственной жизни, хорошо иллюстрирующий мои слова. Однажды, когда я летел в Израиль с пересадкой в Дакаре, мой самолет чуть не разбился. После этого у меня стала развиваться аэрофобия. Одна лишь мысль о самолетах вызывала у меня безграничный страх. Но, учитывая мою работу и образ жизни, я не собирался отказываться от полетов. Сейчас эта проблема у меня уже прошла, за последние два года я садился в самолет 286 раз и получил удовольствие от каждого путешествия.
- Как ты излечился?
- Меня вылечил друг, который вообще-то не врач, не психиатр и не психоаналитик, зато у него есть собственный маленький самолет. Кристиан ни много ни мало катал меня на своем самолете и даже научил им управлять. Когда пересказываешь эту историю в двух словах, она кажется невероятной, но именно так все и было.
Никогда не забуду своего первого урока. Как только мы поднялись в воздух, Кристиан заставил меня сесть на место второго пилота и показал все рычаги управления. Через некоторое время он вдруг сказал мне: «Давай ты». Я был очень взволнован и испуган, но решил взяться за непривычный руль... и сделал это! За три месяца я изучил основы пилотирования, и, когда понял, как управляется самолет, что такое турбулентность и воздушный колодец, какие существуют возможности выхода из различных ситуаций, что опасно, а что нет, страх растворился. На смену ступору и беспомощности, в которых я пребывал, оказываясь в самолете, пришло возбуждение от того, что я решился избавиться от своей проблемы. Сейчас я получаю удовольствие от пребывания в воздухе, это кажется мне забавным развлечением, и я не упускаю возможности полетать. Поэтому всем, кто испытывает аналогичный страх, я рекомендую при случае взять хотя бы несколько уроков пилотирования.
- Со мной такое бывает… Но я ни за что не отважусь на такие уроки! Я не смогу залезть в эту металлическую скорлупу с пропеллером…
- Страх тебя парализует, а ступор заставляет бояться. Я тебя уверяю, когда ты примешь решение научиться летать и запишешься на занятия в летной школе, твоя боязнь самолетов исчезнет, поверь мне!
- Если моя жизнь не прервется раньше… Я полагаю, что даже дрожь в коленках и усиленное сердцебиение прикончат меня раньше, чем я поборю свой страх…
- Нет. Это лишь довод испуганной части тебя, чтобы не принимать решение.
- А если пройдет один страх, а на его месте появится новый?
- К сожалению, твой вопрос весьма оправдан. Особенно часто так случается с невротиками, а все мы немного невротики... По крайней мере, и ты, и я...
Страхи всегда появляются из-за конкретных событий. Например, если в раннем детстве человек задыхался, показывая, как его душит и угнетает чье-то отношение или атмосфера, царящая в доме, то позднее, даже если его никто не будет обижать, у него могут случаться приступы астмы. Его организм научился выражать свое недовольство посредством бронхиальных спазмов.
Проще использовать какие-то старые привычки, чтобы выразить определенные ощущения, чем выдумывать новые. Также проще ошибочно оценивать явление, исходя из известных параметров, чем изменить свои предубеждения.
Многие путают безмятежность с депрессией. Иногда человек спокоен, но считает, будто он в ступоре. Люди, пребывающие в постоянной тревоге и тоске, отправившись в отпуск, расслабляются, и им начинает казаться, что они проводят всю свою остальную жизнь в депрессии. По возвращении они намереваются сходить к врачу, дабы тот прописал им что-нибудь «немного бодрящее».
Другая крайность — те, кто страшится испытывать возбуждение, они путают его с душевным волнением. Вместо того чтобы наслаждаться упоительными ощущениями, они направляются к шкафчику с лекарствами и пьют успокоительное... Я совсем не против успокоительных, но в подобных случаях я не считаю нужным использовать их, потому что одно дело — принять аспирин, когда у тебя болит голова, а другое — глотать по три таблетки в день, на случай если она вдруг заболит...
Может, тебе кажется это забавным, но это очень печально, человек, который так поступает, притормаживает процессы, важные для здоровья.
- Я понимаю людей, которые не выносят спокойствия, возможно, потому, что считаю себя одним из них, но неспособность насладиться остротой жизни беспокоит меня больше. Какой эффект оказывают успокоительные на людей, которые их принимают?
- Принимая по две-три таблетки в день на случай неожиданного волнения, я не даю эмоциональной потребности в реагировании перейти в возбуждение, а это нарушает мою способность к действиям, что негативно сказывается на здоровье. Когда меня спрашивают, может ли прием успокоительных привести к депрессии, я отвечаю, что нет, но это касается лишь прописанных врачом лекарств. Но если пить таблетки без разбору в течение длительного времени, можно получить депрессию, в основе которой лежит пассивность.
- А как избавиться от страха смерти? Тут-то нельзя предстать перед лицом того, что тебя пугает…
- Во-первых, страх смерти — это самый наглядный пример того, как человек боится плода своего воображения. Может показаться, будто страх смерти связан с неизвестностью, ведь никто оттуда не возвращался; но это не так. Мы боимся не самой смерти, а того, что мы о ней думаем. Поэтому вопрос: как превратить это в действие, предотвращающее страх?
- Такой страх есть у всех.
- Да, он архаичен. Но позволь ответить на твой вопрос. Если верно, что любой страх побеждается действием, то от такого страха, страха в чистом виде, тоже можно избавиться по тому же принципу.
Вот смотри. Единственное противоядие страху смерти — это действие, то есть жизнь. Все очевидно. Откуда берется страх смерти? Рождается из мыслей о том, что неожиданно все закончится, и мы не успеем выполнить задуманное. Исходя из этого, избавиться от страха смерти можно, прекратив размышлять о том, чего не произошло. Важно понять — надо действовать, и приниматься за дело!
Страх смерти близкого человека — что именно меня пугает? Наверное, то, что его не станет, не будет рядом со мной. Но почему? Наверное, потому, что я не все успел сделать для него, оставляя многое на потом.
Как хорошо было бы дать каждому близкому человеку то, чего он достоин, и таким образом отделаться от этого страха.
Разумеется, мы боимся думать, как невыносима станет жизнь без любимого. Несомненно, ощущение, которое испытывает человек, когда умирает тот, кого он любил, одно из самых ужасных, какие только можно себе представить. Ничего нет печальнее. И мы думаем о собственной смерти как о способе избежать такой боли. Мы так привыкли бояться огорчений, мы так привыкли пугаться боли, что иногда предпочитаем думать о смерти, а не о страданиях. К сожалению, а может, и к счастью, жизнь каждого человека не бесконечна, и поэтому рано или поздно все мы кого-то оставим или кто-то оставит нас. Нравится нам это или нет — я бы сказал, все же к счастью, — мы не вечны, отведенное нам время ограниченно.
И это осознание собственной недолговечности отличает нас от всех других живых существ. Факт нашей эфемерности — это факт, и нам надо научиться жить перед лицом этого факта, другой возможности нет.
- Звучит очень хорошо!
- Всякий раз когда ты испытываешь страх смерти, спрашивай себя, что еще из намеченного ты не совершил... Осознав это, лучше сразу же перестать терять время на болтовню с Букаем и сделать то, что все время откладывал... Это шутка, но в ней есть доля правды…
- Ты хочешь попрощаться?
- Да, на сегодня да.
- Один последний вопрос. Какие страхи самые распространенные?
- Мы боимся многого. Но страхи чаще всего комбинируются. Это хорошо объясняет известная писательница, автор книг по популярной психологии Сьюзен Джефферс.
В целом страхи можно разделить всего на три группы. Это базовые врожденные страхи у каждого из нас.
- Например, боязнь, что на нас нападут…
- Реакция на нападение или внешнюю опасность первична, но это испуг, а не обязательно страх, помнишь? По сути, нападение вызывает инстинктивную реакцию, о которой мы говорили с самого начала. Мы реагируем подобным образом, поскольку произошли от одноклеточных организмов. Итак, страх нападения — это не реакция на внешнюю опасность, это более сложное ощущение: боязнь события, которое еще не произошло. Но это не базовый страх. Другие идеи?
- Смерть, как мы уже говорили.
- Страх смерти в некоторой степени присутствует у всех нас. Он универсален, а не только твой личный. Кроме того, потом мы увидим, что это сочетание нескольких страхов.
