
- •Социокультурный код и литературные герои детства
- •Часть 1
- •Оглавление
- •Предисловие
- •Введение
- •Глава 1. Страшная тайна «русского социокультурного кода», или почему Буратино совсем не похож на Пиноккио*
- •Зачем Толстой написал предисловие
- •Буратино и Пиноккио: двоюродные братья или близнецы?
- •Буратино – наш культурный архетип?
- •Нос как доминантная характеристика личности
- •«Вертикальные» и «горизонтальные» слои сюжета
- •Образ Буратино как часть нашего импритинга
- •Глава 2. Друзья и враги Буратино, или кто окружает нашего героя сказки Второстепенные персонажи сказки
- •Кто такая Мальвина?
- •Провожу кастинг девушек с голубыми волосами.
- •Ужас на коротких лапах
- •Как создать образ своего ужаса: монстродизайн
- •Экстерьер врага
- •Аватары Буратино
- •Глава 3. Что видим при внимательнном чтении сказки Архетипические слои текста
- •Сюжет «Золотого ключика» и архетипы древнерусской и мировой культуры
- •Топология пути (хронотопика сказки)
- •Трансперсональный подход к изучению текста
- •Буратино с точки зрения соционики
- •Мои случаи импритинга
- •Забавная нумерология «Золотого ключика»
- •2 Раза:
- •3 Раза
- •4 Раза
- •Глава 4. Суровые реалии мира взрослых для детей Эволюция обмана, или судьба социальных технологов в России
- •Лечение и врачи глазами бывшего больного ребёнка
- •Правила бегства, или почему Пьеро скачет верхом на зайце
- •Заключение
- •1Примечания
Малофеев Н.М.
Социокультурный код и литературные герои детства
Часть 1
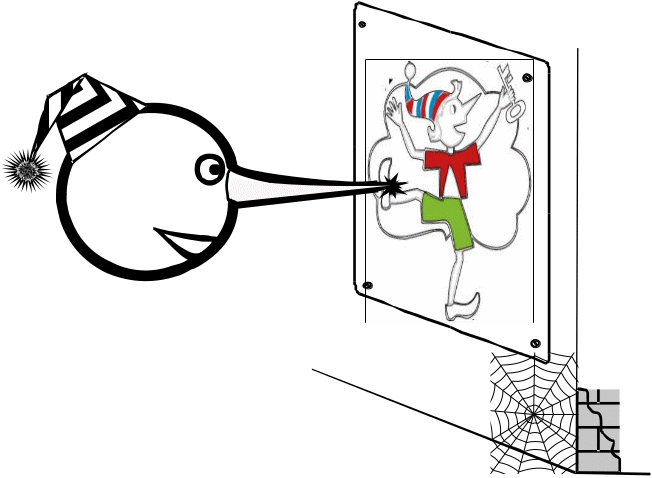
КРАСНОЯРСК
2011
Рецензенты:
Доктор педагогических наук, профессор Осипова С.И.
Доктор философских наук, профессор Грицков Ю.В.
Кандидат исторических наук, доцент Бакшеев А.И.
Малофеев Н.М.
Социокультурный код и литературные герои детства/ Н.М.Малофеев; Красноярск, гос.аграрный ун-т. – Красноярск, 2012.
© Малофеев Н.М., 2012
©Красноярский государственный аграрный университет, 2012.
Оглавление
Оглавление 3
Предисловие 4
Примечания 300
Введение 12
Глава 1. Страшная тайна «русского социокультурного кода», или почему Буратино совсем не похож на Пиноккио* 19
Зачем Толстой написал предисловие 20
Буратино и Пиноккио: двоюродные братья или близнецы? 22
Буратино – наш культурный архетип? 30
Нос как доминантная характеристика личности 36
«Вертикальные» и «горизонтальные» слои сюжета 50
Образ Буратино как часть нашего импритинга 60
Глава 2. Друзья и враги Буратино, или кто окружает нашего героя сказки 67
Второстепенные персонажи сказки 67
Кто такая Мальвина? 74
Ужас на коротких лапах 90
Аватары Буратино 126
ГЛАВА 3. ЧТО ВИДИМ ПРИ ВНИМАТЕЛЬННОМ ЧТЕНИИ СКАЗКИ 138
Архетипические слои текста 138
Сюжет «Золотого ключика» и архетипы древнерусской и мировой культуры 140
Топология пути (хронотопика сказки) 171
Трансперсональный подход к изучению текста 184
Буратино с точки зрения соционики 188
Мои случаи импритинга 196
Забавная нумерология «Золотого ключика» 201
Глава 4. Суровые реалии мира взрослых для детей 223
Эволюция обмана, или судьба социальных технологов в России 223
Лечение и врачи глазами бывшего больного ребёнка 256
Правила бегства, или почему Пьеро скачет верхом на зайце 286
Заключение 293
Примечания………………………………………………………………………..284
Памяти Томочки, жене и другу
Абрамовой Тамаре Ивановне,
которая ушла, забрав лучшую часть моей души.
Предисловие
С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается,
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.
С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой березки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растёт.
А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги просёлочной,
Которой не видно конца.
С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали,
Со старой отцовской буденовки,
Что где-то в шкафу мы нашли
А может, она начинается
Со стука вагонных колёс
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своём сердце принёс1.
Данный текст появился, как и многое другое, наверное, на свете, достаточно случайно. Конечно, появлялись у меня определённые вопросы: почему мы отличаемся от других народов, что является «коренным», определяющим наш менталитет и т.д. Но это как-то зрело во мне без особых выходов «на свет».
Но однажды на одной из лекций заезжего визит-профессора, я узнал о некоей книге про героев детских сказок – «маленьких человечков». Это меня очень заинтересовало, и, когда читал лекции в СФУ Марк Наумович Липовецкий, составитель и, один из авторов сборника «Весёлые человечки: культурные герои советского детства», и явилась возможность её приобрести и, наконец, с большим удовольствием прочитать.
Меня сразу поразили в этой книге две стороны: внимательное серьёзнейшее отношение к персонажам нашего детства и неакадемический, свободный стиль изложения.
Также меня привлекло явное проявление любви и какой-то благодарности ко всем книгам и мультфильмам, виденным авторами и мной тоже в ещё самом раннем возрасте. Читая эту книгу, ты сам погружаешься в далёкое время, когда и небо было гораздо синее, мороженое вкуснее, футбол зрелищнее и даже девушки были куда как более привлекательными. Во всяком случае гораздо моложе. Такая маленькая индивидуальная «машинка времени».
Но, прочитав и перечитав по нескольку раз многие статьи сборника, увидел, что не всё было раскрыто, многое осталось недостаточно выявленным. Многое всё же осталось «за кадром».
Но это говорится не в упрёк. Скорее, это был некоторый интеллектуальный вызов – вот мы умы, а вы… увы? Мол, вам не слабо?
Как в детском стишке: «А у нас в квартире газ, а у вас? - А у нас – водопровод, вот!». Вот так и стал писать сначала статью. Потом другую. Но получился, конечно, не цикл научных статей, а, скорее, «обнаученных» эссе.
Ведь что такое эссе (от французского essai ̶ «попытка, проба, очерк»)? Это жанр прозаического сочинения небольшого объёма и свободной композиции. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы.
В отношении объёма и функции эссе граничит, с одной стороны, с научной статьёй и литературным очерком (с которым эссе нередко путают), с другой – с философским трактатом. Эссеистическому стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность, нередко антитетичность мышления, установка на интимную откровенность и разговорную интонацию. Вот такой стиль у меня как раз и получился.
Почему-то меня ещё ранее привлекал образ Буратино. Уж больно часто он упоминается в совершенно неожиданных видах и сочетаниях. А уж как герой анекдотов – мог поспорить со многими другими фольклорными персонажами, такими, как, например, Чапаев.
А тут в Красноярске в конце 2009 года, несмотря на постоянный галдёж климатологов о глобальном потеплении, грянули серьёзные морозы крепко за сорок градусов. Занятия все отменили, из дома лишний раз носа не высунешь, вот я и засел за компьютер. И текст стал постепенно обретать свои очертания.
С чего я начал?
Поскольку родоначальником была книга о Пиноккио, я попытался сопоставить, сравнить два текста – Толстого и Коллоди.
Потом стали появляться и другие вопросы. Например, почему Мальвина такая отчаянно голубая, какова роль длинного носа в культуре, технология обмана Алисы с Базилио или как с точки зрения соционики относятся друг к другу остальные четыре члена команды. Почти как команда… мушкетёров!
Кстати, по-французски носатый Д' Артаньян, конечно, сам Буратино. Он тоже весёлый авантюрист, и как истый гасконец, немножко хитрован и бахвал, любит куролесить, но дружба для него не пустой звук.
Портос – это наш красавец пудель Артемон. Он очень много уделяет времени своей внешности: выстригал себе половину туловища, кисточка на конце хвоста франтовато была перевязана черным бантом, на передней лапе – часы. Причём уточняется – они были настоящие, серебряные, а не какая-нибудь дешевая китайская дребедень. А самое главное, для Портоса была очень важна дружеская атмосфера, он был настоящим верным другом в четверке мушкетёров. Cобачья верность вошла в поговорку – «собака друг человека». И не очень любит попусту рассуждать – «дерусь, потому что дерусь!».
Пьеро, конечно, – весь полный любовных томлений утончённый Арамис. Он так и стремится в мир служения, в мир тонких чувств. Он изящен и презирает всё мирское. Его так легко увидеть с томиком лирических стишков в руках. Или книжкой по проблемам какой-нибудь декадентской филологии.
Ну, а кто же тогда Мальвина?
Однако вспомним, как она упрямо заставляла наших героев следовать нормам поведения (чистить зубы, правильно сидеть за столом, не горбиться, не есть руками, аккуратно пить какао, и т.д.). Как она занималась воспитанием Буратино, какой она была фаталисткой. Такое же неуклонное, просто «железное», соблюдение в любых условиях всех писанных и неписанных правил приличия подходит скорее… для графа де ла Фер, в просторечии Атоса. (А всё-таки забавно было бы представить актёра Вениамина Смехова в голубом паричке!).
Конечно же, наш старый добрый папа Карло – это ворчливый капитан мушкетёров, благородный добряк де Тревиль, гордящийся своим храбрецами.
Противники наших героев: Алиса – коварная обаяшка миледи, со своим подручным дуболомным Базилио (Рошфором). Кардинал Ришелье – доктор кукольных наук Карабас Барабас, а жалкий Дуремар – скорее, одиозная фигурка короля Людовика под каким-то своим очередным двухзначным номером.
Владелец харчевни «Трёх пескарей» здорово напоминает упитанного лавочника мосье Бонасье, а его жена Констанция – скорее, красивого, эффектного, но немного глуповатого… (да, да!) петуха при этой харчевне. Кстати, именно горластый петух (по латыни – gallus) является неформальным символом Галлии, как в древности именовали Францию, жителей которой римляне шутливо называли петухами, то есть галлами. Так имперский Рим «отпетушил» и унизил жителей завоеванной им страны. Потом петуха всё-таки стали официально заменять скульптурными образами «девы Марианны», с обликами красавиц – от Брижитт Бардо и до Катрин Денёв. А французы всё равно, пусть даже через 2 тысячи лет, отомстили «победами» в кино пузана Астерикса-Депардье и его вечно полупьяного дружка Обеликса над завоевателями. Мол, трепещи, надменный Рим! Петушня идёт!
Ну, хорошо, согласится читатель, а тогда что напоминает сам Золотой ключик?
Под этот странный артефакт подходят пресловутые алмазные подвески, ведь именно из-за них происходят все перипетии всех героев. Они «двигатель» сюжета про весёлых и отважных мушкетёров. Поэтому перезрелая королева Анна у Дюма выступает в сказке Толстого как добрая старушка Тортила, у которой и хранились эти побрякушки из брюликов.
Но это французские параллели. А, с другой стороны, можно провести параллели и с русской литературой. Например, с Николаем Васильевичем Гоголем.
Как замечает Игорь Золотусский: «Гоголь – поэт ночи: «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь, или Утопленница». На ночь падают фантастические события «Сорочинской ярмарки», ночью совершается убийство в «Вечере накануне Ивана Купала», месть в «Страшной мести». По ночам морочат черти героев в «Пропавшей грамоте» и «Заколдованном месте»1. Ночью происходят события на Невском проспекте, ночью размышляет Гоголь у театрального разъезда и т.д.
И в «Ключике», заметим, многие основные сюжетные ходы повести тоже происходят ночью. Первая встреча с Шушарой, нападение страшных разбойников, суд и казнь Буратино в пруду, получение ключика, встреча с Пьеро. А за дверцу у нарисованного очага нет ходу ни Карабасу Барабасу, ни полицейским. Оно для них заколдовано.
Почти как у Николая Васильевича.
Также идея дома, родины составляет капитальную идею «Вечеров на хуторе близ Диканьки»… Зло, по мысли Гоголя, безродно, добро всегда имеет дом и родину2.
И в сказке отцовская каморка является начальным и конечным пунктом всех путешествий Буратино, именно из неё ведёт путь в новую жизнь. В неё уже нет входа злодеям. Это маленькая крепость, основанная на любви.
Можно отметить, что «Хлестаков есть нарушение традиции, разрушение стереотипа, он полная аномалия в представлениях о ревизоре и ревизующих»3. А наш общий нарушитель спокойствия Буратино – тоже всё делает не так, он нарушает все мыслимые рамки и становится победителем.
Да, Буратино мал, ничтожен, кукольно смешон, и сказка вроде бы для детей самого младшего возраста. Но вот что Фёдор Михайлович Достоевский говорил о самом Гоголе: «Он из анекдота о пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужаснейшую трагедию».
Сам Гоголь 28 декабря 1840 году в письме к С.Т. Аксакову писал: «…немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет» (выделено самим Гоголем. – Н. М.).
Или в статье «Несколько слов о Пушкине», вошедшей в «Арабески», он пишет: «Чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное…».
***
Мои тезисы росли и росли, хотя я даже не думал о их публикации. Просто выкладывал на монитор постепенно некие слова, которые становились абзацами. Часто многие мысли появлялись тоже ночью, поэтому привык спать с карандашом и бумагой. Иногда потом утром гадаешь, что там начеркал в темноте.
Когда текст стал разрастаться как тесто на дрожжах, я стал показывать его всем желающим, желая получить какую-то оценку.
Пообщавшись с нашими филологинями, я почувствовал, что мой объект очень мал, несерьёзен, неотёсан, носат и вообще не наш человек. А это моё занятие вообще называется у них через губу презрительно – «кухонная филология».
Как всегда, можно заручиться помощью классика. Например, снова Гоголя. Отвечая критикам, он пишет в «Театральном разъезде»: «Побасенки!.. А вон протекли веки, города и народы снеслись и исчезли с лица земли, как дым унеслось всё, что было, – а побасенки живут и повторяются поныне»4.
Побасенки и являются символом ментальной независимости, нонконформизма, противостояния любой Системе. Они – искорки инакомыслия и свободы.
Так вот, господа филологи! Этот текст касается вопросов культурологии, социальной психологии, социологии, педагогики и других естественных и противоестественных наук, а не собственно филологии. Так что не напрягайтесь, не пружиньтесь, уймите свой праведный гнев.
Но однажды в декабре 2009 года и тоже случайно я разговорился на одной педагогической конференции (куда меня тоже случайно записали!) с одним московским социологом – Владимиром Самуиловичем Собкиным. Ему мои путаные тезисы показались небезынтересными. А поскольку у них готовился сборник, то, если успею, до середины января могу прислать более аргументированные соображения. Я напрягся и, кажется, успел. Ну, думаю, через годик-другой можно будет поинтересоваться о публикации в следующей пятилетке.
Но уже в апреле через 2 месяца(!!) на другой конференции Собкин вручил мне авторские экземпляры сборника «Социологии образования» с моей статьёй. Поэтому я ему благодарен не только за удивительную скорость публикации, сколько за уважительную серьёзность отношения к затрагиваемой мной теме.
Мне тоже показалось, что моя работа может быть интересна и другим. Особенно студентам и аспирантам.
Конечно, со многим можно (и даже нужно!) не согласиться. Многие мои оценки субъективны и пристрастны, некоторые грешат недостаточной обоснованностью. Это так. Но ведь ещё Марина Цветаева написала целое исследование со страстным названием «Мой Пушкин»5. И я вслед за ней могу сказать «мой Буратино», как и многие-многие другие читатели этой сказки. У них он тоже «свой», как и у миллионов бывших советских детей.
Ведь заново перечитывая книжки своего детства, мы прикасаемся к тайне чтения, это – невидимое познание себя в другом. А это может дать только прикосновение к основным источникам становления себя. Как известно, все мы родом из детства.
А что является главным в нашем детстве?
Ну, конечно, это сказки!
«Что за прелесть эти сказки», – восклицал сам Александр Пушкин.
Я же выбрал только одну-единственную сказочную повесть – «Золотой ключик, или приключения Буратино» Алексея Толстого.
Почему же именно ее?
Ну, во-первых, из-за самого весёлого и ужасно симпатичного героя. Во-вторых, книга может читаться как в самом раннем детстве, так и в более позднем, подростковом. Есть издания даже для пап и мам.
И, наконец, повесть актуальна и в наше время. Ситуации и образы книги очень и очень современны.
Поэтому я считаю, что «Золотой ключик» – это важнейший учебник по науке взросления для ребёнка, закладывающий, пока небольшие и совсем незначительные факторы, которые потом становятся основными ведущими явлениями нашей русской культуры.
Ведь представление о мире для ребёнка подчас важнее, чем сам мир. Который ему пока ещё мало знаком.
Кроме того, я старался более-менее сделать способ изложения и язык понятными для студентов 1 – 2-го курсов и по возможности интересным. Если это язык не Пушкина, то по крайней мере, стиль Пелевина. Главное, изложение было бы нетривиальным и нескучным. Что из этого получилось, судите сами.
Эта книга явилась для меня основным лекарством от депрессии, особенно после некоторых печальных событий в личной жизни. А также в послеоперационный период. Работа, как оказывается, очень хороший лекарь, как и время. Хотя многие женщины тут же резонно замечают: время – лекарь-то хороший, но плохой косметолог.
Автор также благодарит доктора педагогических наук, профессора С.И. Осипову и доктора философских наук, профессора Ю.В. Грицкова за вдумчивую конструктивную критику, доктора философских наук, профессора В.В. Павловского за терпение прочитать текст, найти ошибки и за радикальный совет публиковать его. Большая благодарность заведующей кафедрой общей и социальной педагогики профессору А.К. Лукиной, дружеское мнение которой и своевременная поддержка были для меня очень ценны.
Кроме того, надо отметить также тех студентов, которые вынуждены были терпеливо слушать мои экспромты о Буратино на занятиях.
Автор будет благодарен за конструктивные и даже отрицательные отзывы, которые можно посылать по адресу: nikolmif@mail.ru
