
- •1. Самопомощь созданием собственных творческих произведений
- •2. Самопомощь творческим общением, с литературой, искусством и наукой
- •3. Самопомощь творческим общением с природой
- •4. Самопомощь творческим коллекционированием.
- •5. Самопомощь проникновенно-творческим погружением в прошлое
- •6. Самопомощь творческими путешествиями
- •7. Самопомощь творческим поиском одухотворенности в повседневном
- •О чувстве общественной полезности и светлом мироощущении, духовности
- •Духовность
- •Богу или маммоне
- •«В зимний морозный день...»
- •«Поднимает душу из печали»
- •Психотерапевт Лес
- •О тоскливом переживании смерти близкого человека
- •Бурно а. А., Бурно м. Е. Краткосрочная терапия творческим рисунком (пособие для психотерапевтов)
Бурно М.Е.
О ТЕРАПИИ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАЖЕНИЕМ
Т ерапия
творческим самовыражением (ТТС) –
психотерапевтический (психопрофилактический)
метод, способный серьезно помочь прежде
всего людям с тягостным переживанием
своей неполноценности. Этим методом
могут овладеть, как показала жизнь, не
только врачи-психотерапевты, но
и психотерапевты с не-врачебным образованием
–
овладеть по-своему, то
есть со своими особенностями. Однако
это возможно лишь тогда, когда
психотерапевт,во-первых, способен
искренне сочувствовать людям, переживающим
свою неполноценность; во-вторых, испытывает
живой интерес к духовной культуре
и,в-третьих, стремится
помочь человеку выразить
себя целебно-творчески сообразно
его природе.
ерапия
творческим самовыражением (ТТС) –
психотерапевтический (психопрофилактический)
метод, способный серьезно помочь прежде
всего людям с тягостным переживанием
своей неполноценности. Этим методом
могут овладеть, как показала жизнь, не
только врачи-психотерапевты, но
и психотерапевты с не-врачебным образованием
–
овладеть по-своему, то
есть со своими особенностями. Однако
это возможно лишь тогда, когда
психотерапевт,во-первых, способен
искренне сочувствовать людям, переживающим
свою неполноценность; во-вторых, испытывает
живой интерес к духовной культуре
и,в-третьих, стремится
помочь человеку выразить
себя целебно-творчески сообразно
его природе.
В этом разделе изложены самые начала, элементы метода – даже, точнее, его аромат, который необходимо уловить для последующего более углубленного изучения ТТС по другим работам, к примеру, указанным в тексте, а также на специальных лекциях, семинарах и в психотерапевтической мастерской.
Терапия творческим самовыражением (ТТС)
Расскажу здесь о том, как могут помочь себе люди с разнообразными душевными трудностями, описанными в работе «Эмоционально-стрессовая психотерапия». Эти трудности есть расстройства настроения с нерешительностью, ранимостью, стеснительностью, тревожностью, страхами, навязчивостями, болезненными сомнениями, мнительностью, сверхценностями, ипохондриями и т. п.
Особые психотерапевтические приемы, описанные здесь, серьезно помогут в тех случаях, где указанныерасстройства-трудности проникнуты переживанием своей неполноценности, своей слабости страдающим человеком, то есть он дефензивен в противовес агрессивному. При этом пока еще часто нет явной патологии, а значит, нет еще и необходимости лечиться у врача. Но необходимость эта может возникнуть, если внутренние болезнетворные причины или пагубные обстоятельства жизни продолжают свою работу и если душевной самопомощью не предупреждается становление патологического расстройства, болезни.
Нередко напряженные люди смягчают себя курением, вином, самовольно-беспорядочно принимают успокоительные или возбуждающие лекарства. Все это, приглушая напряженность, «поджигая» вялость, немало вредит организму.
Здесь речь пойдет о безопасно-мощных психотерапевтических приемах борьбы с расстройствами настроения, к которым возможно прибегнуть и не обращаясь к врачу. Это самопомощь культурными, духовными ценностями, творческим самовыражением.
Приемы традиционного элементарного самовнушения (которыми уже овладели с психопрофилактической пользой многие люди) давно вышли в жизнь, за стены медицинских учреждений, из специального психотерапевтического направления «Методы психотерапевтической тренировки (психической саморегуляции)» – так и приемы, о которых будет рассказано здесь, вышли из психотерапевтического направления «Терапия духовной культурой». Существо психотерапевтического механизма, лежащего в основе этого направления, есть творческое вдохновение, целебно просветляющее душу, смягчающее напряженность ощущением своих духовных особенностей, богатств, постижением смысла своей жизни. Психотерапевтическое воздействие такого рода В.Е. Рожнов (1985) называет «эмоционально-стрессовым» в широком смысле, в смысле «возвышающей» человека благотворной душевной взволнованности.
В выражении «эмоционально-стрессовое психотерапевтическое воздействие» может смутить слово «стресс». – Его не стоит бояться. Это только в житейских разговорах устоялось однобокое представление, будто стресс – вредоносный удар по человеку. Автор классического учения о стрессе Ганс Селье в своей книге «Стресс без дистресса» (М., 1979) сетует на эту однобокость: «В обиходной речи, когда говорят, что человек „испытывает стресс“, обычно имеют в виду чрезмерный стресс, или дистресс, подобно тому, как выражение „у него температура“ означает, что у него повышенная температура, то есть жар. Обычная же теплопродукция – неотъемлемое свойство жизни». Также и эмоциональный стресс –защитно-приспособительный подъем жизненных сил, вызванный эмоциональными воздействиями – может быть острым, «шумным» и внешне тихим в своей целебности и вредоносности.
Селье советует всякому человеку приобрести стойкий душевный подъем, насладительный стресс жизни. Он и сам прожил в этом состоянии долгую жизнь. Так нередко живут одухотворенные художники, артисты, ученые, влюбленные в растения садовники.
Эмоционально-стрессовое психотерапевтическое воздействие биологически основывается на благотворной лечебной работе эмоционального стресса. У разных людей по-разному, в зависимости от душевного и телесного склада и характера расстройств, формируется это целительное волнение-напряжение жизненных сил, и, стало быть, разными, иногда неожиданно найденными, тонко-поэтическими, способами приходится его вызывать.
Термин «стресс» вносит в понимание психотерапевтического дела биологический «подтекст», подчеркивает воздействие эмоционального напряжения на весь организм: работает биологическая ось Селье (гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников) с выходом в кровь «лекарств организма», внутреннего «эликсира жизни». Без специального психотерапевтического вмешательства это происходит с человеком, который влюбленностью исцеляется от недуга; с обреченным на смерть больным, который не умирает, пока в состоянии эмоционально-стрессовой увлеченности не допишет свою книгу; с солдатом, храбро защищающим Родину в сырости и холоде болот без всяких простуд мирной жизни.
Отечественный терапевт А. И Яроцкий еще до возникновения классического учения о стрессе (50-е годы нашего века) писал, в сущности, об этом же в книге «Идеализм как физиологический фактор» (Юрьев, 1908) Он понимал тут под «идеализмом» не философское направление, а охваченность идеалами, душевную приподнятость, мощно усиливающую сопротивляемость организма в отношении физических болезней.
С давних пор целители применяли различные лечебные приемы, поднимающие душу и, значит, тонус жизни (например, лечение музыкой, театральными представлениями в античные времена).
В 1887 г. в Казани, в заседании Общества врачей выступил акушер-гинеколог И.М. Львов с речью: «Душевные волнения как причина болезней и как терапевтическое средство». Он говорил, что заболевший серьезной внутренней болезнью человек должен быть захвачен какими-то интересными, веселыми делами, занятиями, хорошо бы ему иметь «хорошенький домик», где он был бы окружен заботливым теплом близких, – и тогда он скорее поправится.
О терапии творческой взволнованностью немало сказано и в художественной литературе, и в письмах писателей. Так, Чехов писал Суворину (18 августа 1893 года), что отдал Черткову «Палату № 6», «потому что перед весной и весной (...) находился в таком настроении, что (...) было все равно». И дальше: «Если бы он стал просить все мои произведения, то я отдал бы, и если бы он пригласил меня на виселицу, то я пошел бы. Этакое безличное и безвольное состояние держит меня иногда по целым месяцам. Этим отчасти и объясняется весь строй моей жизни». От расстройств настроения Чехов спасался прежде всего творчеством, творя, высвечивая в рассказах, повестях, пьесах свою индивидуальность и отодвигая, устраняя таким образом «безличное и безвольное состояние». Жалуясь Суворину на множество непрошенных гостей в Мелихове (8 декабря 1893 года), Чехов тревожился: «А мне надо писать, писать и спешить на почтовых, так как для меня не писать значит жить в долг и хандрить».
Терапия творческим самовыражением (с осознанностью своей общественной пользы, с возникновением на этой базе стойкого светлого мироощущения) есть разработанный мною специальный сложный метод из области «Терапия духовной культурой». Существо метода – в лечебном доступном преподавании пациентам азбуки клинической психиатрии, характерологии, психотерапии, естествознания в процессе разнообразного творчества пациентов.
Метод предназначен для лечения пациентов с разнообразными душевными расстройствами, проникнутыми тягостным переживанием своей неполноценности.
Уясняя себе свои душевные, характерологические особенности в общении с творчеством больше или меньше созвучных ему по складу души, переживаниям известных творцов, товарищей по лечебной группе, в общении с собственными творческими произведениями, в творческом общении с природой, припроникновенно-творческом погружении в прошлое, страдающий человек, постигая эти свои особенности (характерологические, хронически-депрессивные, невротические и т. д.), старается найти свой путь, смысл вдохновенного целебного самовыражения, – под руководством психотерапевта и используя опыт талантливых, гениальных творцов (всегда страдающих и стихийно, каждый по-своему, лечащихся творчеством).
Когда человек совершает что-то творчески, то есть по-своему и во имя Добра (ибо творчество есть созидание – в противовес разрушению), то оживляется его душевная-духовнаяособенность-индивидуальность, отступает тягостная тревожно-депрессивная каша-неопределенность в душе, и все это неизменно сопровождается светлым подъемом (творческим вдохновением), в котором живут вместе и Любовь (в самом широком смысле, в том числе мягкое, доброжелательное отношение к людям с поиском хорошего, доброго вокруг), и Смысл (зачем я? куда иду? откуда? во имя чего живу?). Биологическая основа такого подъема есть эмоциональный стресс в понимании Селье (защитно-приспособительныйвыплеск в кровь собственных благотворных, поэтически, философски «пьянящих» лекарств).
Психотерапевтическая помощь такого рода может быть временной, эпизодической, но идеал терапии творческим самовыражением – воспитать в себе целебно-творческий стиль жизни и проникнуться им, то есть испытывать постоянно (обычно это возможно после нескольких лет лечебных занятий) более или менее выраженное творческое вдохновение.
Составные части ТТС – индивидуальные беседы с психотерапевтом, домашние задания, группы творческого самовыражения в уютной психотерапевтической гостиной (с чаем, музыкой, свечами, слайдами и т. п.),психотерапевтический театр (как особая группа творческого самовыражения исполнительским творчеством) Благодаря всему этому пациенты в течение 2-5 лет учатся выражать себя творчески (в том числе и в своем профессиональном деле), сообразно своим особенностям, для непосредственного добра людям, наполняясь богатствами духовной культуры, все подробнее и глубже высвечивая, подчеркивая для себя своиобщественно-полезные особенности-способности, со светом в душе утверждаясь в «силе своей слабости».
I этап лечения: 1) самопознание («познай самого себя» – «nosce te ipsum», лат.) – изучение собственных болезненных расстройств, своего характера; 2) познание других человеческих характеров («каждому свое» – «suum cuique», лат.) – занятия по типологии характеров; изучение душевных расстройств.
II этап лечения: продолжение познания себя и других в творческом самовыражении («обретает силы в движении» – «vires que acquiriteundo», лат.), с осознанностью своей общественной пользы, с возникновением на этой базе стойкого светлого мироощущения – при помощи конкретных методик. Эти конкретные методики таковы:1) терапия созданием творческих произведений; 2) творческим общением с природой; 3) творческимобщением с литературой, искусством, наукой; 4) творческим коллекционированием;5) проникновенно-творческим погружением в прошлое; 6) ведением дневника и записных книжек;7) домашней перепиской с врачом; 8) творческими путешествиями; 9) творческим поиском одухотворенности в повседневном.
Я описал здесь кратко существо, содержание ТТС для того, чтобы всякому человеку легче было применять для самопомощи какие-то элементы, «крохи» этого сложного метода.
Итак, в чем же существо всякого (и в том числе целебного) творчества? В именно своем, индивидуальном, а значит, всегда новом, свежем взгляде на вещи, в самобытном отношении к ним.
Художественное отношение к жизни, в отличие от научного, обнаруживает не только особенностьмышления-суждения, но и свое личностное, индивидуальное переживание по поводу каких-то событий, отношений с людьми, с природой. В этом смысле не только стихотворение или акварельный пейзаж, но и всякий творческий фотографический снимок или слайд есть автопортрет автора. Пришвин писал: «Пейзажем называется совокупность животных, растений, камней и всяких других составных частей природы, отнесенных к личности человека» (Пришвин М. Незабудки. – М.: Художественная литература, 1969, с. 84).
То есть выразить себя творчески – это выразить свое отношение, например, к природе, к строительству дома, выразить себя в работе учителя и ветеринара, плотника и коммерсанта; в письме знакомому, в очерке, в беседе с человеком, в записной книжке, в чтении чеховского рассказа. Творчество проясняет, очерчивает, строит и утверждает личность автора. Человек с расстройствами настроения, как уже отмечено, в процессе творчества обретает себя, свою определенность, выбираясь из душевной разлаженности, болезненной растерянности, тревоги-неопределенности.
Как полагает в своей книге «Мозг, психика, здоровье» (М., 1972) автор концепции вероятностного прогнозирования И.М. Фейгенберг – эмоциональная напряженность, тревога обусловлены не столько самой ситуацией опасности, сколько «неопределенностью дальнейшего развития событий», при которой человек, готовый к разнообразным действиям, «не знает еще, какие именно действия понадобятся». Творческое состояние души вносит в смятенную, аморфную душу известную определенность (в том числе, если не прежде всего, определенность прогноза), практически выражающуюся хотя бы в осознании того, кто есть я, чего стою, что умею, что должен делать в жизни, и в какой ситуации что, вероятнее всего, буду чувствовать и как буду поступать.
Человек творящий невольно и постоянно ищет для своего творчества, для преломления в своей самобытности, материал всюду вокруг себя и в своих переживаниях тоже, даже в горе. И потому он защищен надежнее, нежели человек страдающий, но нетворческий.
Психотерапевт средствами своей души высвобождает в больном человеке целебные силы природы. Это весьма сложное дело, требующее специального образования, опыта, известных врожденных способностей. Врач профессионально знает, как именно (например, творческим самовыражением) помочь человеку в зависимости от особенностей его характера, клинической картины.
В уютной лечебной группе с чаем, музыкой, свечами пациент узнает о своих болезненных расстройствах и о том, как их возможно смягчать, узнает о разных человеческих характерах, общаясь с другими пациентами группы, вглядываясь в иные болезненные расстройства и характерологические структуры, в иные, так сказать, «стили жизни», изучая их вместе с психотерапевтом. Пациент в процессе серьезной (при всей ее внешней праздничности) работы учится понимать, чувствовать в этой камерной лаборатории жизни, кто чем силен и слаб, в чем «сила слабости» и даже тягостных симптомов, что есть для него истинные ценности, как с кем вести себя для обоюдного блага, как щадить ранимость людей, как рассмотреть в людях хорошее, как даже скверные желания, преобразив, направить к добру.
Познавая людей в живом общении и через предметы их творчества (слайды, рассказы и т. д.), узнаешь глубже себя самого со своими способностями,особенностями, недостатками, дабы ярче себя применить для общественной пользы, проникнуться светлым мироощущением. Таким образом, существо ТТС – это помочь глубинно понять себя, найти главное душевное дело свое, в котором целебно выразишься и возвысишься с пользой для людей вокруг, обретя смысл жизни.
Целебное оживление творческих способностей, сил человека, думается, есть самое жизненное и порою единственно серьезное, помогающее страдающему, медицинское вмешательство, хотя для несведущего человека это вроде бы совсем и не медицина. Воздействия такого рода бывают настолько сложны, что нередко производятся опытным психотерапевтом (во всяком случае, поначалу) интуитивно, но истинная интуиция – это ведь, в отличие от инстинкта, сгущенный опыт в своем деле, лишь поначалу не осознаваемый в каждый момент в своих деталях.
Психотерапевт, врачующий в подобном духе, по необходимости есть «научный художник». Холодными и горячими внушениями, самовнушениями, разъяснениями, наставлениями во многих случаях невозможно помочь пациенту понять и почувствовать, как и что ему делать для смягчения тягостной напряженности. В процессе терапии творческим самовыражением врач вынужден побуждать к творчеству пациентов, людей с душевными трудностями, в том числе и собственной творческой индивидуальностью, собственным творческим переживанием. Этим объясняется, быть может, необычная для других медицинских работ, но насущная здесь, научная художественность изложения, изображение лечебного переживания психотерапевта, в том числе в его психотерапевтических рассказах, пьесах.
Психотерапевтические приемы, подобные приемам ТТС, рассыпаны в психотерапевтическом мире под названиями: «эстетотерапия», «арттерапия» (терапия искусством, преимущественно изобразительным), «терапия занятостью», «терапия творчеством», «музыкотерапия», «библиотерапия» (терапия книгой), «ландшафтотерапия» и т. д. Многие психотерапевты заняты терапией духовной культурой, творчеством, но лишь немногие здесь работают в духе нашей отечественной традиционной медицины, то есть достаточно подробно, проникновенно отправляясь от клинической картины душевного страдания, личностного своеобразия пациентов, дабы лечебно способствовать самозащитным природным силам пациента, заложенным и в самой картине болезни.
Реалистический психотерапевт помогает себе и своим пациентам проникнуться убежденностью в том, что каждый человек (здоровый или больной) ограничен и одновременно силен своими особенностями, что для каждого – свое, лишь бы преобладало доброе, нравственное начало.
Мы не должны никому никогда прощать аморальность, цинизм, откровенное хамство, но должны бытьсдержанно-снисходительны, по-доброму внимательны к человеческим слабостям, юношеской неопытности, неразвитым вкусам. Важно понимать, что и в большом, и в малом, особенно в наше время насыщенности мира смертоносным оружием, высшая ценность – это ценность нравственная. Она и должна быть точкой отсчета.
Духовно-радостно познать, прочувствовать, что человек, не согласный с тобой, не похожий на тебя,по-своему прав, и эта его правда может добром служить людям.
Итак, терапия творческим самовыражением серьезно сообразуется с особенностями клинической картины и характера страдающего человека. Не стану, однако, здесь входить в характерологические особенности, трудности людей. Это сделано выше, в специальном разделе. Здесь же будем отправляться, в попытках помочь себе «крохами» терапии творческим самовыражением, от тех душевных трудностей, расстройств, о которых уже рассказано, и из более или менее ясного философского представления дефензивных людей о силе своей слабости.
Не входя в характерологические подробности, отмечу две полярные характерологические структуры –авторитарную (авторитарно-агрессивную) и дефензивную (пассивно-оборонительную), свойственную так называемым «слабым» людям (с переживанием своей неполноценности). В этой «слабости» есть своя сила.
Об этом важно поговорить подробнее, поскольку терапия творческим самовыражением, в своемврачебно-квалифицированном виде (для больных людей) и в упрощенно-домашних, профилактических, формах (для здоровых с душевными трудностями), как отмечено выше, особенно помогает дефензивным («слабым»). «Слабым», дабы успешно лечиться или прибегнуть к психопрофилактической самопомощи, описанной здесь, в порядке целебного самопознания необходимо разобраться в своей «слабости».
О силе слабых
Г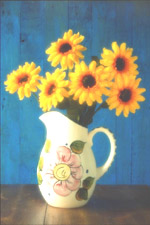 лубокая
человеческая любовь к детям, родителям,
к близким людям, к своему делу и другие
формы истинной, духовной, любви имеют
общее неотъемлемоесвойство-способность –
принести себя в жертву ради этой любви.
лубокая
человеческая любовь к детям, родителям,
к близким людям, к своему делу и другие
формы истинной, духовной, любви имеют
общее неотъемлемоесвойство-способность –
принести себя в жертву ради этой любви.
Это свойство имеет свой прообраз и в жизни животных. И в животном царстве, как известно, мать нередко не жалеет жизни, защищая, спасая своих детей. Но особенно нежной, ласковой, жертвенной заботой друг о друге отличаются животные меланхолического темперамента («слабого типа высшей нервной деятельности» – в павловской физиологической терминологии).
Например, меланхолические кошки и собаки к хозяевам своим привязываются крепче и теплее, нежели животные других темпераментов. Пугливый ласков, привязчив, и в этой незащищенности – своя попытка защиты.
Основная поведенческая реакция меланхолических («слабых») животных в опасности – этопассивно-оборонительная реакция, то есть стремление, поджав хвост, удалиться из неприятной ситуации, тогда как «сильные» животные ведут себя в опасности преимущественно агрессивно – нападают, оскалившись.
У «слабых» животных обычно плохо, медленно вырабатываются рефлексы, помогающие выжить. «Сильному» животному (холерическому, сангвиническому, даже флегматическому) достаточно бывает один раз увидеть со стороны, как хищник или человек поймал, убил животное того же вида, чтобы в другой раз, завидев врага, спасаться или нападать (так называемый «рефлекс зрителей»). Этот «рефлекс зрителей» вяло вырабатывается у меланхоликов, и они гибнут, вымирают иногда целыми видами.
Так погибли в XVIII веке морские коровы Стеллера. Эти крупные морские млекопитающие, длиною до шести метров, громадными стадами мирно паслись под водой у берегов, питаясь морской травой, не выходя на сушу, не уходя далеко от берега. К ним можно было подплывать на лодке, когда они паслись на мелком месте, втыкать в спину между ребрами крюк, привязанный к канату, и вытаскивать животное на берег. При этом, как заметили очевидцы, морские коровы были чрезвычайно друг к другу привязаны. Например, самец следовал за пойманной самкой к берегу, когда ее тянули канатом; старался с нежной беспомощностью освободить ее, хотя его при этом били с лодки; иногда на другой и на третий день сидел над ее мертвым телом.
Исчезли от своего несовершенства морские коровы и многие другие меланхолические животные. Но в процессе эволюции перешел и к человеку «спрятанный» в пассивно-оборонительном реагировании зачаток, прообраз самоотверженной привязанности, любви к ближнему. Особенно глубокой совестливостью и связанной с ней духовной, нравственно-размышляющей углубленностью, звучащей в обыденной жизни, в научном или художественном творчестве, отличаются люди именно меланхолического темперамента (например, Дарвин, Павлов, Чехов). Потому и сохраняется в мире пассивно-оборонительная «слабость»: за этой маской врожденной физической неуклюжести и непрактичности кроются тесно с нею связанные задатки весьма уважаемых людьми качеств, которые развиваются, расцветают в общественной жизни – обостренная нравственность, совестливость, деликатность, а порой способность к тонкому анализу, незаурядное духовное творчество.
«Слабый» Гамлет слаб в практической (в широком смысле) жизни, не способен, например, к решительной мести убийством (обычной для его современников и соотечественников), потому что это не его удел. Его врожденные способности в другом – в остроумно-ясном, философически-нравственном объяснении людям сложных тайн жизни и смерти. Глубинное, нравственно-аналитическое, ответственное отношение ко всему живому, к таинственно-восхитительному естественному круговороту жизни и смерти мешает ему просто и сразу убить убийцу своего отца. Очень важно, кстати, «слабому» человеку видеть, понимать в себе тень Гамлета – именно для того, чтобы быть решительнее, благородно «практичнее» в опасности, защищая добро от зла: невиновного от несправедливости, Родину от врага.
Давно известно, что от расстройств настроения надо попытаться отвлечься работой, увлечениями. Но, по существу, чаще слово «отвлечься» тут не подходит. Терапия творческим самовыражением (в том числе в своих неврачебных, профилактических формах) — это не какой-то своеобразный «народный университет», в котором просто следует усвоить определенную сумму знаний. Главное здесь — в разнообразных творческих попытках найти созвучное себе, выразить свое личностное отношение к миру: в общении с искусством, природой, в коллекционировании, в создании предметов творчества и т. д.
Делается это для того, чтоб осознанно строить себя, свою личность, в борьбе с расстройствами настроения. Важно найти свои творческие пути к людям — во имя добра, проникнуться творчеством в своей профессии, осознать свою общественную полезность. Творчески самовыражаясь во имя общественной пользы, человек проникается светлым мироощущением.
Приемы самопомощи творческим самовыражением возможно попробовать применить к себе и к здоровому человеку с душевными трудностями. Если они и не подействуют существенно без лечебного общения с психотерапевтом, без специальной групповой работы в уютной обстановке (в целебном общении, в сравнении себя с другими нервными людьми легче найти свои способы самовыражения), то, во всяком случае — если нет острого душевного заболевания, психоза — они не повредят.
Эти приемы не заглушают, не нивелируют личностное переживание, в противовес некоторым лекарствам и психотерапевтическим методикам в духе «искусства быть другим», а, напротив, проясняют индивидуальность творчеством, дабы человек мог опереться на свою духовную особенность, выразить творчески свое переживание и тем смягчить тягостную напряженность-неопределенность.
Описываемые ниже приемы самопомощи творческим самовыражением, переплетаясь между собой, взаимно проникая друг в друга, «привязывают» нервного, вялого человека крепче к живой жизни, одухотворяют его.
1. Самопомощь созданием собственных творческих произведений
Создание собственных творческих произведений серьезно способствует высвечиванию личностного склада автора, оживлению индивидуальности. А это, как уже отмечено выше, всегда порождает в душе светлое вдохновение, вытесняя, ослабляя заволакивающие личность расстройства настроения.
Творческое произведение нередко не есть произведение искусства, науки, техники. Истинное произведение искусства, науки, техники служит, в конце концов, всему человечеству для нравственного, технического, биологического совершенствования. В этом смысле написанная непрофессионалом акварель, снятый фотолюбителем пейзаж, созданное для семейного торжества стихотворение, концерт художественной самодеятельности чаще всего не являются подлинным искусством — но все это может быть подлинным творчеством, если несет в себе духовную особенность автора или исполнителей и если эта особенность находит отзвук в душах читателей и зрителей (пусть немногих), отзвук во имя человечности, добра.
Создание творческих произведений — это не только писание стихов, рассказов, рисование картин, сочинение музыки. Это вообще все занятия, в процессе которых человек создает что-либо более или менее законченное с ясным отпечатком своей индивидуальности.
Можно по-своему, творчески приготовить кушанье, сшить одежду, связать варежки. Предметом творчества, искусства может быть камень, найденный в горах; понятно, его поэтические формы и переливы цветов сотворены самой Природой, но человек, проходивший мимо него вслед за многими другими людьми, ощутил своей духовной индивидуальностью созвучие с этим камнем, выбрал этот камень из многих других и показал через него себя людям. Человек заметил и подобрал в лесу сухой корень, похожий на неуклюжего медвежонка, и тем показал другим людям свое отношение к этому корню: как, по-своему, он видит кусок природы —другие люди испытали чувства, переживания, подобные тем, что испытывал он, глядя на этот корень, выделив его среди всего остального на лесной дорожке.
Нас также должно вдохновлять и то, что целебное создание произведений творчества может в некоторых случаях сделаться созданием истинных произведений искусства.
Если человек с расстройствами настроения не испытывает пока тяги к созданию каких-либо творческих произведений, следует попробовать начать с фотографического творчества, о чем расскажу на собственном опыте.
Как художник отправляется на этюды со своим этюдником, так я отправляюсь куда-нибудь с фотоаппаратом. Мой фотоаппарат — любимый мой механизм. Он для меня как живой. Берегу его от ударов, протираю от пыли мягкой фланелью, забочусь, чтоб удобно было ему лежать в фотографической сумке вместе с экспонометром, штативом и другими фотографическими предметами.
Что я, в сущности, делаю, когда фотографирую? Стараюсь оставить себе на память то интересное, что видел? — Не это здесь главное для меня. Этак можно, например, путешествуя по каким-то местам, накупить открыток этих мест. Если иногда так делаю, то это другая совсем область моей душевной жизни — область просто знания. Тут дело вот в чем. Фотоаппаратом я ищу всюду себя — то, что по-настоящему созвучно мне, моей душе. Потому снимаю лишь то, что мне близко.
Я этого не осознавал, конечно, когда в детстве ходил в овраг фотографировать коров. Но теперь смотрю на эти фотографии с коровьими мордами — и вижу в них свое тогдашнее детское послевоенное настроение.
Фотографическое творчество начинается там, где выражаешь себя, свое отношение к людям, вещам, природе. Такое выяснение, оживление своей индивидуальности через творчество дает душевную опору, целебное вдохновение даже в тяжелых болезненных случаях. Право, на что еще можно опереться, когда душевно расстроен, «рас-строен», то есть не ощущаешь себя цельного, когда распалась, взбаламутилась душа, превратилась запутанными переживаниями, страхами, навязчивостями, сомнениями в аморфное месиво? На что еще можно в это время так благодатно опереться, как не на свою духовную особенность, нравственно направленную к людям и выраженную, например, в твоем снимке или слайде?
Смягчение душевной напряженности, успокоение светлым возвращением к себе самому приходит нередко уже во время съемки, когда ищешь с фотоаппаратом созвучное себе и, например, заранее придумываешь и записываешь в книжку название будущего снимка. Например: «В лесу. Собачья петрушка среди недотроги после дождя». Или даже тут же записываешь в книжку маленький очерк к снимку. Успокоение, просветление наступает и при рассматривании своих слайдов или снимков в альбоме.
С., 46 лет, пишет мне, что вот он испытывает «беспредметное возбуждение и волнение, какое бывает перед экзаменами, но в таких размерах, что пахнет психиатрической больницей». И дальше: «Хорошо видно, что отвлечение не помогает. Что ни делаешь — получается просто сложение нагрузок (работа плюс болезнь). Немного печатал снимки — то же самое, но позже, по крайней мере, один из них (я его посылаю Вам) дал и дает лечебный эффект».
На обратной стороне выразительного снимка С. объяснил его содержание: «В эту осень жила у нас под домом кошка с двумя котятами. Прошел уже месяц и она знает, что мое появление означает вкусную еду и ничем ей не грозит, но близко не подходит, вообще не подходит. И вот я спрашиваю, в чем причина, а она отвечает, что таков характер...»
Творческая фотография — это вдохновенное творчество выбора (без пера, без кисти). Не расскажет, не объяснит творец толково, почему именно вот так повернул фотоаппарат, почему захватил в кадр то, а не это, откуда взялась мягкость, нежность в листьях. Он только может сказать, что не был равнодушен к тому, что снимал. А у нас впечатление, будто он, художник-светописец, какой-то своей особой душевной «энергией» осветил, одухотворил пленку и снимок.
Итак, когда снимаешь с лечебной целью, при всей необходимости элементарной фотографической грамоты, важно прежде всего предаться своему вдохновению от созвучия с тем, что снимаешь, и «писать» это вдохновение на пленке, как поэт пишет стихотворение, а композитор музыку.
Есть еще у фотографии особенное свойство, которого нет у других видов творчества. Смотришь на старую фотографию и понимаешь: Боже мой, ведь все это, действительно, так точно и было! И эта трава с этими цветками росли в прошлом веке. И такие платья носили женщины. В такие игрушки играли дети.
Фотоаппарат не способен выдумывать, в отличие от карандаша и кисти. Он только выбирает, высвечивает.
Вовсе не думаю, что я фотографический художник, что достоин, например, участвовать в настоящих, не любительских выставках художественной фотографии. Да и технически мои снимки несовершенны. Но тут дело в другом. Для меня важно, что у меня есть некая душевная особенность и я выразил, целебно укрепил ее в себе — в том числе и фотографией, которой предаюсь с детства, с тех пор, как родители купили мне фотоаппарат.
Подобно многим, я ощущаю по временам в напряженной суете нашей жизни тягостное ускользание своей индивидуальности, отчужденность от себя самого, ходульность-стандартность своего мышления и чувствования. Неприятно терять себя даже в усталости. И тогда возвращаюсь к себе, к свойственным мне живым радостям, переживаниям, очерчивая-подчеркивая собственную душевную особенность, например, съемкой или общением с моими, по-своему сделанными, снимками в альбомах. В моих занятиях фотографией с меня довольно того, что могу снять по-своему и что это важно, дорого созвучным мне духовно людям. А кому мои снимки-переживания не интересны — Бог с ним, я ищу и буду, пока живу, искать близких мне переживаниями людей.
Самое высокое в человеке — его творчество, то есть выражение себя в своем деле, небездуховно-трафаретная работа, а работа по-своему, с душой.
Качество творческой профессиональной работы тем выше, чем сильнее выражена в ней личностная особенность работника. Но если даже не повезло человеку в том смысле, что не лежит душа к «приевшемуся» профессиональному делу, в котором трудно и не хочется себя выражать, а поменять дело уж и поздно, и страшно, словом, делается это дело механически (хотя и от этого есть кому-то польза), — то остается стремиться к творческому самовыражению на досуге. Иначе как жить в возникшей аморфной душевной напряженности или суете-маяте? Не глушить же туманно-тягостную безликость вином, обжорством, возбуждающими фантазии ядами, поиском отвлекающих от дурного настроения дорогих вещей?!
Скромный фотоаппарат многим доступен сейчас, и возможно самой дешевой, старой, «комиссионной» камерой выбирать свое, созвучное себе, проясняя, укрепляя, просветляя душу, индивидуальность, как возможно писать и рисовать по-своему даже огрызком старого, никому не нужного карандаша.
Кстати, когда человек больше чувствует себя собою, яснее сознает, что близко ему и что чуждо, когда в душе живет какая-то увлеченность, то и нелюбимая работа спорится лучше.
Как попробовать себя в литературном творчестве? Чаще всего первыми очерками, рассказами моих пациентов были воспоминания о детских переживаниях. Чудесно-сказочное тепло детства обитает в памяти всякого человека. Описать эти ощущения для многих людей — дело радостное.
Из рассказа М., 19 лет.
«Гуляли мы с бабушкой возле нового здания университета. Глазел я по сторонам, ошеломленный с позиций своих пяти лет размерами и красотой его. Бегал туда-сюда и радовался всему. И вдруг остановился как вкопанный перед огромной плоской чашей для цветов. Там таких много стоит. — Бабушка, это что же такое? — говорю. — Да это такая ваза для цветов. Долго смотрю, не понимая. — Это ваза? — Ну да, такая большая ваза. — Бабушка, да ты ничего не понимаешь. Знаешь, что это? Это же памятник Великой Миске. Дружный хохот проходящих студентов был мне ответом».
Февраль, 1984.
Если почему-либо не хочется вспоминать детство, писать о детстве, можно писать о другом, но тоже непременно как-то о себе, о своих переживаниях, чтобы оживить свое, самобытное, сделаться хоть немного понятнее себе.
Поначалу можно даже не рассказ или очерк писать, а просто делать записи в дневник, в записную книжку. Например, записывать яркие краски жизни вокруг, чтобы чувственно оживиться.
Вот я увидел, как в снежный день вышла женщина с сумкой из магазина и из сумки вылезали целым пластом розовые свежезамороженные морские окуни, а с них свешивался большой пучок зеленого лука, — и так все и записал.
Или запись в книжку в сибирской командировке: «2 октября 1981 г., Красноярск. Утром снег скрипит под ногами. Солнце и осенне-разноцветные листья деревьев. Сфотографировал старинную часовню па снежной горе».
Записывание в книжку, в дневник приводит душу в порядок, становишься себе яснее. «Я постоянно как бы опираюсь в жизни на свою записную книжку и ручку к ней», — сказал мне один пациент.Тревожно-мнительные, сомневающиеся люди нередко записывают на бумаге свои сомнения, доводы «за» и «против», прежде чем решиться на какое-то важное для них действие. Это позволяет охватить вниманием как можно больше моментов, записанное становится отчетливее в душе. Неясное переживание, раздумье, отданное бумаге, делается потому зримее, что как-то все же отделилось от тебя и можешь теперь внимательнее, трезвее рассмотреть его «сбоку», обрести определенность и, значит, душевно смягчиться.
Многолетний опыт помощи пациентам, страдающим чувством неполноценности, позволяет мне написать здесь, что часто в этих людях заложена самой природой, как противоядие страданию, способность к интересному целительному творчеству. Тут надобно осторожно нащупать характер этой затаенной творческой способности и неназойливыми пожеланиями, ободрениями способствовать творческой работе.
Нередко тоскливые, тревожные, не уверенные в себе люди стесняются писать, рисовать, втайне мечтая об этом («Куда уж мне!»). Важно подчеркнуть им, что как раз удрученность, печаль способствуют творческому самовыражению, помогая сосредоточиться, погрузиться в свои душевные кладовые, подвалы, тогда как солнечная радость несколько приподнимает-распыляеттворческие переживания-раздумья. Вспоминая толстовское «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастливапо-своему», отмечу: постоянно веселые, самоуверенные люди нередко похожи друг на друга,тревожно-грустные переживают каждый по-своему и нередко способны по-своему, творчески, изображать свои переживания, целебно смягчаясь в поисках душевной определенности.
Ю.. 57 лет, основательно поднявшая себя к жизни из тягостной тоскливости целебным творчеством (живописным и литературным), пишет мне важное для понимания этого обретенного творчески-светлого состояния: «С творчеством приходит радость бытия, открываются просторы для обновления чувств, фантазии и познавания красоты. И чем больше углубляешься в творчество, тем многообразном открывается лицо мира. Мир творчества многолик. Об одном только желтеньком, таком знакомом цветке лютика можно написать целую книгу поэзии и посвятить ему целый альбом с изображением его портретов. Источник творчества неиссякаем. Творчество может быть и в очень малом, и в большом. Оно и в приготовлении обеда, пирога, то есть домашнее, кухонное творчество, и в написании книги, и в полотне художника. Можно нести творчество свое людям и можно творчески созерцать природу в большом и малом ее проявлении. Но мне кажется, что в природе все велико и даже трудно сказать про нее в малом. Созерцая природу, ее творчество, творит и обогащается твоя собственная душа. Я думаю, что творчество должно заключать в себе два чувства — любовь и бескорыстие. Творчество холодное никого не обрадует, душевно не согреет, а злое — может принести несчастье. По поводу бескорыстия в творчестве расскажу из собственного примера. Как-то я захотела нарисовать одному человеку картинку. Тема рисунка, о котором он просил, была мне не совсем созвучна. Но мне захотелось сделать приятное этому человеку. Мое творчество не было одухотворено. Оно было подчинено корысти-угождению и не принесло мне радости. Даже сомневаюсь, понравилась ли моя картинка тому человеку, которому была посвящена. Но вот другой пример с маленькой картинкой „Я их люблю (фиалочки)“. Я рисовала их с любовью, не думая о том, чтобы кому-то угодить, сделать „шедевр“. Я радовалась им, удивлялась, восхищалась. Я как бы впервые с ними встретилась в жизни».
Когда пациенты в начале лечения творчеством вздыхают о том, что писатели, художники из них все равно не получатся, а потому зачем «вся эта детская игра», я прошу их читать воспоминания, написанныене-писателями, смотреть в музеях наивные не-профессиональные картинки (например, на изразцах) или первобытную живопись, чтобы прочувствовать: есть нечто выше мастерства — самобытность (даже неотшлифованная!), переносящая нас в душу древнего или сегодняшнего человека.
Практически важно здесь, чтоб ощущалась постоянная готовность претворять всякое душевное переживание (в том числе тягостное) в произведения творчества, чтоб думалось, чувствовалось про всякий почти предмет, событие: как я по-своему это напишу, слеплю, нарисую. Тогда человек с душевными трудностями защищен почти постоянным вдохновенным знанием, чувством своей личности — от многих возможных огорчений, тягостных конфликтов.
