
- •§1. Понятие и социально-правовая сущность соучастия в преступлении по Уголовным кодексам России и Армении
- •§2. Признаки соучастия и их значение для ответственности соучастников преступления
- •§3. Формы соучастия в преступлении
- •§4. Проблема взаимосвязи соучастников с исполнителем, как элементом состава преступления
- •§1. Уголовно-правовой анализ специального состава преступления
- •§2. Посягательство на специальный объект
- •§3. Теоретическое исследование специального субъекта преступления
- •§4. Проблема ненадлежащего специального субъекта преступления
- •§5. Особенности объективной стороны преступлений со специальным составом
- •§6. Содержание субъективной
- •§1. Правовые основания
- •§2 Ограничения ответственности
- •§3. Ограничения ответственности за соучастие в преступлении со специальным составом по объективной стороне
- •§4. Ограничения ответственности
- •Глава I
- •§1. Признак группы в преступлениях со специальным составом
- •§2. Организация, подстрекательство и пособничество в преступлении со специальным составом
- •§3. Эксцесс исполнителя
- •§4. Условия добровольного отказа от соучастия в преступлениях со специальным составом
- •§5. Соучастие в преступлениях с ненадлежащим специальным субъектом
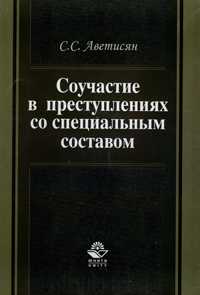
ВВЕДЕНИЕ
Изучение института соучастия в науке уголовного права имеет почти 200-летнюю историю. Несмотря на то, что проблемам ответственности за соучастие в преступлении посвящено много научных трудов, в теории уголовного права многие аспекты соучастия продолжают оставаться дискуссионными. По этой причине и из-за нечеткой регламентации их в уголовном законе судебные и следственные органы испытывают определенные трудности при применении норм о соучастии. Изучение судебной практики свидетельствует, что многие ошибки связаны с определением оснований, пределов и объема ответственности соучастников. Подобные и другие ошибки не уменьшаются в условиях применения норм нового уголовного законодательства России и Армении.
Одной из малоисследованных и дискуссионных проблем учения о соучастии является вопрос о соучастии специальных и общих субъектов.
Квалификация соучастия — основная проблема института соучастия. Составную и наиболее сложную часть этой проблемы занимают случаи квалификации соучастия в преступлениях со специальным субъектом, а вернее, со специальным составом.
Преступления, совершенные специальными субъектами, представляют повышенную опасность, так как вред специальным объектам прежде всего причиняется «изнутри», самими участниками специальных отношений. В случаях группового посягательства степень общественной опасности содеянного повышается. Соучастниками таких преступлений могут быть как специальные субъекты (участники данных или иных специальных отношений), так и лица, не наделенные признаками специального субъекта (частные лица).
Основная проблема ответственности за соучастие в преступлении со специальным составом состоит в необходимости полного и правильного освещения двух взаимосвязанных важных вопросов: как отражается ограничение круга исполнителей (специальных субъектов преступления) на ответственности других соучастников и какое значение имеет уголовно-правовая харак-
теристика функций специального субъекта для оценки его преступного деяния.
Вопрос об особенностях ответственности за соучастие в преступлении со специальным субъектом всегда привлекал внимание ученых и практиков. Однако имеющиеся исследования традиционно проводились на уровне отдельных вопросов, излагаемых в трудах, посвященных основным проблемам соучастия. До сих лор отдельных монографических исследований, касающихся соучастия в преступлениях со специальным составом, не имеется. Рассмотрение данной проблемы на уровне отдельных параграфов или научных статей не могло охватить весь комплекс основных аспектов отмеченной проблемы. Многие из них носят фрагментарный характер или не затрагивались вообще.
В советском уголовном законодательстве правовой основой для признания возможности соучастия в преступлениях со специальным субъектом лиц, не наделенных признаками специального субъекта, признавалась ст. 237 УК РСФСР {ст. 245 УК РА 1961 г.). В ч. 3 этой статьи говорилось, что «соучастие в воинских преступлениях лиц, не упомянутых в настоящей статье, влечет ответственность по соответствующей статье настоящего закона». Такая формулировка имела неточность, поскольку из приведенного положения следовало, что невоеннослужащие (гражданские лица) могут нести ответственность за совершение воинских преступлений в качестве исполнителя (соисполнителя). Воспользовавшись этим, некоторые ученые стали отрицать возможность посредственного совершения воинского преступления в тех случаях, когда военнослужащий из мести командиру (начальнику) за его служебную деятельность склоняет своих знакомых гражданских лиц к насилию над ним, мотивируя тем, что при посредственном причинении вреда ответственность лица, его нанесшего, либо исключается вовсе, либо наступает за неосторожное преступление. Соучастие же есть умышленная деятельность двух или более лиц, могущих нести ответственность за совместное преступление'. Несмотря на эту неточность, в теории военно-уголовного права и в целом на практике признавалось,
1 Милюков С. Ф. Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа. - Санкт-Петербург, 2000. - С. 81 и др.
что гражданские лица не могут быть соисполнителями воинских преступлений.
В основе исследования проблемы соучастия в преступлениях, совершаемых специальными субъектами, лежали различные, а порою и диаметрально противоположные точки зрения ученых. Анализ теоретической разработанности рассматриваемой проблемы позволяет выделить несколько основных позиций по этому вопросу.
Еще в середине прошлого столетия некоторые ученые вообще отрицали возможность соучастия частных лиц в преступлениях со специальным субъектом1. В качестве обоснования на примере должностных преступлений приводились доводы о том, что подобные преступления совершаются путем нарушения субъектом своего служебного долга. А. А. Пионтковский и другие ученые высказали критику в адрес этой позиции, отмечая, что «частное лицо, помогая ему в этом или подстрекая его к совершению должностного преступления, нарушает свой общественный долг и совершает также опасные действия»2.
Другие ученые, посвятившие часть своих научных исследований данной проблеме, предложили дифференцированный подход в решении вопроса о соучастии в преступлениях со специальным субъектом, заключающийся в учете законодательной характеристики специального субъекта3.
В связи с этим П. Ф. Тельнов заметил, что отмеченные ученые допускают возможность соучастия частных лиц в преступле-
1 Меркушее Т. А. Соучастие в преступлениях со специальным субъ ектом. Ученые записки Белорусского гос. ун-та. — Мн., 1957. — Вып. 34. — С. 5; Ткаченко В. И. , Царегородцев А. М. Правовые последствия соучастия в преступлениях со специальным субъектом // В кн.: Проблемы борьбы с преступностью. - Омск, 1976. (Эти ученые возможность соучастия частных лиц допускали только в во инских преступлениях.)
2 Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголов ному праву. - М., 1961. - С. 584.
3 Курс советского уголовного права. Особенная часть. Т. 2. - М., 1959. - С. 266; Галиакбаров Р. Р. Групповые преступления. - Свердловск, 1973. — С. 116; Зелинский А. Ф. Соучастие в преступ лении. — Волгоград, 1971. — С. 35.
ниях "С обшей законодательной характеристикой» специального субъекта и отрицают ее в преступлениях с «узким кругом конкретно названных законодателем субъектов»1.
В дальнейшем эти концепции подвергались справедливой критике ученых-юристов, обосновывающих возможность соучастия частных лиц во всех без исключения преступлениях со специальным субъектом2.
В настоящее время эта точка зрения является господствующей и получила свое законодательное закрепление в новых УК России и Армении (ч. 4 ст. 34 УК РФ, ч. 3 ст. 39 УК РА).
Спорным всегда был вопрос о возможности признания частного лица соисполнителем преступления со специальным субъектом. Одни ученые категорически отрицают такую возможность3, другие допускают к отдельным составам преступлений4,
1 Тельное П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. - М., «Юр. лит.», 1974. - С. 149.
2 Трайнин Л. И. Учение о соучастии. - М., 1941. - С. 120-121; Ко валев М. И. Соучастие в преступлениях. В 2-х частях. — Сверд ловск, 1962. - С. 49; Леонтьев Б. М. Ответственность за хозяйст венные преступления. - М., 1963. - С. 61; Гришаев П. И., Кри- гер Г. А. Соучастие по советскому уголовному праву. - М.: «Го- сюриздат», 1959. - С. 234-240; Тельнов П. Ф. Указ. раб. - С. 150; Ушаков А. В. Ответственность за групповые преступления. - Кали нин, 1975. — С. 66-67; Ахметшин X. М. Основные вопросы теории военно-уголовного законодательства и практики его применения: Дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 1975 и др.
3 См.: Тельнов П. Ф. Указ. соч. - С. 149; Погребняк И. Г. Квалифи кация хищений, совершаемых по предварительному сговору группой лиц // В кн.: Борьба с хищениями государственного и общественного имущества. — М., 1971. — С. 196; Преступления против военной службы (военно-уголовное законодательство РФ). - М., 1999. — С. 20-21; Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. - Санкт- Петербург: «Юридический центр Пресс», 2001. — С. 319 и др.
4 Северин Ю. Важнейшая задача суда — охрана социалистической собственности // БВС СССР, 1962. - № 4. - С. 23; Кригер Г. А. Квалификация хищений социалистического имущества. — М., 1971. - С. 234; Орымбаев Р. Специальный субъект преступления. — Ал ма-Ата: «Наука», 1977. - С. 131-132; Волженкин Б. В. Некоторые
исходя из особенностей законодательной конструкции соответствующего состава, а также объективной стороны преступления.
Согласно ч. 4 ст. 34 УК РФ, «лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника».
Однако с введением данной нормы имеющиеся проблемы не только окончательно не решены, но и еще более обострились, причем на таком уровне, что некоторые ученые пришли к выводу об излишности отмеченной теоретической посылки.
Так, проф. Б. В. Волженкин отмечает, что «законодательное положение, сформулированное в ч. 4 ст. 34 УК, не является абсолютным, применимым ко всем без исключения случаям соучастия в преступлении, совершаемым специальным субъектом». В связи с этим возникает серьезное сомнение в целесообразности включения в уголовный закон этого и подобного ему положения теории уголовного права, нуждающихся в дополнительных уточнениях и оговорках1.
То, что данная норма не является универсальной, отмечается верно. Однако предложение о полном отказе от урегулирования данной проблемы законодательным способом неприемлемо. Проблема соучастия в преступлениях со специальным субъектом в отечественной теории уголовного права и на практике обсуждалась свыше одного столетия, и только в новом уголовном законодательстве сделана попытка законодательного урегулирования столь сложного и важного вопроса.
Любое законодательное новаторство должно пройти определенную апробацию. Не составляет исключения и данная норма.
Несмотря на то, что в связи с принятием данной нормы в теории и на практике возникло множество проблем, а в некото-
проблемы соучастия в преступлениях, совершаемых специальными субъектами // Уголовное право. - 2000. — № I. - С. 12-16; Милюков С. Ф. Указ. соч. - С. 82.
1 Волженкин Б.В. Указ. соч. - С. 15; Козлов А.П. Указ. соч. - С. 323.
рых ситуациях произошло отступление от нее, тем не менее данное положение должно быть развито и уточнено в самом законе.
Отсутствие монографических исследований, посвященных комплексному освещению проблемы соучастия в преступлениях со специальным составом, можно объяснить рядом причин.
Научные разработки ученых как прошлого, так и нового столетия, посвященные данной проблеме, базировались на традиционном понятии специального субъекта преступления, под которым понимается лицо, наделенное кроме признаков общего субъекта и дополнительными признаками (свойствами, качествами), указанными или вытекающими из норм уголовного закона. Всестороннее изучение проблем соучастия в преступлениях со специальным составом возможно только на основе исследования различных аспектов специального субъекта преступления. В уголовном законе понятие специального субъекта не определено. От понятия статуса специального субъекта преступления и точного установления дополнительных признаков самого субъекта зависит вопрос о допустимости соучастия в преступлениях со специальными и специально-конкретными субъектами лиц, не наделенных признаками указанных субъектов.
Традиционно специальный субъект преступления и его дополнительные признаки рассматривались в отрыве от взаимосвязи с другими элементами соответствующих составов преступлений. Кроме того, в теории уголовного права и на практике не всегда учитывалось то обстоятельство, что уголовный закон устанавливает ответственность специальных субъектов за посягательство как на общие, так и на специальные объекты. При определении понятия специального субъекта преступления не принималось во внимание наличие соответствия специального субъекта субъекту специальных отношений, участником которых он является. Как следствие этого, дополнительные признаки специального субъекта рассматривались в отрыве от особенностей специальных отношений.
Между тем уголовно-правовое значение должны иметь только те дополнительные признаки (свойства, качества) субъекта, которые детерминированы особенностями соответствующих специальных отношений.
При исследовании проблемы соучастия в преступлениях со специальным субъектом принципиальное значение должно иметь
и то обстоятельство, что существуют составы преступлений, в которых только субъект специальный (убийство матерью новорожденного ребенка,' изнасилование, хищение имущества, вверенного виновному, и др.) и составы, в которых не только субъект, но и остальные элементы имеют специальный характер, и прежде всего объект преступления (получение взятки, преступления, связанные с нарушением конкретных специальных правил поведения, некоторые преступления против правосудия, порядка управления, преступления против военной службы и др.). Это преступления со специальным составом'. Проблеме специального состава преступления в данной работе посвящена отдельная глава.
В соответствии с принятой нами концепцией, если в составе преступления только субъект специальный, то соисполнителем данного преступления может быть и неспециальный субъект. В преступлении же со специальным составом исполнителем (соисполнителем) может быть только участник данных специальных отношений, то есть специальный субъект, причем надлежащим образом включенный в данную сферу отношений.
В основе приведенной концепции - ряд основополагающих уголовно-правовых положений, позволяющих проблему соучастия в преступлениях со специальным составом исследовать комплексно и всесторонне.
К числу таких основных положений относятся:
Признание соответствия специального субъекта преступ ления субъекту специальных отношений, участником ко торых он является.
Обусловленность дополнительных признаков (свойств, ка честв) специального субъекта особенностями данных спе циальных отношений.
Рассмотрение понятия специального субъекта в тесной взаимосвязи с другими элементами состава преступления.
Необходимость включения в Общую часть УК нормы об условиях признания лица специальным субъектом престу пления.
1 Аветисян С, С. Специальный субъект преступления и уголовная ответственность. - Ереван: «Гитутюн», 2003. - С. 36-54.
Учет особенностей механизма причинения вреда специ альным объектам (причинение вреда через нарушение ус тановленного специального порядка, а также через посяга тельство на сам интерес).
Выявление и учет особенностей объективной и субъектив ной сторон преступлений со специальным составом (на рушение специальных правил поведения как форма про явления деяния; опосредованный (нормативно-правовой) характер причинной связи; наличие специальной уголов ной противоправности и др.).
На основе новых методологических и уголовно-правовых подходов в решении всесторонних проблем соучастия в преступлениях со специальным составом в работе обосновывается необходимость включения в УК вместо ч. 4 ст. 34 отдельной нормы «Об ответственности соучастников в преступлениях со специальным составом». Предложенная норма является универсальной в смысле ее распространения на все соответствующие составы преступлений и установления единых оснований ответственности в таких преступлениях.
Законодательный вариант отмеченной нормы — это не новая редакция ч. 4 ст. 34 УК. РФ (ч. 3 ст. 39 УК РА), а качественно новое решение проблемы ответственности соучастников в преступлениях со специальным составом. Практическое значение этой нормы состоит в том, что она позволяет четко определить круг лиц, могущих нести ответственность за соучастие в данном преступлении в качестве организатора, подстрекателя или пособника. Кроме того, ответственность соучастников четко ограничивается рамками преступления со специальным составом.
Отмеченная позиция может положить конец научным спорам по вопросу о квалификации соучастия в преступлении со специальным составом по признаку группы лиц или группы лиц по предварительному сговору.
В работе рассматриваются проблемы эксцесса исполнителя в преступлениях со специальным составом, а также условия добровольного отказа от соучастия в таких преступлениях.
Особое место уделено вопросу о соучастии в преступлениях с ненадлежащим (негодным) специальным субъектом, под которым имеется в виду субъект, который не наделен хотя бы одним
ш
из признаков, необходимых для привлечения его к уголовной ответственности за посягательство на специальные объекты.
Одним из условий признания лица специальным субъектом является нормативный способ включения его в специальную сферу отношений. Нарушение этого требования должно исключать ответственность специального субъекта за причинение вреда данным специальным отношениям. Ответственность за наступление вреда должно нести должностное лицо, незаконно включившее данный субъект в конкретную сферу специальных отношений.
Большой теоретический и практический интерес представляют случаи соучастия в преступлениях с ненадлежащим специальным субъектом.
На основе проведенного исследования автором выделены правила квалификации соучастия в подобных случаях, даны рекомендации по правильному применению соответствующих уголовно-правовых норм. На этом фоне рассмотрены различные ситуации конкуренции норм при квалификации соучастия с негодным специальным субъектом.
При написании работы использовались труды отмеченных и других ученых, исследовавших различные аспекты соучастия в преступлениях со специальным составом. Большой вклад в изучение данной проблемы внесли работы и таких ученых, как Ф. Г. Бурчак, Л. Д. Гаухман, С. В. Дядько, В. Е. Квашис, Н. Г. Иванов, В. Н. Кудрявцев, Б. А. Куринов, О. В. Лукичев, А. В. Наумов, В. Г. Павлов, Н. А. Петухов, А. И. Рарог, Н. С. Таганцев, А. А. Тер-Акопов и др. Использованы Уголовные кодексы различных государств, а также данные криминологических исследований, отражающих суть исследуемых проблем. Работа снабжена материалами судебной практики.
В монографии представлен не весь аспект этой сложной проблемы. Автор предпринял попытку нового научного подхода к рассмотрению основных аспектов соучастия в преступлениях со специальным составом, базирующегося на концепции существования преступлений с таким составом, в котором не только субъект, но и остальные элементы имеют специальный характер, а также качественно новом понятии специального субъекта преступления, дополнительные признаки которого детерминированы особенностями специальных объектов.
Формулируются и обосновываются общие и частные правила квалификации соучастия в рассматриваемых преступлениях.
Даны конкретные предложения по совершенствованию уголовного законодательства России и Армении.
Автор выражает искреннюю признательность заслуженному юристу Российской Федерации, доктору юридических наук, профессору Никите Георгиевичу Иванову, заслуженному юристу Российской федерации, доктору юридических наук, профессору Анатолию Анатолиевичу Толкаченко и кандидату юридических наук, доценту Олегу Климовичу Зателепину, оказавшим неоценимую помощь при написании этой книги.
Автор будет благодарен за высказанные читателем пожелания и замечания.
12
1
Глава
Дискуссионные вопросы учения
о соучастии в преступлении по Уголовным
кодексам России и Армении
§1. Понятие и социально-правовая сущность соучастия в преступлении по Уголовным кодексам России и Армении
Соучастие в преступлении представляет собой одну из наиболее важных и сложных проблем уголовного права.
Проблемы истории развития института соучастия, а также ответственности за соучастие в преступлении в русском, советском и современном уголовном праве достаточно полно раскрыты в работах многих ученых-юристов1. Мы лишь остановимся на тех ключе-
1 См., напр.: Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. - Киев, 1969; Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. - Киев, 1986; Бушуев И.А. Ответственность за укрывательство преступлений и недоносительство. — М., 1965; Волженкин Б.В. Указ. соч.; Галиакбаров P.P. Групповые преступления. - Свердловск, 1973; Галиакбаров P.P. Совершение преступления группой лиц. - Омск, 1980; Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции. Проблемы уголовно-правой борьбы. - М., 1993; Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней. - М., 1989; Гриша-ев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по советскому уголовному праву. -М.: «Госюриздат», 1959; Джекебаев У.С., Вайсберг Л.М., Судакова Р.Н. Соучастие в преступлении. — Алма-Ата: «Наука», 1981; Звеча-ровский И. Совершение преступления в соучастии: проблема квалификации // Законность. - 1999. - №11; Зелинский А.Ф. Указ. соч.; Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. - Саратов, 1991; Ковалев М.И. Указ. соч. 1960; Козлов А.П. Указ. соч.; Таганцев Н.С. Русское уголовное право: В 2-х т.
13
вых проблемах института соучастия, которые необходимы для всестороннего исследования одной из малоразработанных и дискуссионных проблем учения о соучастии - соучастии в преступлениях со специальным субъектом.
В нашем отечественном (бывшем Советском) уголовном праве общего определения понятия соучастия до принятия Основ уголовного законодательства не было.
В различных законодательных актах говорилось о деяниях, сообща совершаемых группой лип (шайкой, бандой, толпой), и о стечении многих лиц в одном преступлении.
Выделялись только виды соучастников. Уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. также ограничивались перечнем лиц, подлежащих ответственности за соучастие.
Вместе с тем, до принятия в Основах уголовного законодательства единого понятия соучастия теорией уголовного права были установлены общие признаки соучастия: совместность преступных действий и их умышленный характер. И только в Основах уголовного законодательства 1958 г. появилось новое определение соучастия, как «умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления» (ст. 17 Основ). Просуществовавшее свыше трех десятилетий понятие соучастия хотя и закрепило важные признаки этого института, но, тем не менее, дискуссии по поводу объективных и субъективных признаков соучастия, а также возможности (или невозможности) соучастия в неосторожных преступлениях продолжались достаточно долго.
На основе принятого единого определения соучастие одинаково характеризовалось в уголовных кодексах союзных республик, в том числе и Армянской ССР.
Наконец в новом Уголовном кодексе РФ 1996 г. законодательно решен вопрос о том, что соучастие возможно только в умышленных преступлениях.
В соответствии со ст. 32 УК РФ1 «соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в
Часть Общая. Том 2. - Тула: «Автограф». - 2001; Тельнов П.Ф. Указ. соч.; Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. - М.: «Юркнига», 2003 и др. 1 Уголовный кодекс Российской Федерации. - Принят Государственной Думой РФ 24.05.1996г., подписан Президентом РФ
14
совершении умышленного преступления». Суть его заключается в совместном совершении несколькими липами одного преступления.
Аналогичным образом определяется понятие соучастия в ст. 37 нового УК Армении1.
Значение института соучастия помимо регламентирования уголовной ответственности заключается и в том, что он раскрывает объективные и субъективные признаки совместной преступной деятельности, определяет круг лиц, ответственных за эту преступную деятельность, регламентирует порядок и пределы ответственности соучастников, указывает особенности назначения наказания соучастникам.
В соответствии с действующим понятием соучастия в преступлении соучастие считается возможным в любых умышленных преступлениях независимо от их категорий.
Это относится и к тем случаям, когда преступление совершается двумя формами вины, поскольку такое деяние в целом признается умышленным. В остальных случаях, когда преступление совершается только по неосторожности, соучастие исключается.
Соучастие, являясь важным институтом Обшей части уголовного права, служит законодательной базой для теоретической характеристики отдельных составов совместной преступной деятельности. Поэтому соучастие нельзя рассматривать в отрыве от норм Особенной части УК. Общие положения уголовного закона распространяются на все составы преступлений2.
Нормы о соучастии соотносятся с конкретными составами умышленных преступлений как общее и отдельное (особенное). Всеобщность, универсальность норм УК о соучастии заключается в том, что они распространяются не только на умышленные преступления, но и в ряде случаев находят свое отражение в нормах Общей части УК. Так, в соответствии со ст. 63 УК РФ (ст. 63 УК РА) совершение преступления в составе группы, группы лиц по предвари-
13.06.1996г., вступил в силу 01.01.1997г. - М.: «Ось-89», 1996.
1 Уголовный кодекс Республики Армения. - Принят Националь ным Собранием РА 18.04.2003г., вступил в силу 01.08.2003г. - Ере ван: Изд-во «Тигран Men», 2003.
2 Бражник Ф. С. Актуальные проблемы совершения и применения к военнослужащим норм Общей части уголовного законодательства Российской Федерации: Дис. д-ра юрид. на-ук. — М., 1995.
15
тельному сговору, организованной группой или преступного сообщества является обстоятельством, отягчающим наказание. К числу отягчающих наказание обстоятельств относится и привлечение к совершению преступления лиц, которые страдали тяжелыми психическими расстройствами либо находились в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, подлежащего уголовной ответственности. Совершение преступления группой лиц и другие формы соучастия часто используются законодателем в качестве квалифицирующих обстоятельств, влекущих иную квалификацию и более строгое наказание. В теории уголовного права бытует мнение, что соучастие не создает каких-либо особых, дополнительных оснований ответственности. Следовательно, в качестве как и преступников-одиночек соучастники самостоятельно отвечают за конкретное, совершенное совместными усилиями преступление в пределах своей личной вины. Совместное участие в преступлении может выражаться либо в непосредственном исполнении деяния, образующего объективную сторону состава преступления, либо в совершении иных действий, создающих условия для выполнения такого деяния1.
Последнее обстоятельство не противоречит ст. 8 УК РФ (ст. 3 УК РА), указывающей на то, что единственным основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК. Состав преступления включает в себя не только признаки, указанные в статье Особенной части УК, но и признаки и положения Общей части УК. Поэтому для соучастника основанием ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, в котором он принимал участие, а также признаки, указанные в нормах о соучастии, где дано законодательное описание его функциональной роли. Когда преступление совершается в результате совместной преступной деятельности нескольких соучастников, их действия (организатор, подстрекатель, пособник) квалифицируются по статье, предусматривающей наказание за совместно совершенное преступление, но со ссылкой на ст. 33 УК РФ (за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления). Действия же исполнителя (соисполните-
Тер-Акопов АЛ. Указ. соч. - С. 125-126.
ля) квалифицируются как преступление, совместно совершенное с соучастниками без ссылки на ст. 33 УК РФ (ст. 38 УК РА).
Уголовный закон устанавливает единое основание уголовной ответственности соучастников. Оно определяется характером и степенью фактического участия каждого из соучастников в совершении преступления, то есть каждый соучастник самостоятельно отвечает за содеянное и несет персональную ответственность. Вместе с тем деяния соучастников нельзя рассматривать в полном отрыве от деяния исполнителя.
В зависимости от того, является ли ответственность соучастников самостоятельной или же зависит от характера действий исполнителя и его ответственности, в отечественной и в зарубежной юридической литературе выделяются различные теории (концепции) соучастия.
Всестороннее освещение обозначенной проблемы (соучастие в преступлениях со специальным составом) возможно на основе анализа этих концепций.
Первая концепция именуется акцессорной теорией соучастия.
Эта теория возникла во времена Французской революции XVIII в. и впервые была законодательно закреплена во французском УК 1791 г. и, в особенности, в Кодексе Наполеона 1810 г. Эта теория исходит из признания акцессорного1, т.е. несамостоятельного, придаточного характера соучастия. Ответственность соучастников при этом связывается с ответственностью исполнителя. Основные положения этой теории состоят в следующем:
Основанием уголовной ответственности соучастников явля ется совершение исполнителем обшественно опасного дея ния, содержащего все признаки состава преступления.
Уголовная ответственность соучастника допускается только в случае привлечения к ответственности исполнителя.
Наказуемость соучастника определяется, исходя из вида и размера наказания, назначенного исполнителю.
В науке советского уголовного права акцессорная теория соучастия, как правило, отвергалась и считалась буржуазной, реакционной2. Действительно, вряд ли можно обоснованно уголовно-
1 Акцессорность буквально означает принадлежность одного явле ния другому.
2 См.: Гришаев П.И., Кригер Г.А. Указ. соч.; Курс уголовного пра-
17
правовую оценку действий соучастника полностью определять оценкой преступления, совершенного исполнителем. Иными словами, в соответствии с этой теорией, каждый соучастник несет ответственность не за свое деяние, а за участие в чужом преступлении.
Ошибка отечественных исследователей в рассмотрении проблемы соучастия заключалась в том, что акцессорная теория соучастия рассматривалась как 'догма, имеющая буржуазное начало. Между тем именно основные положения этой теории были заложены в Основах уголовного законодательства 1958 г. И в настоящее время следует признать (с некоторыми оговорками), что в основе ответственности соучастников, по уголовному законодательству России и Армении, лежит именно эта теория.
В советской уголовно-правовой литературе имелись работы, авторы которых в акцессорной теории соучастия выделяли множество аспектов, свидетельствующих о самостоятельном характере ответственности соучастников преступления. Первым за признание логической теории акцессорное™ выступил М.И. Ковалев. Отвергая акцессорную природу соучастия в части механической зависимости размера наказания, назначенного подстрекателю и пособнику, а также размер наказания, определяемого исполнителю преступления, он справедливо отмечал, что ответственность соучастников должна наступать лишь в том случае, если доказано, что исполнитель совершил или начал совершать преступление1.
О наличии самостоятельного характера ответственности соучастников в теории акцессорное™ обоснованно высказался и П.Ф. Тельнов. По его выражению, в этой теории есть «известное рациональное зерно» — мысль об определенной зависимости судьбы соучастников от поведения исполнителя, облегчающая правильное решение вопросов о стадиях преступного деяния соучастников, о месте и времени его совершения, о значении квалифицирующих обстоятельств, влияющих на юридическую оценку содеянного преступниками2.
ва. Общая часть/Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, И.М.ТяжковоЙ. — Т. 1. - М.: «ЗЕРЦАЛО», 1999 и др.
1 Ковалев М.И. Указ. соч. - С.135—141.
2 Тельнов П.Ф. Указ. соч. - С. 140-141.
18
Сторонниками акцессорной теории соучастия были также Ф.Г.Бурчак1, О.КХамкрелидзе2 и др.
Следует отмстить, что и противники данной теории, критикуя своих оппонентов, все же признают, что в части объема вменения квалификации действий соучастников в большинстве случаев есть прямая зависимость от действий исполнителя.
В качестве доводов, свидетельствующих о том, что в современной уголовно-правовой доктрине соучастия лежат основные положения акцессорной теории, можно привести следующие:
В соответствии с ч. 1. ст. 34 УК РФ «ответственность соуча стников определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления». По скольку объективная сторона преступления выполняется ис полнителем, то очевидно, что ответственность соучастников зависит от ответственности исполнителя.
Действия исполнителя (соисполнителей) квалифицируются по статье, предусматривающей ответственность за соответст вующее преступление (без ссылки на ст. 33 УК РФ о соуча стии).
Действия организатора, подстрекателя и пособника квалифицируются по той же статье, по которой квалифицируются действия исполнителя, но со ссылкой на ст. 33, те се части, где дается понятие этих видов соучастников. Кроме того, соучастники (организатор, подстрекатель и пособник) несут ответственность и в тех случаях, когда преступление совершается со специальным исполнителем. То есть законодатель признал, что совершению специальных составов преступлений могут способствовать и неспециальные субъекты и, соответственно, быть соучастниками таких преступлений.
3) Об учете признаков акцессорности в установлении ответст венности соучастников в современном уголовном праве РФ свидетельствует и ч. 5 ст. 34 УК РФ, в соответствии с кото рой в случае недоведения исполнителем преступления до конца, по независящим от него обстоятельствам, остальные
1 Бурчак Ф.Г. Указ. соч.
2 Гамкрелидзе O.K. Соисполнительство и посредственное исполни тельство преступления по советскому праву: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Тбилиси, 1973.
19
соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к совершению преступления или покушения на преступление.
Аналогичное правило закреплено и в ч. 4 ст. 39 УК РА. Кроме того, в ч. 5 той же статьи установлено, что «в случае невыполнения действий организатором, подстрекателем или пособником по не зависящим от них обстоятельствам ответственность данных лиц наступает за приготовление к соответствующему преступлению».
В действиях (бездействии) соучастников признаки оконченного состава преступления будут присутствовать лишь тогда, когда исполнитель непосредственно достигнет стадии оконченного преступления.
Причем при материальном составе преступления необходимо наступление преступного вреда, предусмотренного в конкретной норме. Если же состав преступления формальный или усеченный, то достаточно того, чтобы исполнитель совершил действия, запрещенные законом.
Определенное влияние на квалификацию содеянного соуча стниками оказывает место и время совершения исполните лем преступления. Время и место деяний всех соучастников определяется по времени и месту совершения исполнителем оконченного или неоконченного преступления.
Акцессорность в соучастии проявляется и в том, что если в отношении исполнителя уголовное дело прекращается по признакам малозначительности деяния, то оно прекращается и в отношении других соучастников в том случае, если со вершение данного преступления охватывалось умыслом всех совместно действовавших лиц1. Аналогичным образом реша ется этот вопрос и тогда, когда действия исполнителя пре рываются на стадии приготовления к преступлению, скажем, небольшой или средней тяжести.
Изложенное позволяет сделать вывод, что основания и пределы ответственности соучастников по действующему уголовному законодательству России и Армении определяются в соответствии с уголовно-правовой оценкой деяния, совершенного исполнителем.
1 Пушкин НА, Принципы акцессорной и самостоятельной ответственности соучастников преступления // Уголовное право. — 2002. — N3 - 2001. - С.29.
20
При этом сохраняется и самостоятельное значение ответственности соучастников, о чем будет сказано ниже.
Производный характер соучастия ставит вопрос о том, кто является главной фигурой при привлечении исполнителя и соучастников к уголовной ответственности. Иными словами, в рамках акцессорной теории соучастия ставится вопрос, чем отличается производный характер ответственности соучастника от ответственности исполнителя.
По этому поводу существуют две противоположные позиции. Первая из них состоит в том, что исполнитель должен быть признан виновным в совершении преступления. Вторая же предполагает, что исполнитель не должен быть признан виновным в совершении какого-либо преступления, т.е. ответственность соучастников возможна вне зависимости от других обстоятельств.
Представляется, что каждая отдельно взятая позиция не может быть приемлемой для отечественной теории соучастия в преступлении.
Ответственность соучастников не должна исключаться и в тех случаях, когда исполнитель по тем или иным основаниям не признан виновным. Соучастники подлежат ответственности за собственные деяния, совершенные ими виновно, их ответственность индивидуальна.
С другой стороны, ответственность соучастников не может быть полностью изолированной от деятельности и ответственности центральной фигуры соучастия — исполнителя преступления.
Закон допускает возможность различной квалификации действий исполнителя преступления и других соучастников.
Поэтому анализ и сопоставление указанных позиций подводит нас к выводу о том, что существует и иная позиция — промежуточная, которая позволяет определить те минимальные основания (необходимые и достаточные условия), которые позволяют определить ответственность соучастников при различных формах соучастия и различной деятельности исполнителя преступления.
Такую позицию можно именовать как «смешанную» теорию ответственности соучастников (выделено нами - С.А.)1.
1 Аветисян
С.С. К
проблеме концепции «смешанной» теории
ответственности
соучастников преступления // Закон и
действительность. -
Юридический научно-популярный журнал.
— Ереван, 2004. — №3.
Аветисян
С.С. К
проблеме концепции «смешанной» теории
ответственности
соучастников преступления // Закон и
действительность. -
Юридический научно-популярный журнал.
— Ереван, 2004. — №3.
21
Для решения вопроса об ответственности соучастников важное значение имеет совершение исполнителем деяния, предусмотренного уголовным законом в качестве преступления. Это означает, что, по крайней мере, возникают следующие вопросы: кто совершил это деяние, чьи действия причинно связаны с этим деянием и наступившим последствием, кто и в какой степени должен отвечать за содеянное и должна ли связываться ответственность одного из них с ответственностью других участников преступления.
Отрицание самостоятельности составов преступления в действиях организатора, подстрекателя, пособника и исполнителя в интерпретации теоретиков уголовного права западных и многих других стран дает основание считать центральной фигурой в акцессорной теории соучастия исполнителя преступления, без самостоятельного значения ответственности других соучастников. Организатору, подстрекателю и пособнику придается второстепенная, вспомогательная роль, лишающая их самостоятельного уголовно-правового значения. Отсюда следует категорический вывод сторонников такого понимания акцессорной теории соучастия: уголовно-правовое значение действий соучастников и их ответственность полностью зависят от характера действий исполнителя и его ответственности. При этом освобождение исполнителя по любым причинам от уголовной ответственности или его добровольный отказ от совершения преступления ведет к автоматическому освобождению от ответственности всех соучастников.
Например, в соответствии с §20.05 УК штата Нью-Йорка соучастник освобождается от ответственности, если исполнитель преступления невиновен в силу уголовной безответственности, юридической недееспособности или других факторов. Соучастник не подвергается преследованию или осуждению за какое-либо посягательство, основанное на соответствующем поведении, либо происходит оправдание, либо же исполнитель имеет юридический иммунитет от его преследования за него.
Согласно этому же параграфу частные лица не могут быть соучастниками в преступлениях со специальным субъектом1.
1 Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии). — Сборник законодательных актов. - М.: Изд-во «Зерцало», 1999. - С.106.
22
Акцессорная теория соучастия в вышеприведенном понимании неприемлема для нашего уголовного права. На наш взгляд, правы те ученые, которые считают. Что признание акцессорности природы соучастия вовсе не означает абсолютной зависимости ответственности соучастников от ответственности исполнителя1. Разделяя позицию, согласно которой наше уголовное право основывается на акцессорной теории соучастия, но учитывая, что ответственность соучастников имеет также самостоятельный, индивидуальный характер, следует отметить, что современная доктрина отвергает лишь ту сторону акцессорности, которая проявляется в абсолютной зависимости ответственности и наказания, назначаемого соучастнику, а также от ответственности и наказания, назначаемого исполнителю преступления. Именно этот аспект признания акцессорной природы соучастия чужд современной теории и практике применения норм уголовного закона. Суть отрицания этой теории как раз и заключается в том, что основание ответственности каждого из соучастников состоит не в действиях исполнителя, а в характере собственных действий, совершаемых ими лично для достижения общего результата при содействии других лиц, т.е. в организации преступления, подстрекательстве к нему или содействию его совершения в форме пособничества, которые рассматриваются законодателем как общественно опасные деяния, содержащие все необходимые признаки соответствующего состава преступления, достигшего той или иной стадии совершения.
Рассмотрение акцессорной природы соучастия в срезе абсолютной зависимости ответственности соучастников от ответственности исполнителя преступления отрицает индивидуализацию наказания соучастников.
В американском и французском праве поддерживается позиция о равных ответственности и наказании всех соучастников. В праве Германии, России, Армении и других государств размер наказания связывается с вкладом того или иного соучастника в совершение преступления.
То есть соучастники, как правило, несут менее строгое наказание, чем исполнитель преступления. На практике не исключаются
1 Наумов А.В., Флетчер Дж. Основные концепции современного уголовного права. — М.: «Юристъ», 1998. - С.465.
23
случаи, когда организатору или подстрекателю назначается более строгое наказание, чем исполнителю.
Таким образом, признание акцессорное™ природы соучастия вовсе не означает абсолютной зависимости ответственности соучастников от ответственности исполнителя. Полное отрицание акцессорной теории соучастия, невидение в ней тех аспектов, которые фактически положены в основу современной теории соучастия, было бы методологически неправильным и не способствовало бы полному и всестороннему развитию уточненной доктрины ответственности соучастников.
Окончательное признание теорией уголовного права акцессор-ности соучастия в вышеприведенном контексте и ее дальнейшее совершенствование с новых позиций современного уголовного права является важной актуальной задачей науки уголовного права. Она способна правильно сориентировать сотрудников правоприменительных органов на более точное и тщательное установление конкретной роли каждого соучастника и проводить в жизнь принцип индивидуализации ответственности и наказания, а также способствовать единообразному пониманию и применению норм закона, регулирующих ответственность соучастников за совместную преступную деятельность.
Комплексное освещение этих проблем не входит в круг нашего непосредственного исследования и требует отдельных исследований и усилий многих ученых.
Вторая концепция ответственности соучастников состоит в самостоятельном характере ответственности соучастников.
Теория самостоятельной ответственности соучастников, в отличие от акцессорной природы соучастия, предполагает независимость их ответственности от ответственности исполнителя. Эта теория имеет ряд особенностей и преимуществ, состоящих в следующем:
1) О самостоятельной ответственности соучастников свидетельствует правило об эксцессе исполнителя, о котором уже говорилось выше. Совершение исполнителем преступления, не охватывающее умыслом других соучастников, не может им вменяться, и они уголовной ответственности за эксцесс исполнителя не несут. Получивший свое обоснование в теории и на практике институт эксцесса исполнителя окончательно закреплен в уголовном законе.
24
Это законодательное новшество созвучно уголовно-правовым принципам вины и справедливости и полностью вписывается в доктрину субъективного вменения.
В случае совершения исполнителем преступления менее опасного, чем предусматривалось соглашением с остальными соучастниками, исполнитель подлежит ответственности за фактически совершенное менее опасное преступление. Соучастники же должны отвечать за приготовление к совершению задуманного более тяжкого преступления.
2) Определенное самостоятельное значение для ответственно сти соучастников могут приобрести их действия (бездейст вие), выразившиеся в добровольном отказе от доведения преступления до конца. В соответствии со ст. 31 УК России организатор и подстрекатель преступления не подлежат уго ловной ответственности, если они своевременным сообще нием органам власти или иными предпринятыми мерами предотвратили доведение преступления исполнителем до конца. Пособник не подлежит уголовной ответственности, если он предпринял все от него зависящее, чтобы предотвра тить совершение преступления. Это означает, что пособник может быть освобожден от уголовной ответственности даже и в тех случаях, когда исполнитель тем не менее совершил задуманное преступление.
В ст. 36 УК РА данный вопрос решен несколько иначе.
В ч. 3 ст. 36 говорится о том, что организатор, подстрекатель или пособник в случае добровольного отказа не подлежат уголовной ответственности, если они сообщением органам власти или. иными предпринятыми мерами предотвратили доведение преступления исполнителем до конца.
3) Самостоятельным характером отличается ответственность соучастников и в случае их неудавшейся деятельности. Если организатор или подстрекатель сделали все возможное, что бы исполнитель совершил преступление, однако последний отказывается от задуманного, то действия указанных соуча стников не теряют опасности и должны квалифицироваться как приготовление к преступлению (к тяжкому или особо тяжкому). Исполнитель же освобождается от уголовной от ветственности, поскольку в его действиях нет состава пре-
ступления. По этим же правилам устанавливается ответственность за неудачное пособничество.
4) Каждый соучастник преступления несет ответственность в пределах своей личной вины. Как уже отмечалось, общность умысла соучастников не только не исключает, но и предпо лагает индивидуальность их вины, различия в содержании их сознания и воли.
Динамика субъективной стороны преступления при соучастии, а также характер вносимых исполнителем или другими соучастниками корректировок в процесс совершения преступления (об этом говорилось выше) свидетельствуют о том, что наряду с определенной зависимостью ответственности соучастников от ответственности исполнителя соучастники тем не менее не должны разделять судьбу исполнителя, а должны отвечать за фактически совершенное ими преступление в пределах личной вины.
5) Самостоятельный характер ответственности соучастников проявляется и в том, что, несмотря на то, что при совмест ной преступной деятельности усилия соучастников направ лены на достижение единого преступного результата, их дей ствия и фактически содеянное исполнителем могут квали фицироваться по различным статьям УК (имея при этом в виду, что для уголовно-правовой оценки действий соучаст ников вовсе необязательно наличие тождества составов пре ступлений). В содержании умысла между соучастниками, с одной стороны, и исполнителем с другой могут быть расхо ждения. Поэтому в их действиях можно установить признаки различных, но по своей природе однородных составов пре ступлений.
При этом соучастие не распадается, а соучастники подлежат ответственности за фактически совершенное преступление.
6) Самостоятельный характер ответственности соучастников состоит и в том, что, как определено в законе, смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников (в особенности исполнителя), учи тываются при назначении наказания только этому соучаст нику.
Согласно общему правилу все соучастники преступления ответственны в равном объеме за совершенное преступление. В то же время с учетом того, что каждый из соучастников выполняет опре-
26
деленную роль в совершении преступления, суд, разграничивая степень общественной опасности содеянного каждым из них и принимая во внимание все смягчающие и отягчающие обстоятельства индивидуально для каждого, а также данные о личности, наказание каждому соучастнику назначает персонально.
В ч. 1 ст.67 УК РФ устанавливаются правила назначения наказания за преступление, совершенное в соучастии. В соответствии с этой нормой, при назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, учитываются характер и степень фактического участия лица в его совершении, а также значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.
Смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников, учитываются при назначении наказания только этому соучастнику.
Как отмечалось, правильнее и целесообразнее было бы включить подобную норму в главу «Назначение наказания» нового УК РА. Вместо этого законодатель в ст. 39 (устанавливающей ответственность соучастников) ограничился тезисом, что при привлечении соучастников к ответственности принимаются во внимание роль и характер участия каждого из них в совершении преступления.
7) Наконец, самостоятельное значение ответственности соучастников проявляется и в преступлениях со специальным составом, исполнителем которого является специальный субъект. В таких преступлениях возможно соучастие и не наделенных признаками специального субъекта лиц, которые могут нести ответственность в качестве организатора, подстрекателя или пособника. Ограничение ответственности в таких преступлениях распространяется только на круг исполнителей (соисполнителей) данных преступлений. Вместе с тем ответственность соучастников в преступлениях со специальным составом имеет существенные особенности, в которых прослеживаются признаки как акцессорности соучастия, так и самостоятельной ответственности соучастников. В частности, исследование проблемы того, каким образом отражается ограничение круга исполнителей специальных составов преступлений на ответственность других соучастников и какое значение имеет специальный уголовно-правовой статус субъекта для ответственности самого
27
исполнителя, приобретает важное не только теоретическое, но и практическое значение.
Изложенное позволяет прийти к некоторым выводам:
1) Умышленная, совместная преступная деятельность представ ляет собой определенную систему взаимодействия тесно свя занных между собой участников, деятельность которых на правлена на совершение задуманного преступления. В этой системе главную роль выполняет исполнитель преступления. От его деятельности зависит объем и пределы ответственно сти соучастников. Это свидетельствует о том, что в нашем уголовном праве акцессорная природа соучастия не может быть полностью исключена из теории соучастия. При этом акцессорная теория ответственности соучастников вовсе не означает абсолютной зависимости их ответственности от от ветственности исполнителя.
В свою очередь теория самостоятельной ответственности соучастников не подразумевает полной, абсолютной независимости от деятельности и ответственности исполнителя преступления. Иными словами, на наш взгляд, нет противоречия в том, что в целом доктрина самостоятельной ответственности соучастников предполагает в определенной мере производный характер их ответственности от действий исполнителя. Нет противоречия и в том, что акцессорная теория соучастия полностью не отрицает самостоятельного значения ответственности соучастников.
2) Всякая деятельность человека неаморфна, она всегда дина мична. Динамична также и преступная деятельность, в осо бенности когда ее участниками является группа субъектов, постоянно корректирующая функциональные роли каждого из них, направленные на достижение единого преступного вреда. При этом роль каждого участника является сущест венной, а деяние любого из них содержит все признаки со ответствующего состава преступления, на совершение кото рого они сговорились. В основе достижения единого (взаи моприемлемого) преступного вреда лежит вполне законо мерное сочетание функций всех соучастников.
Совокупный вклад соучастников в соответствии с их преступным планом является необходимым и достаточным условием для реализации этого плана — совершения исполнителем задуманного преступления. Совершенное же исполнителем преступление, по
28
общему правилу, обусловливает юридический характер и значение деятельности каждого соучастника. Этот вклад не произвольный, он имеет синтезированный, взаимообусловленный характер. *
3) При определении принципов ответственности соучастников необходимо руководствоваться как признаками теории самостоятельной ответственности соучастников, так и признаками акцессорной теории соучастия. Раздельное рассмотрение этих теорий, как с методологической, так и с уголовно-правовой точки зрения, необоснованно и неприемлемо. В юридической литературе также отмечается, что «ни акцессорная теория соучастия, ни теория самостоятельной ответственности соучастников не могут (каждая в отдельности) разрешить проблемы соучастия, и в результате законодатель вынужден идти по пути их смешения»1.
Автор отмечает, что «интегрированная деятельность соучастников должна пониматься не как выполнение каждым соучастником своих функций в интересах других соучастников, а как состояние связанности функций соучастников в одно целое. Следовательно, общий результат достигается не руками исполнителя (как утверждает акцессорная теория соучастия), а интегрированной деятельностью соучастников. В этой связи акцессорная природа соучастия не может быть признана приемлемой. Далее, поскольку общий преступный результат нельзя разделить на отдельные самостоятельные части по количеству соучастников, то, значит, невозможно представить интегрированную деятельность соучастников как сумму самостоятельных действий каждого соучастника. Следовательно, природа соучастия не может быть объяснена и с позиций самостоятельной формы преступной деятельности каждого соучастника»2.
Таким образом, сочетание и учет наиболее рациональных признаков основных теорий соучастия должны быть положены в основу концепции ответственности за соучастие в преступлении. В связи с этим было бы правильным условно именовать такую теорию -концепцию ответственности соучастников, к примеру, «смешанной», «комбинированной», «синтезированной», «промежуточной» и т.д.
1 Арутюнов А. Проблемы соучастия: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. -М., 2003.-С.17-18.
2 Там же. - С. 19.
29
«Смешанная» ответственность обусловлена смешанностью вины каждого из соучастников, смешанными действиями в процессе планирования преступления, а также смешанной причинной связью между их действиями и наступившим вредом.
Научная состоятельность такого подхода подтверждается прежде всего тем обстоятельством, что различные системы права, провозгласившие ту или иную концепцию ответственности вообще и соучастников преступления в частности, фактически включают в уголовные законы и элементы других теорий.
Новые российское и армянское уголовные законодательства тоже не обошли данный подход. Задача же ученых заключается в признании и обосновании этой концепции в теории отечественного уголовного права.
Научное обоснование необходимости сближения различных систем права, в том числе основных концепций современного уголовного праза различных государств, а также практическая значимость данного подхода обусловлены глобальными закономерностями мира, в частности, стремлением самих государств — субъектов международного права к самостоятельности и независимости. При этом проблема заключается в признании того, что самостоятельность любого процесса, в том числе и человеческой деятельности, не может быть абсолютной и независимой от каких-либо факторов.
Процесс стремления к независимости всегда приводит к столкновению факторов, которые влияют на степень и, самое главное, на качество независимости того или иного явления. Не составляют исключения и случаи совместной преступной деятельности человека, в которой ни один из соучастников не может быть абсолютно независимым.
Постоянное стремление законодателя к дифференциации уголовной ответственности соучастников на основе принци па самостоятельной ответственности последних, основанной на личном вкладе в общую преступную деятельность, долж но оставаться приоритетным направлением в теории соуча стия согласно нашему уголовному праву. Однако при этом ответственность соучастников всегда будет находиться в оп ределенной зависимости от деятельности и ответственности исполнителя преступления.
Концепция «смешанной» теории соучастия полностью рас пространяется и на случаи соучастия в преступлениях со
30
специальным составом. Наличие специального исполнителя преступления, наделенного особым уголовно-правовым статусом и обусловленного его специфической функциональной ролью, порождает некоторые особенности деятельности всех соучастников и, соответственно, определяет своеобразие оснований привлечения последних к уголовной ответственности.
Отмеченная концепция ответственности соучастников имеет определенные особенности, свидетельствующие о необходимости внедрения данной концепции в теорию уголовного права и практику деятельности судебных и следственных органов.
К числу таких особенностей относятся следующие:
Отмеченная теория не создает дополнительных оснований для уголовной ответственности за соучастие в преступлении. Единственным основанием уголовной ответственности со участников является наличие в их деянии признаков соот ветствующего состава преступления.
Приведенная концепция требует постоянного выявления и учета в науке уголовного права, а также в законотворческой практике и в правоприменительной деятельности соответст вующих признаков всех теорий соучастия.
Придавая самостоятельный, индивидуальный характер ответ ственности соучастников, данная теория в максимальной степени позволяет учесть в определенных случаях зависи мость ответственности последних от деятельности и ответст венности исполнителя преступления. Ответственность соуча стников самостоятельна и не зависима и от ответственности других соучастников.
Но в определенньр; случаях ответственность одного соучастника может быть производной от ответственности другого соучастника.
Ответственность самого исполнителя не зависит от ответственности соучастников и иных исполнителей. Вместе с тем, при соис-полнительстве, в определенных ситуациях ответственность одного исполнителя может зависеть от деятельности других исполнителей.
4) Учет этих и других отличительных черт теории «смешанной» ответственности соучастников более эффективно будет со действовать борьбе с групповой преступностью и др.
Уделение особого внимания основным концепциям соучастия в данной работе неслучайно и обусловлено тем, что всестороннее ос-
вещение избранного объекта исследования — .соучастия в преступлениях со специальным составом — возможно только на основе анализа и отражения общих концептуальных проблем современной теории соучастия.
Соучастие как форма преступной деятельности с объективной стороны характеризуется разнообразием действий соучастников, выполнением каждым из них определенной роли, сливающихся в единое преступление. Это разнообразие, а также роль и степень участия каждого соучастника главным образом зависят от способа соединения двух или более лиц в единое преступное посягательство. Своеобразные способы взаимодействия соучастников, а также конкретное выполнение ими определенной роли, подчиненной единому преступному деянию, придают ему специфически-качественные черты. В одних случаях все соучастники принимают участие в выполнении объективной стороны соответствующего преступления, в других же - одни организуют преступление, вторые исполняют его, а остальные оказывают содействие исполнителям и т.д.
Все эти обстоятельства имеют принципиальное значение для определения оснований и пределов уголовной ответственности соучастников, уголовно-правовой оценки совместно совершенного преступления, а также действий каждого соучастника. Установление этих обстоятельств приобретает важное значение для индивидуализации ответственности соучастников преступления.
В теории уголовного права нет единого мнения по поводу видов соучастия. Одни ученые выделяют только формы соучастия1, другие - как формы, так и виды, и подвиды соучастия2.
При этом часто происходит смешение форм и видов соучастия. В основе деления соучастия на формы лежат наиболее типичные варианты связи между соучастниками (характер и степень субъективной связи соучастия; степень согласованности действий соуча-
1 См., напр.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. - С.197; Григорян М.В- Учение о преступлении в уголовном праве. — Ере ван: Изд-во «ЗАНГАК», 2001. - С.291 и др.
2 См.: Козлов А.П. Указ. соч. - С.186, 201; Советское уголовное право. Общая часть. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - С.180-182 и др.
32
стников; характер объективной связи между соучастниками; способ взаимодействия между соучастниками и др.)1.
Виды же соучастия образуют разновидности участия нескольких лиц в совершении преступления. Поэтому отнесение к видам соучастия по сути различных форм соучастия (соучастие без предварительного соглашения и соучастие с предварительным соглашением) неверно.
Отнесение некоторыми учеными к видам соучастия только со-исполнительства (простое соучастие) и соучастия в тесном смысле этого слова (сложное соучастие)2 не полностью раскрывает суть видов соучастия.
По этому вопросу проф. А.А. ТерАкопов в своих исследованиях отмечает, что «все разновидности участия нескольких лиц в совершении преступления перечислены в ст. 32 УК РФ, которые показывают не виды соучастия, а виды соучастников преступления. Учитывая, что наименование деятеля дается по наименованию осуществляемой им деятельности, следует признать, указывает автор, -что виды соучастников отражают виды соучастия*3.
Разделяя данную позицию, следует заметить, что классификация соучастия на виды по такому критерию {характер деятельности соучастников) существенно отличается от иных критериев деления соучастия на виды, что исключает «искусственное» приравнивание данных понятий.
Уголовное законодательство России классифицирует соучастников преступления по характеру выполняемых ими действий, по той функциональной роли, которую выполняет каждый из них в совершении преступления. «Соучастие, - как отмечал А.Н. Трайнин, — представляет собой комбинированное сотрудничество нескольких лиц, сотрудничество, в котором каждому отведено определенное место, определенные функции, определенная роль. Классификация соучастников, естественно, должна строиться применительно к этим реальным особенностям соучастия; она должна быть построе-
1 Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2-х томах. Т. 1. Общая часть. - М.: «НОР-МА-ИНФРА», 1998. - С.233.
2 См.: Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. - Екатеринбург, 1999. — С.190-191; Ушаков А.В. Групповые преступления и смежные с ним формы преступной деятельности. — Калинин, 1978. С.8, 14.
3 Тер-Акопов А.А. Указ. соч. - С. 126.
33
на на учете конкретных функций соучастника. Конечно, в каждом отдельном случае очень пестра роль и очень различны действия, выполняемые каждым соучастником. Но они все же легко поддаются типовому различию. Можно и должно говорить о соучастниках, организующих преступление и склоняющих к его совершению, о соучастниках, содействующих совершению преступления, и, наконец, о соучастниках, непосредственно совершающих преступление» 1.
Действия участников одного и того же преступления, как правило, бывают разными. Однако без установления различий между ними, выделения особенностей их функций невозможно правильное определение пределов и оснований уголовной ответственности соучастников и правильной квалификации действия каждого из них.
Без уяснения этих обстоятельств невозможно правильно и справедливо определить наказание каждому соучастнику. Иными словами, квалификация совместной преступной деятельности и назначение наказания соучастникам невозможны без четкого выделения совместно действующих лиц.
Установление видов соучастников, а также их фактической роли и степени участия в совместной преступной деятельности относится к числу ключевых проблем института соучастия.
Соучастниками признаются лица, умышленно участвующие в совершении умышленного преступления. Наше традиционное уголовное право наряду с исполнителем преступления, непосредственно совершившим преступление, в зависимости от характера действий в совершении преступления выделяет еще и следующих соучастников: организатор, подстрекатель и пособник (ст. 33 УК РФ). Такой же позиции придерживается законодательство Республики Армения (ст.38 УК). Таким образом, виды соучастников отражают виды соучастия: исполнитель — исполнительская деятельность; организатор - организаторская деятельность; подстрекатель — подстрекательство; пособник - пособничество2. Виды соучастников (соучастия), в соответствии с указанной нормой УК, отличаются друг от друга характером исполняемых функций, направленных на совершение единого преступления. Действия каждого из них определяются индивидуальными признаками, указанными в законе.
1 ТрайнинА.Н. Указ. соч. - С.98.
2 Тер-Акопов А.А. Указ. соч. — С. 126.
34
Степень участия каждого соучастника в совершении единого преступления может быть различной. Во всех случаях подразделение соучастников по характеру и по степени участия в преступлении тесно взаимосвязано. Деление их на виды, как отмечает П.Ф. Тельнов, «подчинено задаче выяснения степени участия виновного в преступлении»1.
Закрепление в законе видов соучастников свидетельствует об известной самостоятельности каждого вида соучастников. В юридической литературе высказывались мнения о том, что «исполнительская деятельность поглощает всякую иную деятельность соучастника преступления»2.
Однако такая позиция не вытекает из содержания и структуры ст. 33 УК РФ. Между соучастниками нет соподчинения. Наряду с тем что ответственность соучастников во многом определяется деятельностью исполнителя, каждый соучастник, с учетом выполняемой им функции в совершении одного и того же преступления, несет личную ответственность. Степень фактического участия каждого соучастника в совершении преступления определяется судом с учетом всех обстоятельств дела.
Деление соучастников (соучастия) на виды позволяет дифференцировать ответственность каждого соучастника. Распределение ответственности между соучастникам и участниками преступления является одной из сложных и актуальных проблем теории уголовного права. В одних системах права действует теория «эквивалентности», в соответствии с которой все участники являются исполнителями и должны нести одинаковую ответственность (США, Франция и др.).
В других системах (Германия, Россия и др.) исполнители и пособники должны нести разную степень ответственности, соразмерную с их вкладом в преступление.
Отражение данного вопроса обусловлено необходимостью глубокого исследования обозначенной проблемы — ответственности специальных субъектов; выделения оснований и пределов ответствен-
1 Тельнов П.Ф. Кто отвечает за соучастие в преступлении. — М., 1981. - С.32.
2 Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и право вые проблемы. - Киев, 1986. - С.137-143.
35
ности таких лиц, а также выведении правил квалификации соучастия в подобных преступлениях.
Вопросы о том, кто может стать исполнителем специального состава преступления, каковы пределы и формы участия иных лиц в совершении преступления со специальным составом, а также каковы основания ответственности соучастников в совершении подобных преступлений, являются малоисследованными, и их комплексное освещение возможно лишь на анализе понятия и раскрытия содержания видов соучастников (соучастия).
В соответствии со ст. 33 УК РФ, исполнитель — это лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных уголовным законом. Исполнитель - это наиболее распространенный вид соучастников. В общем числе совместно действующих лиц, как показывают данные судебной и следственной практики России и Армении, исполнители составляют примерно 90%.
Согласно законодательному определению понятия исполнителя преступления (лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами) исполнение преступления с объективной стороны состоит в выполнении деяния, описанного в статье Особенной части УК.. Возникает вопрос: это является выполнением всех действий, указанных в данной статье или же их части?
Процесс исполнения преступления имеет определенные объективные границы, очерченные законодателем при конструировании объективной (внешней) стороны преступного деяния.
Реализация исполнителем своих функций возможна только в рамках объективной стороны конкретного состава преступления. На практике же отступление от этого требования иногда приводит к ошибке в процессе квалификации преступления.
Например, действия лица, находящегося на месте преступления и содействующего исполнителю, но не связанные хотя бы с частью деяний, входящих в объективную сторону преступления, не могут рассматриваться как непосредственное участие в процессе исполнения преступления.
36
Поэтому при признании соучастника исполнителем необходимо, чтобы он полностью или частично выполнил бы объективную сторону преступления.
Исполнитель совершает оконченное преступление, приготовление или покушение на преступление (ст. 30 УК РФ).
Объективная сторона преступления может выполняться несколькими лицами. При наличии нескольких исполнителей (соисполнителей) каждый из них может принять непосредственное участие в совместном совершении преступления, а именно:
а) полностью выполнив посягательство; б) выполнив только часть действий, предусмотренных объективной стороной преступления.
По поводу понятия выполнения объективной стороны преступления в уголовно-правовой литературе единства мнений не имеется. Объективная сторона всегда включает в себя деяние, вредные последствия — когда они указаны в уголовном законе, иногда — способ, время, место и другие обстоятельства совершения преступления. Поэтому возникает вопрос: что конкретно должен выполнить участник преступления, чтобы его деятельность признать исполнительством или соисполнительством? Освещение данного вопроса не входит в круг нашего непосредственного исследования. Однако при исследовании объективной стороны преступлений, совершаемых специальными субъектами, мы будем придерживаться общепризнанной точки зрения, согласно которой «главным для любого вида преступления является деяние»1.
Исполнителем преступления по УК РФ и УК РА признается также лицо, совершившее преступление посредством использования таких лиц, которые в силу закона не подлежат уголовной ответственности.
В таких случаях имеет место так называемое посредственное причинение вреда, т.е. умышленное использование других лиц в качестве своеобразного орудия преступления.
Посредственное использование имеет место прежде всего в тех случаях, когда для выполнения объективной стороны преступления
1 См.: Козлов А.П. Указ. соч. - С.19Ы92; Ушаков А.В. Указ. соч. -С.8, 14; Шеслер А.В. Групповая преступность: криминологические
и уголовно-правовые аспекты: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. -Екатеринбург, 2000. - С.25.
37
используются лица, не подлежащие уголовной ответственности (малолетние; невменяемые; лица, совершившие преступления невиновно; в результате физического или психического принуждения и ДР-).
Следует отметить, что законодатель РА (ч. 2 ст. 38 УК) признает исполнителем преступления и тех лиц, которые совершают преступления посредством действий лиц, действующих по неосторожности, т.е. лиц, подлежащих уголовной ответственности.
Законодатель же России в ч. 2 ст. 33 УК не принял во внимание те ситуации, когда посредственное причинение вреда выражается в использовании лиц, способных нести ответственность (без их ведома).
Например, за посредственное исполнение умышленного убийства осужден Ромин, который, питая злобу к Жукову, подговорил Титова выстрелить в того из ружья, уверяя, что ружье заряжено только порохом. Титов выстрелил, ружье оказалось заряженным картечью, и Жуков был убит. Титов осужден за неосторожное причинение смерти другому человеку, так как действовал по неосторожности1.
При любой разновидности посредственного исполнения действительный исполнитель непосредственно не выполняет объективной стороны преступления. Поэтому некоторые ученые считают, что законодатель необоснованно признает посредственного причи-нителя исполнителем, поскольку последний в соответствии с законом отнесен к соучастникам преступления. Так, например, в юридической литературе указывается, что «допущение существования отдельных соучастников вне рамок самого соучастия ведет к расширению рамок рассматриваемого института и возрождению такого подхода к нему, который обычно связывается с именем А.Я. Вышинского»2.
В связи с этим автор предлагает в УК закрепить положение о том, что «не признается соучастием посредственное причинение вреда, то есть умышленное использование для совершения преступления других лиц, действовавших по неосторожности, или вообще не подлежащих уголовной ответственности в силу оснований, пре-
1 Пример цит. из книги: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. - С.209.
2 См.: Милюков С.Ф. Указ. соч. - С.79.
38
дусмотренных уголовным законом. Ответственность посредственного причинителя наступает на тех же основаниях, что и при совершении преступления одним лицом»1.
Однако проблема заключается в том, что многие ученые упускают из виду то обстоятельство, что посредственное причинение преступного вреда может иметь место и в тех случаях, когда исполнитель склоняет к совершению объективной стороны умышленного преступления лицо, подлежащее ответственности за совершенное деяние. Речь идет об умышленной форме вины последнего.
Подобное проявление посредственного причинения вреда возможно в тех случаях, когда «состав соответствующего преступления требует в качестве исполнителя специального субъекта (выделено нами -С.А.), свойствами которого не обладает лицо, выполняющее его объективную сторону, и которые имеются у лица, склонившего к совершению общественно опасных действий или способствовавшего совер-
Разделяя эту точку зрения, следует отметить, что применительно к соучастию посредственное исполнение имеет несколько значе-
Первое состоит в том, что в одних случаях виновный (исполнитель) осуществляет свои преступные цели посредством привлечения лиц, не подлежащих уголовной ответственности, или лица, действующего неосторожно. В подобных случаях соучастие не возникает, поскольку не присутствуют хотя бы два лица, способных нести уголовную ответственность.
Второе значение состоит в том, что посредственное причинение не только по внешним, но по внутренним (субъективным) признакам может совпадать с соучастием. При этом возможны две ситуа-
а) два или более соучастника по совместному сговору склоняют лицо, не подлежащее уголовной ответственности, совершить пре ступление. В таких случаях имеет место совместное посредственное исполнение — соисполнительство;
б) в соответствии с ч. 3 ст. 39 УК РА (ч. 4. ст. 34 УК РФ), лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в
1 Там же. - С.79-80.
2 Курс советского уголовного права. Общая часть. Т.1. - Л., 1968. - С.612.
39
соответствующей статье Особенной части УК, но участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя или пособника. Это означает, что пределы ответственности специальных исполнителей в соучастии ограничены: исполнителем специальных составов преступлений могут быть только специальные субъекты, а остальные соучастники, независимо от той роли, которую они выполняют для достижения совместного преступного результата, могут быть только организаторами, подстрекателями или пособниками.
В вышепривеленной статье УК говорится об участии в совершении специального преступления лицом, не являющимся специальным субъектом. При этом непонятно, идет ли речь о единоличном участии в совершении такого преступления или же совместном — со специальным субъектом.
Поскольку закон не конкретизирует эти случаи, но в обобщенном виде указывает на участие неспециального субъекта в совершении преступления со специальным субъектом, то независимо от упомянутых случаев ответственность таких лиц за исполнительство должна исключаться.
Например, если военнослужащий, реализуя месть в отношении командира (начальника) за его служебную требовательность, склонил гражданских лиц к насилию над ним, и последние, выполняя просьбу военнослужащего, совершили насилие, то военнослужащий признается исполнителем воинского преступления, а гражданские лица, учинившие насилие, считаются пособниками в совершении воинского преступления. В юридической литературе подобные случаи также относятся к посредственному причинению вреда специальным отношениям.
Аналогичной позиции придерживается и судебная практика. Например, в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 10.02.2000г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» (п.!2) говорится, что «должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, предложившее подчиненному ему по службе работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей организации дать взятку должностному лицу, несет ответственность как исполнитель дачи взятки, а работник, выполнивший его поручение, - как соучастник дачи взятки. В тех случа-
40
ях, когда должностное лицо в тех же целях своему подчиненному предлагает передать лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, деньги, ценные бумаги, иное имущество, несет ответственность как исполнитель коммерческого подкупа, а работник, выполнивший его поручение, как соучастник коммерческого подкупа»1.
Однако в уголовно-правовой литературе по данному вопросу имеются и иные точки зрения, суть которых заключается в том, что подобные решения вопроса противоречат уголовному закону, поскольку при посредственном причинении вреда ответственность лица, его нанесшего, либо исключается вовсе, либо наступает за неосторожное преступление.
Например, И.П. Малахов в своих исследованиях пришел к выводу, что соучастием должно признаваться не умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления, а «умышленное участие одного лица в преступном деянии другого»2.
В качестве выхода из ситуации В.Г. Павлов считает, что при подобных обстоятельствах гражданские лица как исполнители должны нести уголовную ответственность не за воинское преступление, а за преступление против личности.
Военнослужащий же, склонивший гражданских лиц к совершению преступления, должен отвечать за подстрекательство по соответствующей статье Особенной части УК со ссылкой на ст. 34 УК РФ3.
Представляется, что такая позиция неверна и не вытекает из соответствующих норм уголовного закона. Посягательство на специальные объекты возможно только со стороны участников данных специальных отношений.
Исполнителями (соисполнителями) таких преступлений являются лишь те субъекты, которые наделены дополнительными, особыми качествами и признаками, т.е. специальные субъекты. Общест-
1 Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ. - М: «Экзамен», 2002. - С.533.
2 Малахов ИЛ. Соучастие в воинских преступлениях в свете общего учения о соучастии по советскому уголовному праву. - М., 1959. - СИ.
3 Павлов В.Г. Субъект преступления. — Санкт-Петербург: «Юриди ческий центр Пресс», 2001. - С.254.
41
венная опасность подобных преступлений состоит в том, что посягательство на специальные объекты совершается «изнутри», самими носителями этих отношений.
Кроме того, при посредственном исполнении соучастник (в данном случае специальный субъект), организовавший или подстрекавший другое лицо к совершению преступления со специальным составом, осознает свое деяние и желает причинить с помощью «других рук» преступный вред именно тем отношениям, участником которых он является.
При таких обстоятельствах квалификация содеянного специальным субъектом, а также частным лицом, выполнившим объективную сторону данного преступления, не по специальной, а по аналогичной норме, содержащейся в Особенной части УК, является нарушением уголовно-правовых принципов законности и вины.
Ошибочным является мнение о том, что действия гражданского лица в приведенной ситуации следует квалифицировать как воинское преступление.
В соответствии со ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.
То обстоятельство, что гражданское лицо допуская насилие в отношении военнослужащего желает или сознательно допускает причинение вреда интересам военной службы, еще не означает, что оно может нести ответственность за воинское преступление в качестве его исполнителя (соисполнителя). Наличие вины является необходимым, но недостаточным условием признания лица субъектом данного преступления. Вина является одним из признаков субъективной стороны конкретного состава преступления. Основанием же уголовной ответственности является не наличие вины, а совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом (ст. 8 УК РФ). Гражданское лицо в соответствии с уголовным кодексом (ст. 331) не может быть исполнителем или соисполнителем преступлений против военной службы. Значит, в рассмотренной ситуации надлежащий (специальный) субъект преступления отсутствует. Следовательно, действия гражданского лица, оказавшего по подстрекательству военнослужащего насилие в отношении другого военнослужащего, нельзя оценивать как исполнительство или соисполнительство.
42
Вопрос об ответственности специальных субъектов, а также о соучастии в преступлениях со специальным составом, является достаточно сложным и дискуссионным в теории уголовного права и в правоприменительной практике. Освещению данных проблем посвящены последующие главы настояшей работы.
Здесь необходимо сделать вывод, что применительно к посредственному причинению исполнителем преступления может быть признано и то лицо, которое совершило преступление посредством использования других лиц, за те умышленные преступления, исполнителем которого может быть специальный субъект. Это положение необходимо включить в ч. 2. ст. 33 УК РФ (ч. 2. ст. 38 УК РА).
Кроме того, следует заметить, что в подобных ситуациях речь идет о специальной форме соучастия, когда в качестве способа умышленного совместного совершения преступления со специальным составом специальный субъект для выполнения объективной стороны данного преступления привлекает другое лицо, не наделенное признаками специального субъекта. Иными словами, при такой разновидности посредственного причинения вреда имеет место соучастие.
В связи с этим было бы правильным в теории уголовного права в качестве самостоятельного критерия деления соучастников (соучастия) на виды учитывать также способ вовлечения соучастников в совместную преступную деятельность, имея в виду посредственное исполнение в тех случаях, когда подстрекательством специального субъекта иным лицом совершается преступление со специальным составом.
Таким образом, одним из видов соучастия является исполнительская деятельность. Осуществление этой деятельности возможно исполнителем преступления, т.е. лицом, способным нести уголовную ответственность, обладающим общими признаками субъекта, а также дополнительными признаками, обязательными для того или иного вида или конкретного состава преступления. Следовательно, если в соответствии с конструкцией статьи Особенной части УК ответственность установлена для лица, обладающего признаками специального субъекта, лица, не наделенные такими признаками, не могут быть исполнителями (соисполнителями) данного преступления.
Исполнительская деятельность в преступлениях со специальным составом может проявиться и в случае посредственного причинения
43
вреда специальным объектам, когда по подстрекательству специального субъекта деяние выполняется неспециальным субъектом.
Организатор преступления (организаторская деятельность).
В соответствии с ч. 3 ст. 33 УК РФ организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество {преступную организацию) либо руководившее ими. (В новом УК РА о преступной организации ничего не говорится.)
Действия организатора могут состоять: а) в организации совершения преступления (выбор объекта посягательства, разработка плана преступной деятельности, выбор соучастников, подготовка орудий и средств совершения преступления и т.д.); б) в руководстве совершением преступления (распределение обязанностей между соучастниками, дача указаний в процессе совершения преступления и т.д.); в) в создании организованной группы или преступного сообщества либо руководстве ими.
Поэтому организатор является самым опасным субъектом в соучастии. С объективной стороны организатор объединяет усилия и направляет деятельность других соучастников на достижение преступного результата. При этом организатор может непосредственно участвовать, быть соисполнителем преступления либо распоряжаться действиями других соучастников, находясь на месте совершения преступления или вне его пределов. Часто организатор действует в составе организованной группы или преступного сообщества.
С субъективной стороны действия организатора характеризуются только прямым умыслом. Являясь инициатором и руководителем совершенного преступления, он не только сознает общественно опасный характер своих действий и их последствий, но и желает наступления общественно опасных последствий, объединяя усилия других соучастников для достижения этих последствий.
Из законодательного определения организатора преступления следует, что организатором преступного сообщества (преступной организации) является лицо, создавшее такое сообщество (организацию). Некоторые ученые считают, что понятие руководителя такого сообщества охватывается понятием организатора преступного сообщества1.
1 Уголовная ответственность за организацию преступного сообще-44
По многим объективным признакам деятельность организатора и руководителя сообщества совпадает, но термины «организатор» и «руководитель» имеют различное этимологическое значение и поэтому в законе употребляются самостоятельно.
Руководство преступным сообществом {преступной организацией) возможно после организации таких структур или одновременно с их созданием. Лицо может приступить к руководству структурами, которые в прошлом занимались преступной деятельностью.
Организатор преступного сообщества временно может быть и его руководителем, но руководитель — только руководителем, но не организатором. Если руководитель является и организатором преступления, то он в уголовно-правовом смысле признается только организатором1.
В тех случаях, когда организатор непосредственно не участвует в выполнении объективной стороны состава преступления, его действия квалифицируются по соответствующей статье со ссылкой на ст. 33 УК РФ (ст. 38 УК РА).
Действия же организаторов преступлений, совершенных организованной группой и преступным сообществом, подлежат квалификации по соответствующим статьям Особенной части УК, без ссылки на статью об ответственности соучастников.
Подстрекатель преступления (подстрекательство).
Согласно ч. 4 ст. 33 УК РФ (ч. 3 ст. 38 УК РА) подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Законодатель выделил некоторые средства и формы подстрекательства, но с учетом того, что дать их исчерпывающий перечень не представляется возможным, указал, что подстрекательство может выражаться и иным способом.
Подстрекательство может быть осуществлено различными способами в зависимости от личных качеств подстрекаемого, от характера предполагаемого преступления, обстоятельств, при которых
ства: Учебник/Под ред. Л.Д.Гаухмана, Л.М.Колодкиной, СВ. Максимовой. - М.: «Юриспруденция», 1999. - С.13-14. 1 Гришко ЕЛ, Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовой и криминологический аспекты: Учебное пособие — М.: «Центр Юридической ли-тературы», 2001. -С.95.
45
осуществляется подстрекательство и должно совершиться преступление.
Чаще всего подстрекатели пользуются подкупом, обманом, физическим или психическим воздействиями, советами, уговорами, использованием своего служебного положения и др.
Свою преступную роль подстрекатель скрытым образом исполняет через других, как правило, неустойчивых лиц, часто с привлечением несовершеннолетних детей.
С объективной стороны подстрекательство характеризуется активной формой поведения — действием.
При определении формы подстрекательства и решении вопроса об ответственности подстрекателя необходимо иметь в виду, что взаимодействие соучастников не может выходить за рамки свободных, не вынужденных отношений, при котором каждый из них по собственной воле участвует в совместном преступлении. Даже в случае физического или психического принуждения, когда подстрекаемый тем не менее имеет возможность отказаться от совместной преступной деятельности, но не отказывается от этого и по своему усмотрению фактически присоединяется, должен отвечать за свой действия.
Если же подстрекаемый действует с подавленной, вынужденной волей, он не может быть признан соучастником преступления.
Поэтому новые уголовные законодательства России и Армении к числу обстоятельств, исключающих преступность деяния, относят также исполнение приказа или распоряжения, физическое или психическое принуждение. В подобных случаях уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ (распоряжение) или оказавшее принуждение.
Иными словами, в таких ситуациях проявляется посредственное исполнение преступления.
В результате бездеятельности подстрекательство невозможно. Содействие преступлению путем бездействия может при определенных обстоятельствах оцениваться как пособничество.
Подстрекательство всегда направлено на нарушение тех или иных отношений, на совершение конкретного преступления. В противных случаях неконкретные, общие призывы к совершению преступления, не адресованные определенному лицу, не могут рассматриваться как подстрекательство.
46
В некоторых случаях общие призывы к совершению преступления могут содержать признаки самостоятельного преступления, предусмотренного в Особенной части УК. Например, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны считаются оконченным преступлением с момента устного выступления с такого рода призывами или с момента, содержащего такие призывы в публикациях ст. 354 УК РФ (ст. 385 УК РА).
Функции любого соучастника начинаются осуществляться с самого начала совместной преступной деятельности, со стадии приготовления к преступлению. Поэтому действия лица будут признаны подстрекательством тогда, когда подстрекаемый не только дает согласие на совершение преступления, но и приступает к выполнению определенных преступных действий.
Одним из способов подстрекательной деятельности является провокация преступления, т.е. вовлечение другого человека в преступление в целях его последующего разоблачения.
Несмотря на то что в бывшем и в современных законодательствах России и Армении нет каких-либо предписаний об ответственности за провокационную деятельность, тем не менее, традиционно провокация и в нашем уголовном праве, и на практике рассматривается как преступление, квалифицируемое как подстрекательство. Например, в соответствии с постановлением Пленума Верховного суда РФ от 14.02.2000. №6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» (п. 21), лицо влечет за собой уголовную ответственность за мошенничество, если оно с целью завладевания ценностями склоняет взяткодателя к даче взятки и, получив ценности, присваивает их. Действия владельца ценностей в таких случаях подлежат квалификации как покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп.
В УК РФ впервые установлена уголовная ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа. Аналогичная норма содержится и в УК РА (ст. 350).
В юридической литературе справедливо предлагается ввести в УК РФ статью «Провокация преступления»1.
Подстрекатель не организует преступление, не руководит действиями других соучастников. Его роль ограничивается склонением другого лица к совершению преступления.
Арутюнов А. Указ. соч. - С.37-39.
47
С субъективной стороны подстрекатель всегда действует умышленно. Его умыслом охватывается прежде всего сознание того, что он подстрекает и возбуждает лицо к решимости совершения определенного преступления. Подстрекатель осознает общественно опасный характер своего деяния, предвидит его общественно опасные последствия и, как правило, желает наступления этих последствий.
Подстрекательство предполагает умышленное склонение подстрекаемого к преступлению, совершаемого им также умышленно. В некоторых составах преступлений законодателем предусмотрены два вида последствий, например, в случаях преступлений с двумя формами вины. В этих ситуациях соучастие возможно лишь в пределах последствия охватываемых умыслом соучастников. А последствия, явившиеся результатом неосторожной вины исполнителя, как справедливо отмечается в литературе, находятся за пределами соучастия1.
Мотивы действий подстрекателя могут быть различными и необязательно совпадать с мотивами, которыми руководствовались исполнитель или другие соучастники преступления.
Действия подстрекателя квалифицируются по статье Особенной части УК, предусматривающей преступление, к совершению которого он подстрекает исполнителя, но со ссылкой на статью об ответственности соучастников. Если же подстрекатель принимает непосредственное участие в совершении преступления, то он становится его соисполнителем.
Пособник (пособничество). В соответствии с ч. 5 ст. 38 УК РА пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий в его реализации, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно и лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть эти предметы.
В преступлениях с общим составом пособник непосредственно не участвует в выполнении объективной стороны преступления, не
1 Прохоров B.C. Преступление и ответственность. — Л., 1984. — С.60-62.
совершает действий, описанных в статьях Особенной части УК. Этим он и отличается от исполнителя и соисполнителя.
Конструкции некоторых преступлений, совершаемых специальными субъектами, допускают выполнение хотя бы части объективной стороны преступления неспециальными субъектами (изнасилование; хищение имущества, вверенного виновному, и др.). В теории и на практике по поводу уголовной оценки действий таких лиц существуют различные позиции. Одни ученые с учетом правила, закрепленного в ч. 4 ст. 34 УК РФ (ч. 3 ст. 39 УК РА), считают, что в таких случаях действия неспециальных субъектов должны оцениваться как пособничество1, другие отмечают, что понятием пособничества не охватываются случаи, когда лицо выполняет хотя бы часть объективной стороны преступления, поэтому предлагают действия неспециальных субъектов, принимавших участие в совершении данного преступления, рассматривать как соисполнительство2. Наконец, в юридической литературе имеется и иная точка зрения, согласно которой в приведенной ситуации действия неспециального субъекта выражаются не в совместном исполнении объективной стороны преступления, а в содействии таким лицом исполнителю преступления.
Так, проф. А.А. ТерАкопов применительно к ст. 335 УК РФ высказал заслуживающую особого внимания точку зрения, согласно которой рассматриваемые случаи (гражданское лицо совместно с военнослужащим принимают участие в избиении равного с ним по служебному положению и воинскому званию военнослужащего) охватываются понятием пособничества в виде «устранения препятствий». Проблема, по его мнению, заключается в том, чтобы не спутать совместное исполнение объективной стороны преступления с содействием (подчеркнуто нами - С.А.) одним лицом другому в выполнении объективной стороны преступления. Не всякое содействие, содержащее отдельные признаки объективной стороны состава преступления, например, насилие, можно отнести к ней. Объ-
1 См., напр.: Российское уголовное право. Общая часть. — М., 1997.
- С.209.
2 См.: Волженкин Б.В. Указ. соч. С.15; Милюков С.Ф. Указ. соч. — С.82; Рарог А.И. Квалификация преступления по субъективным признакам. — Санкт-Петербург: «Юридический центр Пресс», 2003.
- С.274.
ективную сторону образует только то деяние, которое направлено на объект, указанный в конкретном составе преступления. Все иные действия, не относящиеся к посягательству на данный объект, не вводят в объективную сторону преступления, они могут лишь содействовать ее осуществлению, что охватывается пособничеством (ч. 5 ст. 33).
В связи с этим делается вывод о том, что действия гражданских лиц образуют посредничество в данном воинском преступлении1. Применительно, например, к составу изнасилования автор, также
потерпевшей женщина является соисполнителем»2. При этом вопрос о том, почему в одном случае деяние неспециального субъекта должно рассматриваться как пособничество, а в другом — как соис-полнительство, остается открытым.
В целом, разделяя позицию о том, что в зависимости от конструкции состава преступления со специальным субъектом, определенное содействие, содержащее отдельные признаки объективной стороны преступления, следует оценивать как пособничество, необходимо отметить, что подобное комментирование понятия «пособник» небесспорно. На наш взгляд, анализируемая проблема должна быть решена посредством расширения понятия пособничества.
Проблема отграничения пособничества от соисполнительства в составах преступлений со специальным составом, часть объективной стороны которых могут выполнить и неспециальные субъекты, - достаточно сложная и многоаспектная. Проблема, на наш взгляд, должна быть решена посредством расширения понятия пособничества Кроме того, принципиальное значение имеет проблема всестороннего исследования положения, закрепленного в ч. 4 ст. 34 УК РФ. Изучению данной проблемы посвящена глава 3 настоящей работы. Здесь же подчеркнем, что мы будем придерживаться понятия пособничества с учетом отмеченной особенности.
Действия пособника должны быть совершены до момента окончания преступления. Они, как правило, предшествуют факту со-
1 Тер-Акопов АЛ. Ответственность за нарушение специальных пра вил поведения. - М.: «Юр. лит.», 1995. - С.71-72.
2 Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической при чинности в уголовном праве. - М.: «Юркнига», 2003. - С. 145.
50
вершения преступления, но могут и совпадать с моментом его совершения.
В длящихся преступлениях пособничество возможно и после совершения деяния, описанного в норме Особенной части УК. При этом определенную сложность вызывает вопрос об исчислении сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности за совершение некоторых длящихся преступлений (дезертирство и др. составы). В юридической литературе отмечается, что обстоятельствами, прекращающими длящееся преступление, могут быть не только явка с повинной и задержание виновного, но и окончание срока, в течение которого лицо обязано было нести соответствующие обязанности. Наступление хотя бы одного из этих обстоятельств исключает возможность соучастия в таком преступлении1.
Из законодательного определения пособничества следует, что способы и средства оказания помощи в совершении преступления могут быть физическими (материальными) и интеллектуальными (психическими). Учитывая это обстоятельство, в теории уголовного права пособничество делят на два вида: физическое и интеллектуальное.
Физическое пособничество представляет собой содействие преступлению путем предоставления средств к его совершению. Такие действия могут быть выражены в предоставлении исполнителю необходимых средств для совершения преступления, в устранении препятствий совершения преступления исполнителем.
Физическое пособничество проявляется главным образом в активных действиях, однако в некоторых случаях оно возможно и путем бездействия в виде невыполнения лицом лежащей на нем правовой обязанности воспрепятствования совершению преступления. При этом обязанность препятствования совершению преступления может быть основана на законе или других правовых актах, либо может вытекать из требований службы, профессии и т.д.
Физическое пособничество, кроме содействия совместно совершаемому преступлению, может содержать признаки и иного преступления.
1 Шулепов И.А. Исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности за дезертирство // Военно-правовые проблемы государственно-правовой реформы: Мат. теорет. сем. военно-юрид. фак. сост. 31.10.1988г. - М.: Воен. ист. 1990. - С.82-87.
51
Интеллектуальное пособничество заключается в содействии совершению преступления путем предоставления советов, указаний или заранее данного обещания скрыть преступника, орудие и средства совершения преступления, следов преступления либо предметов, добытых преступным путем, а равно и в обещании приобретения или сбыта этих предметов. При интеллектуальном пособничестве лицо своими советами и указаниями укрепляет решимость исполнителя совершить преступление и содействует более удачному подбору орудий и средств совершения преступления, определению места и времени его совершения, путей и способов сокрытия следов преступления. От подстрекателя пособник отличается тем, что он не возбуждает решимость совершить преступление, а лишь поддерживает эту решимость своими указаниями и советами, содействуя осуществлению преступного намерения исполнителя.
К интеллектуальному пособничеству относится и заранее обещанное укрывательство. Обещание скрыть преступника, следы преступления, а равно приобретение или сбыт предметов, добытых преступным путем, даются до начала или во время совершения преступления, но никак не после его окончания.
Обещание, данное после совершения преступления, не является пособничеством, оно находится вне пределов соучастия.
С субъективной стороны пособничество совершается умышленно, с прямым или косвенным умыслом. Пособник осознает, что он принимает участие в совершении определенного преступления, содействует достижению преступного результата, которого желает или сознательно допускает.
В преступлениях со специальным составом пособник сознательно содействует исполнителю - специальному субъекту в посягательстве на специальный объект, желает или сознательно допускает причинение вреда именно данному объекту.
Мотивы и цели пособника могут совпадать с мотивами или целями исполнителя и других соучастников, но могут и не совпадать. Это обстоятельство не влияет на квалификацию преступления.
Однако в умышленных преступлениях со специальным составом отсутствие специальной цели — причинение вреда специальным объектам - исключает ответственность соучастников за посягательство на данный объект.
Проблема отграничения соисполнительства от пособничества рассматривалась крупнейшим русским юристом Н.С. Таганцевым.
Он выделил следующую схему, охватывающую данную проблематику. «Всякий участник, - пишет он, - вкладывается в преступное деяние своей деятельностью и своей волей, поэтому различия между главными виновными — исполнителями и второстепенными пособниками — можно искать или в объективных свойствах деятельности, или в особенных свойствах их виновности, или, наконец, в том и в другом вместе; отсюда три группы попыток: объективная, субъективная и смешанная»1.
Не принимая эти теории, Н.С. Таганцев указывал, что «самостоятельный характер института соучастия заключается в том, что все соучастники отвечают за все совершенное, какова бы ни была их деятельность; что единение или общность вины изменяют общее учение о причинной связи в том, что допускается связь деятельности и результата, внутренняя, психическая и т.п. Если иногда степень виновности участвующих окажется различной, то это будет зависеть от Индивидуальной обстановки их деятельности, а не от принадлежности к тому или иному типу».
При этом Н.С. Таганцев особое внимание обращал на главных виновных, которые «физически выполняют деяние или прямо содействуют его выполнению», и участников, которые «или подстрекали к учинению деяния, давали советы и указания, или доставляли средства, необходимые для совершения преступления»2.
Анализ норм о соучастии свидетельствует о том, что четкого различия между исполнителем (соисполнителем) и соучастниками преступления нет. В соответствии с понятием соучастия соучастники также принимают участие в совершении преступления. Однако в этом случае нельзя выделить разницу между теми, кто выполняет объективную сторону преступления, т.е. свое деяние направляет на объект преступления, и теми, кто не принимает участия в исполнении преступления, но своей деятельностью связан с ним.
В юридической литературе верно отмечается, что ст. 32 УК РФ нужно изложить в новой редакции, выделив при этом соисполне-ние преступления и соучастие в преступлении3.
1 Таганцев Н. С. Русское уголовное право: В 2-х т. Часть Общая. Том
I. - Тула: «Авто-граф». - 2001. - С.587-588.
2 Таганцев Н.С. Указ. соч. - С.583.
3 Тер-Акопов А.А. Указ. соч. — С.215, 220. Автор детально исследовал детерминистические свойства соучастия в преступлении, выявил
53
Изменение в объекте посягательства возможно действиями (бездействием) исполнителя преступления. Такое причинение осуществляется посредством выполнения объективной стороны преступления. Всякое уголовно наказуемое деяние причиняет или способно причинить вред охраняемым законом объектам (социальным интересам). При этом нарушается и определенный порядок отношений, обеспечивающий эти интересы. «В одних случаях вред охраняемому интересу причиняется посредством нарушения соответствующих отношений. В других случаях причинение вреда одновременно представляет собой нарушение определенного порядка отношений»1.
Установление содержания этих отношений, а также особенностей причинения им вреда имеют важное значение для определения оснований и пределов ответственности исполнителей и соучастников преступления.
В тех случаях, когда закон устанавливает ответственность за причинение вреда охраняемому интересу посредством нарушения специальных отношений (правосудие; интересы военной службы и т.д.), исполнителями (соисполнителями) таких преступлений могут быть только участники данных отношений, так называемые специальные субъекты. Исполнение в таких преступлениях выражается в нарушении специальным субъектом возложенного на него специального порядка поведения. Действия соучастников преступления не могут выражаться в таком нарушении, поэтому они могут нести ответственность в качестве организатора, подстрекателя либо пособника.
При причинении вреда обшим интересам (отношениям) подобного ограничения не имеется.
Таким образом, действующее уголовное законодательство на конкретные виды соучастия не указывает, а лишь выделяет виды соучастников. В соответствии с видами соучастников следует выделять и виды соучастия, поскольку каждый соучастник выполняет отведенную ему законом деятельность.
Исполнительство как вид соучастия выражается в непосредственном исполнении деяния, образующего объективную сторону
механизм причинения вреда соучастниками преступления - (C.22Q-
226).
1 Там же. - С.223.
преступления, а другие виды — организаторская деятельность, подстрекательство и пособничество — создают условия для выполнения такого деяния.
Рассмотрев в общих чертах понятие и виды соучастия, следует отметить, что в отличие от уголовных законодательств многих государств наше законодательство в уголовном законе не только выделяет виды соучастников, но прежде всего определяет понятие соучастия. Данный подход сохранен и в новых Уголовных кодексах стран СНГ и Балтии1.
В связи с этим уголовное законодательство России и Армении продолжает развиваться в правильном направлении, не только сохраняя понятие соучастия, но и еще более совершенствуя его. Примечательно, что в соответствии с новой редакцией понятия соучастия оно возможно только в умышленных преступлениях. С учетом этого, а также принимая во внимание и другие существенные положения, касающиеся норм о соучастии в преступлении, особо актуальным становится теоретическое обоснование и освещение этих нововведений. С другой стороны, некоторые проблемы ответственности соучастников и вопросы соучастия в целом, остались не полностью решенными, а некоторые предложенные законодателем варианты их нормативного решения содержат в себе противоречия или несогласованность с другими нормами.
Для всестороннего исследования проблемы соучастия в преступлениях со специальным составом, что и является предметом нашего исследования, рассмотрим содержание признаков соучастия.
