
4 Заказ 7352 ,„
Казахской ССР), прокурор или общественный обвинитель (ст. 318 УПК УССР).
УПК Эстонской ССР (ст. 256) и УПК Латвийской ССР (ст. 294) допускают выступления в прениях потерпевшего и (в Латвийской ССР «или») его представителя по всем делам.
И только УПК Киргизской ССР совсем не называет ни потерпевшего, ни его представителя в числе субъектов судебных прений (ст. 295).
Итак, имеется несколько правовых решений одного и того же вопроса. Какое из них является оптимальным?
Ответ могли бы дать специальные социологические исследования роли потерпевшего и его представителя в повышении уровня законности и обоснованности судебных решений.
С теоретических позиций создание условий для повышения активности любого участника уголовного процесса, тем более лица, пострадавшего от преступления, важно в целях обеспечения всесторонности, объективности и полноты исследования обстоятельств цела.
Важнейшим доводом в пользу расширения прав потерпевшего и его представителя по участию в судебных прениях, на наш взгляд, является положение ст.58Конституции СССР о праве гражданка судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество. Повышение роли уголовного судопроизводства в защите гражданина от каких бы то ни было посягательств — насущная задача.
Различия в определении круга других участников судебных прений процессуальным законодательством союзных республик менее существенны, но они все же имеются.
Так, если УПК РСФСР в ч. 1 ст. 295 к числу участников судебных прений относит обвинителей и защитников, то УПК большинства других союзных республик называют соответственно прокурора и общественного обвинителя, защитника и общественного защитника. Казалось бы, последние формулировки более удачны, однако надо учитывать, что даже в деле с одним подсудимым может быть несколько как профессиональных, так и общественных защитников и обвинителей.
УПК всех союзных республик предусматривают без каких-либо оговорок участие в прениях гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей.
УПК Эстонской ССР (ч. 2 ст. 256) относит к числу участников судебных прений помимо перечисленных выше лиц также законного представителя несовершеннолетнего подсудимого. В УПК других союзных республик такой нормы нет, однако на практике принципиальная возможность аналогичного расширения круга субъектов судебных прений на основе этих УПК имеется.
Так, по определению суда или постановлению судьи в качестве защитников могут быть допущены близкие родственники и законные представители обвиняемого, а также другие лица3. В этом 50
случае они подпадают под понятие защитника и лишь тогда получают право на участие в прениях.
Если вопрос об участниках судебных прений как научная проблема всецело решается в рамках правового регулирования, то вопрос о содержании судебной речи различных участников прений имеет наряду с правовым аспектом и ряд других важных аспектов. На судебную речь накладывает отпечаток не только характер отстаиваемого интереса, но и культурные'традиции, господствующие в данном обществе представления о системе ценностей, нравственные установки и индивидуальные качества оратора.
В юридической литературе наибольшим вниманием по справедливости пользуются речи профессиональных участников прений — государственного обвинителя и защитника-адвоката.
«Состязательное начало в процессе, — писал А. Ф. Кони,— выдвигает как необходимых помощников судьи в исследовании истины — обвинителя и защитника. Их совокупными усилиями освещаются разные противоположные стороны дела и облегчается оценка его подробностей»4.
Судебная речь является разновидностью ораторского искусства. Но она подчиняется законам последнего лишь отчасти, и это послужило основанием для выделений в науке о красноречии самостоятельного раздела, посвященного судебному красноречию, расцвет которого в России начался в период, последовавший за судебной реформой 60-х годов XIX века, создавшей суд присяжных заседателей с его состязательной формой исследования обстоятельств дела5.
Убедительность и обоснованность, объективность и безупречная логика, искренность и простота судебной речи предпочтительнее зажигающего пафоса эмоций.
А. Ф. Кони выделял такие черты обвинителя, как «спокойствие, отсутствие личного озлобления против подсудимого, опрятность приемов обвинения, чуждая к возбуждению страстей и искажению данных дела, и, наконец, что весьма важно, полное отсутствие лицедейства в голосе, в жесте и в способе держать себя на суде... Лучшие из наших судебных ораторов поняли, что в стремлении к истине всегда самые глубокие мысли сливаются с простейшим словом»6.
Требование объективности, доказательности и высокой гражданственности предъявляется и к судебной речи адвоката, процессуальному значению, содержанию, структуре, нравственным аспектам которой посвящены специальные исследования7.
Судебная речь не может выходить за пределы предмета прений, но и не призвана исчерпать его. Если предметом судебных прений может быть все, что имеет отношение к данному делу, то предмет судебной речи конкретного участника процесса ограничивается отстаиваемым тезисом. Ближе всего к предмету судебных прений по своему объему стоит речь прокурора', функция которого не исчерпывается поддержанием обвинения. Осуществляя надзор за законностью выносимых судом решений, прокурор дол-
** 51
жен высказать свои соображения по всем вопросам, подлежащим разрешению судом при постановлении приговора, независимо от того, выступает ли он с обвинительной речью или обосновывает свой отказ от поддержания обвинения.
Поддерживая обвинение, прокурор вынужден в любом случае показать сущность обвинения, его обоснованность материалами дела, изложить уголовно-правовые и гражданско-правовые последствия совершенного преступления. Это приводит к тому, что обвинительная речь имеет довольно стабильную структуру,слагаясь из ряда обязательных составных частей (элементов).
Элементы обвинительной речи прокурора подробно рассматриваются в специальной литературе8, и мы в данном случае ограничимся лишь выделением отдельных спорных вопросов практики поддержания обвинения.
Тот факт, что между требованиями прокурора о мере наказания и приговором суда в этой части нередко наблюдается несовпадение, заставляет процессуалистов периодически возвращаться к обсуждению вопроса о целесообразной степени конкретности обвинительной речи в определении размера наказания. Действительно, нельзя не видеть проблемы в том, как по-разному оценивают одни и те же обстоятельства два государственных органа — прокурор и суд. То, что кажется естественным специалистам, способно вызвать недоумение судебной аудитории, подрывая доверие к объективности и справедливости правосудия.
В этой связи представляется не лишенными оснований соображения тех авторов, которые считают, что высказывания прокурора о размере наказания должны сообразовываться с конкретными особенностями дела. Так, по групповым делам, когда возникает необходимость выделить роль каждого подсудимого, прокурору трудно избежать указания на размер наказания. Подобная ситуация складывается и в тех случаях, когда речь идет о возможности применения санкции, исключительной по своей суровости- В остальных случаях прокурор может и не конкретизировать свое предложение о размере наказания. Такое мнение обосновывали с небольшими различиями Л. Н- Смирнов, И. Д. Перлов, Е. А. Матвиенко, В. М. Савицкий и некоторые другие авторы. Нам представляется, что их суждения не противоречат процессуальному законодательству и правильно ориентируют прокурора на гибкое, разумное использование его полномочий с учетом и особенностей дела, и соображений престижа государственного правоохранительного органа.
Уместно заметить, что Генеральный прокурор СССР в приказе № 12 от 4 февраля 1983 г., специально посвященном повышению качества и эффективности прокурорского надзора за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел в судах, не высказывает по этому вопросу каких-либо категорических рекомендаций, оставляя его решение на усмотрение прокурора-обвинителя. Вместе с те*м в приказе подчеркивается необходимость повышения личной ответственности прокурора за правильность занимаемой позиции 52
и соответствие ее результатам судебного следствий,'чтобы каждое выступление государственного обвинителя отвечало высоким- требованиям общей и профессиональной культуры,.
Такие рекомендации могут показаться недостаточно конкретными, но они для данной ситуации являются единственно правильными, ибо это тот случай, когда самые детальные правила деятельности не восполняют отсутствие подлинного профессионального мастерства, чувства меры и такта работника, его нравственной воспитанности.
Предмет судебной речи прокурора- может существенно измениться, если данные судебного следствия не подтвердят предъявленного подсудимому обвинения. В этом случае отпадает необходимость обоснования квалификации и меры наказания, анализа смягчающих и отягчающих обстоятельств, данных о личности подсудимого, причинах и" условиях, способствовавших совершению преступления, и др. Однако, учитывая особенности реализации принципа состязательности в советском уголовном процессе, прокурор не может ограничиться сообщением об отказе от поддержания обвинения. Необходимость мотивировать такой отказ (ст. 248, ч. 3, УПК РСФСР) обязывает прокурора проанализировать собранные доказательства.
Вопрос о том, в какой момент судебного разбирательства прокурор может заявить отказ от поддержания обвинения, на наш взгляд, следует решить однозначно,— только на этапе судебных прений, ибо позиция прокурора и в этом случае должна основываться на рассмотрении всех обстоятельств дела.
В отличие от прокурора, адвокат-защитник выполняет одностороннюю функцию, связанную с реализацией права подсудимого на защиту. Для него ориентир — законные интересы подзащитного, и это накладывает существенный отпечаток на его судебную речь. Речь защитника — в любом случае защитительная речь, ибо он не вправе отказаться от принятой на себя защиты, не вправе стать на позицию изобличения подсудимого.
В защитительной речи могут быть выделены те же структурные элементы, что и в речи прокурора: защитник излагает сущность предъявленного обвинения, соотносит обвинение с доказа-тельствам'и, подвергает анализу юридическую оценку деяния, характеризует личность подзащитного и т,, д. Но делает он это пот, углом зрения защиты, преследуя цель, поставленную перед ним законодателем (ст. 23 Основ).
В соотношении обвинительной и защитительной речей убедительно и наглядно проявляется состязательное начало судопроизводства.• И оно тем ярче, чем большим расхождением характеризуются позиции обвинения и защиты. Такое построение судебных прений создает необходимые условия для всестороннего исследования материалов дела и оценки доказательств, облегчает задачу суда по обоснованному законному и справедливому разрешению дела.
53
Вместе с тем следует подчеркнуть, что спор, полемика способны не только к прояснению обстоятельств дела, но и к их запутыванию, затемнению, к введению слушателей в заблуждение. Поэтому так важно соблюдение нравственных требований, налагаемых на профессиональных участников судебных прений. И прокурор и адвокат должны быть умеренными в приемах, не переходя границы дозволенного законом и моралью.
Опытный прокурор может до минимума свести основу для полемики, если он не допустит натяжек в оценке доказательств, если проявит принципиальность в освещении не только сильных, но и слабых сторон обвинения, если его выводы и предложения будут построены на прочном фундаменте объективной и всесторонней оценки как изобличающих, так и оправдывающих подсудимого материалов дела, как отягчающих, так и смягчающих его ответственность обстоятельств,,
Позиция защиты, ее полемический и эмоциональный накал — это почти всегда реакция на обвинение, обвинительную речь. Однако возможно и искусственное раздувание несущественных или мнимых противоречий и промахов процессуального противника. Еще нередко можно наблюдать недобросовестные приемы защиты, связанные с замалчиванием невыгодных для подзащитного обстоятельств, преувеличением значения отдельных благоприятных для него фактов, запутыванием очевидного и бесспорного.
Такие приемы защиты противоречат закону и осуждаются профессиональной моралью.
Вопрос о том, может ли защитник сохранять объективность в анализе и оценке материалов дела, если выполняемая им функция является односторонней, давно положительно решен и в теории и на практике.
Если сопоставить ст.'ст. 249 и 248 УПК РСФСР, то можно убедиться, что в формулировке предмета речи защитника и прокурора нет принципиальных различий: защитник излагает суду соображения защиты по существу обвинения, относительно обстоятельств, смягчающих ответственность, о мере наказания и гражданско-правовых последствиях преступления. По всем этим обстоятельствам высказывается и прокурор,. Однако ни в литературе, ни на практике не возникает вопрос о степени конкретности суждения защитника о мере наказания. Сложилась традиция, в силу которой высказывания адвоката-защитника о мере наказания всегда очень приблизительны и осторожны, и правильность такой традиции не вызывает сомнений.
Предмет судебных речей прокурора и адвоката-защитника несколько расширился с введением процессуальных норм о выявлении причин и условий, способствовавших совершению преступления, и о принятии судом мер профилактического характера (раздел VII Основ, введенный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1981 г, ст. ст. 21, 68, 321 УПК РСФСР I960 г., с изменениями, внесенными Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 августа 1983 г., включая ст. 212 УПК РСФСР),
54
Разумеется, обстоятельства, относящиеся к причинам и условиям преступления, в той мере, в какой они могли влиять на ответственность подсудимого, анализировались в судебных речах и ранее. Но с введением в действие процессуального законодательства союзных республик 1960—1962 гг. появилась правовая обязанность органа дознания, следователя, прокурора и суда по их выявлению и реагированию на них вынесением представлений и частных определений (постановлений). Слож'илась практика обсуждения в ходе судебных прений причин и условий, способствовавших совершению преступлений, и мер профилактического характера, которые должен отразить суд в частном определени'и, выносимом одновременно с постановлением приговора.
В речах прокурора и адвоката эти вопросы заняли значительное место, хотя процессуальные нормы, регулирующие содержание речей и их отражение в протоколе судебного заседания, изменений до сих пор не претерпели9,.
Предмет судебной речи других участников прений также определяется их полномочиями и характером отстаиваемого интереса.
Так, речи общественного обвинителя и общественного защитника по своему предмету и содержанию весьма близки речам соответствующих профессиональных участников процесса.
Общественный обвинитель, участвуя в прениях, излагает суду мнение о доказанности обвинения, общественной опасности подсудимого и содеянного им, по поводу применения уголовного закона и меры наказания в отношении подсудимого и по другим вопросам дела. Общественный обвинитель вправе отказаться от обвинения, если данные судебного следствия дают для этого основания (ст. 250 УПК РСФСР). Общественный защитник излагает суду мнение о смягчающих ответственность или оправдывающих подсудимого обстоятельствах, об условном осуждении, применении отсрочки исполнения приговора, о передаче подсудимого на поруки тому коллективу, от имени которого он выступает,.
Потерпевший, допущенный к участию в судебных прениях, в силу своего процессуального интереса выполняет роль обвинителя (ч. 4 ст. 53 УПК РСФСР), однако это не мешает ему отказаться от обвинения и даже перейти на позиции защитника. Его представитель выступает в судебных прениях в соответствии с полномочиями, полученными от потерпевшего и не выходящими за пределы установленных процессуальным законом прав (ч. 2 ст. 53 УПК РСФСР).
Предмет судебных речей гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей ограничен обстоятельствами, касающимися гражданского иска (ст. ст. 54, 55 УПК РСФСР). Но так как основания и размер иска чаще всего тесно связаны с доказанностью преступления и роли подсудимого в его совершении, то предмет этих речей достаточно широк. Вместе с тем следует признать, что вопросы, не влияющие на судьбу гражданского иска и его размер, чаще всего относящиеся к квалификации действий подсудимого, смягчающим и отягчающим обстоятельствам, виду
55
и размеру наказания, не должны обсуждаться названными участниками прений, о чем председательствующий вправе при необходимости им напомнить.
Четкое представление о предмете судебных речей обеспечивает целенаправленность прений, их реальное значение для обоснования принимаемых судом решений,
Сущность и понятие специальных знаний в советском уголовном процессе
В. Н. МАХОВ, кандидат юридических наук (Всесоюзный институт
по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности)
Хотя доказывание в уголовном судопроизводстве, в отличие от других форм познавательной деятельности в целях получения достоверных сведений, строго регламентировано законом и носит удо-стоверительный характер10, оно основано на положениях диалектического материализма — науки о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления, общей методологии познания объективного мира. .
Каждое преступление, как и всякое другое явление объективной действительности, находится в причинно-следственной связи с другими явлениями. Преступление обусловлено причинами. В свою очередь оно влечет за собой возникновение целого ряда явлений, по которым можно составить представление о самом преступлении. Как отмечает Н. А- Якубович, «следы преступления и вещественные его остатки, а также состояние предметов, отражающие событие преступления, представляют собой материализованную форму существования отдельных проявлений события преступления, отличную от их сущности, но неразрывно связанную с ней. Все эти формы отражения служат исходным материалом для раскрытия природы каждого факта в отдельности и сущности события преступления в целом»11.
Все явления, которые дают возможность судить о преступлении и обстоятельствах его совершения, можно назвать следами преступления, следами в широком смысле, имея в виду не только материальные отображения и изменения действительности, но и те явления, которые нашли отражение в сознании людей. «В процессе возникновения доказательств информационный сигнал (доказательство) может выступать в предметной (вещественной) и мыслительной (образной) формах. Обе формы есть разновидности «отпечатков» события в среде»12. Добавим к этому, что часть материальных следов преступления, информация о нем в предметной форме ко времени расследования утрачивается и об этих следах можно иметь представление по отображениям о них, если они зафиксировались и сохранились в памяти людей, т- е. используя мыслительную форму. Утрачиваются со временем и нематериальные (идеальные) следы преступления, стираясь из памяти людей.
56
Взаимосвязь явлений объективного мира, с одной стороны, обусловливает появление следов преступления, а с другой — объясняет сложности, которые возникают при установлении всей необходимой совокупности информации о совершенном преступлении. Событие преступления не изолировано в объективной действительности, и следы конкретного преступления порой сложно отделить от следов других событий; к тому же многие события ередко накладывают свои «следы-отпечатки» на следы преступления.
Ч![]() ем
больше времени проходит с момента
совершения преступления,
тем больше следов преступления
утрачиваются или изменяются
в силу их естественных свойств, а также
под влиянием самых
различных причин, в частности —
естественных сил природы, поведения
людей, в том числе тех, кто умышленно
уничтожает следы
преступления, чтобы уйти от ответственности
за совершенное
общественно опасное деяние самому или
помочь в этом другим.
ем
больше времени проходит с момента
совершения преступления,
тем больше следов преступления
утрачиваются или изменяются
в силу их естественных свойств, а также
под влиянием самых
различных причин, в частности —
естественных сил природы, поведения
людей, в том числе тех, кто умышленно
уничтожает следы
преступления, чтобы уйти от ответственности
за совершенное
общественно опасное деяние самому или
помочь в этом другим.
И все же ко времени расследования по делу обычно сохраняется довольно много следов преступления. Однако на предварительном следствии и в суде нередко испытывается дефицит доказательственной информации, поскольку лишь часть ее попадает в поле зрения органов следствия и суда. Происходит это, в частности, потому, что и следователь, и суд, как правило, используют ограниченный круг знаний: о сохранившихся следах преступления; о закономерностях их образования, существования, изменений; о методах их обнаружения, полного и правильного использования в целях получения доказательственной информации.
Говоря об ограниченности знаний следователей и судей о следах преступлений, мы не ставим под сомнение качество их профессиональной подготовки, хотя и в этом плане есть некоторые неиспользованные возможности. Речь идет о другом — о многообразии знаний, дающих возможность отыскать и расшифровать информацию о совершенном преступлении и нередко неполном их использовании.
Чем больше знаний о многообразии следов преступлений, закономерностях их образования, их свойствах будет использовано при расследовании, тем больше возможностей для установления всех необходимых фактических данных об обстоятельствах совершенного преступления. При собирании, проверке и оценке доказательств следователи и судьи пользуются знаниями, в которых воплощен не только их личный опыт, но и знания коллег, а также другие знания в самых различных отраслях, т. е. косвенный опыт.
Известны многочисленные случаи, когда фактические данные, имеющие решающее значение для установления истины по уголовному делу, были выявлены с использованием косвенного опыта, содержащего знания, накопленные в самых различных сферах деятельности.
Путь к установлению истины при расследовании многих преступлений оказался бы длиннее и сложнее, целый ряд преступле-
57
ний не удалось бы раскрыть, если бы следователь не воспользовался знаниями, именуемыми в уголовном процессе специальными.
Термин «специальные знания» («познания») ныне есть в УПК всех союзных республик. Вначале он был лишь в статьях, в которых говорилось об основаниях для назначения экспертизы: «экспертиза назначается, в случаях, когда при производстве дознания, предварительного следствия и при судебном разбирательстве необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле» (ст. 78 УПК РСФСР). Приведенная норма с небольшим изменением воспроизводит норму, бывшую в ранее действовавших УПК союзных республик (см., в частности, ст. 63 УПК РСФСР 1923 года).
С внесением в конце 60-х годов в УПК союзных республик норм, регламентирующих участие специалистов в следственных действиях, и в них появился термин «специальные знания». В этих нормах сказано, что специалист обязан участвовать в следственном действии, используя свои специальные знания и навыки для содействия следователю в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств (ст. 1331 УПК РСФСР).
В уголовно-процессуальном законодательстве не сказано, какие знания являются специальными. С начала 60-х годов, когда вступили в действие новые УПК союзных республик, предусматривающие использование в уголовном судопроизводстве специальных знаний не только в форме экспертизы,, но и в форме участия специалистов в следственных действиях, активизировалась научная мысль о понятии специальных знаний в уголовном Процессе.
Представляется верным мнение А. А. Эйсмана о том, что специальные знания — это «знания не общеизвестные, не общедоступные, не имеющие массового распространения; короче, это знания, которыми располагает ограниченный круг специалистов, причем очевидно, что глубокие знания в области, например, физики являются в указанном смысле специальными для биолога и наоборот»13.
Это — одно из первых определений специальных знаний, данных после принятия ныне действующих УПК союзных республик, оно часто является отправным в работах, в которых анализируется указанное понятие. В приведенном определении верно подмечен существенный признак специальных знаний — они являются не общедоступными, не общеизвестными. Кроме того, А. А. Эйсман в целом правильно указал, что «познания в области законодательства и науки права, иначе юридические знания, не относятся к специальным познаниям в том смысле, в каком это понятие употребляется в законе (ст. 78 УПК); ...состав и уровень специальных знаний подвижны»; им обращено внимание на отграничение специальных знаний от профессиональных знаний и опыта самого следователя14. Несколько позже, уточняя высказывания А. А. Эйсмана, 3. М. Соколовский верно заметил, что «понятие специальных знаний нельзя ставить в зависимость от того, обладают ли ими конк-
58
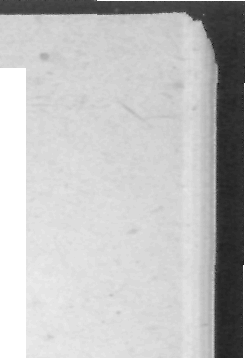 ретные
лица» (речь идет о следователе и судьях),
и что «неудачна попытка
определить специальные знания только
противопоставлением
их общежитейским, общепонятным,
общеизвестным... Под специальными
'знаниями следует понимать совокупность
сведений, полученных
в результате профессиональной специальной
подготовки,
создающих для их обладателя возможность
решения вопросов
в какой-либо области»15-
ретные
лица» (речь идет о следователе и судьях),
и что «неудачна попытка
определить специальные знания только
противопоставлением
их общежитейским, общепонятным,
общеизвестным... Под специальными
'знаниями следует понимать совокупность
сведений, полученных
в результате профессиональной специальной
подготовки,
создающих для их обладателя возможность
решения вопросов
в какой-либо области»15-
В последние годы в связи с возросшими возможностями более широкого применения достижений науки и техники при расследовании преступлений вновь появилось много определений специальных знаний в уголовном процессе. При этом нередко делаются существенные отступления от того положительного, что было достигнуто в работах А. А. Эйсмана, 3. М. Соколовского и ряда других авторов в 60-х годах.
Иногда дается необоснованно широкое понятие специальных знаний как знаний, «которыми обладает данное лицо в какой-то определенной области, например, в области химии». Названный недостаток определения лишь частично исправлен следующими пояснениями автора приведенного определения: «...специальные знания должны быть гораздо шире и глубже знаний в аналогичных областях других лиц; к специальным знаниям не относятся знания общеизвестные и общедоступные»16,.
Вероятно, ориентируясь на подобные неточные определения понятия специальных знаний, В. И. Шиканов утверждает, что «знания и практический опыт, оказавшиеся необходимыми для всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу в уголовном судопроизводстве, принято называть специальными познаниями»17. Можно полагать, что В. И. Шиканов в такой форме дал свое определение, поскольку с ним согласился, а в работах других авторов такого определения нам не удалось обнаружить.
Согласно приведенному определению, профессиональные знания следователя относятся к специальным знаниям, так как они в первую очередь необходимы для всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Правда, вслед за этим определением, хотя и не оспаривая его, В. И. Шиканов верно отметил: «Понятие «специальные познания» в уголовном процессе возникло и употребляется как контрадикторное понятию «знание». Термин применяется для обозначения любой возможной совокупности знаний (практического опыта, навыков) за рычетом общеизвестных .,..а также, исключая познания в области права, в частности, не учитывая подготовку и практические навыки, связанные с уголовно-правовой оценкой фактических обстоятельств дела и решением вопросов процессуального характера»18.
Но эти существенные признаки не нашли отражения в определении, приведенном В. И. Шикановым- В этом определении и комментариях к нему не сказано о существенном признаке специальных знаний, которые используются при расследовании прес-
59
туплений: это знания, приобретенные в процессе подготовки к определенной трудовой деятельности и усвоенные в ходе этой деятельности, необходимые в конкретной профессии; короче, это профессиональные знания, за исключением профессиональных знаний самого следователя.
Более содержательным, по нашему мнению, является определение специальных знаний, данное И. Н. Сорокотягиным: «Специальные познания — это совокупность современных знаний в определенной области науки, техники, искусства и ремесла. Они получены в результате специальной подготовки или профессионального опыта и применяются с целью расследования преступления, организации оперативно-розыскных мероприятий, выполнения- экспертных и судебных исследований»19.
Но и в этом определении есть неточности. В нем нечетко указана цель использования (у И,. Н. Сорокотягина — применения) специальных знаний. Цель тут одна: выполняя поручение следователя или суда, помочь им в установлении истины по делу в случаях и в порядке, установленных законом.
Деятельность по расследованию уголовных дел и рассмотрению их в суде,-в том числе и связанная с использованием специальных знаний, строго регламентирована законом. Использование специальных знаний за пределами случаев и порядка, установленных законов, в определенных ситуациях полезно для выдвижения версий, выработки тактических решений, но не имеет доказательственного значения. В других ситуациях оно влечет за собой нарушение норм УПК, утрату информации, которая могла бы иметь доказательственное значение.
Оперативно-розыскная деятельность по отношению к расследованию носит подчиненный характер, к тому же она не регламентирована уголовно-процессуальным законодательством. В ходе этой деятельности возможны ситуации, когда используются специальные знания, но все это за рамками уголовного процесса. И уже совсем.непонятно, об использовании каких специальных знаний, в каких судебных исследованиях, помимо экспертных, идет речь в определении И. Н. Сорокотягина.
В приведенных определениях специальных знаний есть, на наш взгляд, и другие неточности. Но они связаны с формулировками, содержащимися в законодательстве. Критический анализ этих формулировок будет дан при обосновании отдельных положений предлагаемого нами следующего определения специальных знаний.
Специальные знания в советском уголовном процессе — это знания, присущие различным видам профессиональной деятельности, за исключением знаний, являющихся профессиональными для следователя и судьи, используемые при расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде в целях содействия установлению истины по делу в случаях, формах и порядке, определенных уголовно-процессуальным законодательством.
Некоторые положения этого определения нуждаются в разъяснении.
60
1. Одни авторы ведут речь о специальных знаниях, другие —о специальных познаниях. Подобные разночтения характерны и для УПК союзных республик. Прав Г. М. Надгорный в том, что термин «специальные знания» в большей мере согласуется с понятийным аппаратом современной гносеологии, различающим понятия «знания» (продукт общественно-трудовой и мыслительной деятельности людей) и «познание» (процесс отражения воспроизведения в человеческом мышлении действительности)20- И не случайно, по нашему мнению, в УПК Украинской ССР (ст, 75), Азербайджанской ССР (ст. 76), Грузинской ССР (ст. 70), Казахской ССР (ст. 52), Узбекской ССР (ст. 65), Литовской ССР (ст. 85), Киргизской ССР (ст. 63) в статьях, сходных по содержанию со ст. 78 УПК РСФСР, говорится о специальных знаниях, а не о познаниях.
2. В своем определении мы отошли от традиционного в таких случаях заимствования из ст. 78 УПК РСФСР характеристики специальных знаний как знаний в науке, технике, искусстве, ремесле21. Полагаем, что этот термин неточен. Критическое отношение у нас и к термину «научные технические или другие специальные знания», употребляемому для сходной ситуации в ст. 75 УПК Украинской ССР22, Краткий, но точный термин «специальные знания» содержится bv ст. 58 УПК Эстонской ССР23. Полагаем, что и в УПК других союзных республик в статьях об экспертизе нет необходимости делить специальные знания на виды.
В этой связи предлагаем подробнее рассмотреть существующий ныне в УПК РСФСР и ряда других союзных республик формулировку оснований назначения экспертизы. С незначительными изменениями она воспроизведена из Устава уголовного судопроизводства 1864 года. Согласно ст. 112 Устава, сведущие люди для участия в уголовном судопроизводстве приглашались «в тех случаях, когда для точного умозрения встречающихся в деле обстоятельств необходимы специальные сведения или опытность в науке, искусстве, ремесле, промысле или каком-либо занятии».
За прошедшие годы эта формулировка устарела и даже в несколько измененном виде не отражает характер знаний из различных сфер профессиональной деятельности, используемых в уголовном судопроизводстве.
Следователи и судьи часто обращаются за содействием к судебным медикам и иным врачам. Но этот вид специальных знаний, как и ряд других видов, находится за рамками знаний в указанных четырех сферах (ст. 78 УПК РСФСР). Предвидим возражения тех, кто полагает, что знания судебных медиков и иных врачей— это и есть разновидность знаний в науке. Поэтому рассмотрим соотношение понятий специальных знаний и знаний в науке.
Профессиональные знания судебных медиков и иных врачей, как и знания биологов, химиков и многих других сведущих лиц, используемые в уголовном судопроизводстве, действительно основаны на познании достижений, накопленных в соответствующих отраслях науки. Но чтого недостаточно для того, чтобы считать их знаниями в науке, научными знаниями.
61
Такой вывод нами сделан с учетом рассмотрения некоторых положений марксистско-ленинской теории познания. В этой связи отметим прежде всего, что в философии не употребляется термин «специальные знания». Не меняет сути то, что здесь известен термин «специально-научные знания» для характеристики знаний в конкретных науках в отличие от общенаучных философских знаний24. Согласно .марксистско-ленинской теории познания, знания могут быть донаучными, житейскими, художественными (как специфический способ эстетического освоения действительности) и научными (эмпирические и теоретические)25. «Проблема взаимосвязи научных знаний с другими компонентами культуры — одна из сложнейших в философии и в настоящее время находится в стадии разработки»26. Подобные оценки сложности этой проблемы есть и у других советских философов. Приведем одну из них: «Переход от донаучного познания к научному, взаимодействие научного и обыденного познания... это проблемы, марксистское исследование которых по существу только начинается»27. Нуждается в самостоятельном исследовании и природа специальных знаний. И все же заметим, что было бы неправильным все специальные знания или их часть отнести к научным знаниям.
«В ходе восприятия научных знаний и их использования в общественных целях происходит утрата их индивидуальности, теряет свою значимость момент, связанный с деятельностью тех, кто их добывал; знание, «присваиваемое» всем обществом (или достаточно широким кругом людей, не участвовавших в его получении), начинает теперь оцениваться как нечто общеизвестное, т. е. всем принадлежащее и само собой разумеющееся»28.
Такое понимание научных знаний может показаться слишком узким, приемлемым лишь в философских работах. Действительно, нередко термин «научные знания» употребляется применительно и к тем знаниям, которые уже «присвоены» обществом. Полагаем, что при разработке понятия специальных знаний, используемых в уголовном судопроизводстве, ориентироваться нужно не на такое, а на философское понимание научных знаний, имеющее общеметодологическое значение.
Для установления истины по делу сведущими лицами не применяются теоретические положения, не внедренные в практику. По заданию следователя или суда не проводится научных исследований. Даже в ходе экспертных исследований — той формы использования специальных знаний, которая связана с наиболее углубленными специальными методами работы, имеет место не научное, а практическое исследование на основе уже имеющихся в данной сфере деятельности правил, моделей, образцов решения исследовательских задач, т. е. парадигм29-
У специалистов, участвующих в следственных действиях, также готовые парадигмы. В пределах их знания специалист имеет возможность лучше видеть, яснее понимать-, что имеет отношение к обстоятельствам совершенного преступления, может быть объектом экспертного исследования.
62
В качестве экспертов и специалистов обычно выступают практики, а не научные работники. Не меняет сути тот факт, что среди экспертов в учреждениях судебных экспертиз есть кандидаты и доктора наук. Проводя экспертные исследования, они используют достижения науки, в том числе и свои, которые внедрены в практику.
Устав уголовного судопроизводства 1864 Ігода был принят в феодальной России, в которой только что было отменено крепостное право. Тогда в ряде случаев достоверные специальные знания по тому или иному вопросу были достоянием небольших групп людей, в основном ученых. И не случайно в то время в суд в качестве сведущих людей иногда приглашались известные русские ученые Н. И. Пирогов, Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров и другие-Но даже в то время «опытность в науке» понималась в основном как научное знание, внедренное в практику. В подтверждение приведем несколько высказываний по данному вопросу В. Д. Спасови-ча: «Что же касается до знания теоретического, то или требуется знание каких-либо дробных мелких фактов, которых совокупность никогда не может составить науки, или знание общих фактов, или так называемых законов жизни, законов мировоззрения... В качестве экспертов порой являются простейшие люди, но являются также и первостепенные знаменитости, первосвященники науки, колоссы знания. В лице их наука снисходит к тому, чтобы оказывать пособие обществу при устройстве житейских дел и разрешении споров, ...сведущие люди.дают выводы науки, научные истины»30.
За прошедшее с тех пор время наука сделала в своем развитии громадные шаги вперед. Ее достижения получили широкое внедрение во все сферы практической деятельности. По существу, в каждой из этих сфер появились крупные отряды лиц, обладающих большим запасом апробированных специальных знаний, вполне достаточных для использования их при необходимости в уголовном судопроизводстве.
Итак, специальные знания, пришедшие в практику из науки, хотя их уже нельзя назвать знаниями в науке, сохраняют свою научную основу. Научная основа, обеспечивающая достоверность специальных знаний, часто — важное условие их использования в уголовном судопроизводстве. Речь идет о знаниях, разработанных наукой и внедренных в практическую профессиональную деятельность лиц, овладевших ими в установленном порядке, как правило,— при получении высшего специального образования. Но было бы неправильным требование наличия высшего специального образования у всех лиц, специальные знания которых используются в уголовном судопроизводстве. В частности, хорошо зарекомендовали себя в качестве специалистов при проведении следственных действий имеющие среднее специальное образование криминалисты из экспертно-криминалистических учреждений системы МВД. Допускаем, что некоторые виды специальных знаний не имеют научной основы или же имеют ее в слабо выраженной фор-
63
ме. Действительно, можно лп считать, что имеют научную основу специальные знания фотографа, получившего профессиональную подготовку на краткосрочных курсах? Такие специальные знания обычно используются не для проведения экспертных исследований, а для оказания содействия следователю в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств при производстве следственных действий.
Что же касается специальных' знаний в искусстве, то возникает вопрос, почему из многих видов специальных знаний именно они названы в УПК РСФСР и ряда других союзных республик наряду 'со знаниями в науке, технике, ремесле? Ведь знания" в искусстве в наше время довольно редко используются в уголовном судопроизводстве. На наш взгляд, все дело в том, что термин «специальные знания в искусстве» заимствован из дореволюционного законодательства без достаточных на то оснований. Устав уголовного судопроизводства 1864 года вкладывал в термин «специальные сведения или опытность в искусстве» совсем иной смысл, нежели нам представляется ныне. По мнению В. Д. Спасовича, «знание, умение, специальность оказывают свои услуги суду двояким образом: знание теоретическое, или наука, и знание практическое, или искусство. ...Иногда вызываются люди искусства только для того, чтобы проделать перед судом известные действия, которые и могли быть совершены только весьма искусными руками и которые необходимы для разъяснения истины. Например, оружейников зовут для того, чтобы они испробовали, как далеко стреляют пистолеты, химика, чтобы разложить чернила, которыми писаны документы, архитектора, чтобы узнать, сколько употреблено кирпича для постройки здания»31. Как видно, под познаниями в искусстве понимались различные виды тех самых специальных знаний, которые ныне необходимы для производства баллистических и других криминалистических экспертиз, а также многих иных экспертиз, в том числе бухгалтерских и строительных. И в современном русском языке искусство не только «творческое отражение восприятия действительности в художественных образах», но и «умение, мастерство, знание дела», а также «само дело, требующее такого умения, мастерства»32"
Однако в настоящее время уже никто не связывает производство указанных экспертиз с использованием знаний в искусстве. По нашему мнению, этот термин является излишним в ст. 78 УПК РСФСР и в соответствующих статьях УПК других союзных республик, поскольку выделяет редко используемые в уголовном-судопроизводстве знания в искусстве из многих других видов специальных знаний.
Наконец, рассмотрим термин «познания в ремесле», употребленный в той же статье УПК РСФСР. Результаты проведенных нами исследований с изучением следственной и судебной практики свидетельствуют, что эти знания не применяются для производства судебных экспертиз. И не случайно еще в 1940 году М. С. Строго-вич назвал экспертизу с использованием специальных познаний в
64
ремесле суррогатом подлинно научной экспертизы33. Несколько позже В. М. Никифоров писал: «Мы полагаем, что судьба ремес-и ленной экспертизы такова, как была в свое время судьба сохи: как она была вытеснена плугом и трактором, так и эта «экспертиза» будет вытеснена научной экспертизой»34. Для того или иного ремесла нет необходимости обладать специальными знаниями; достаточно особого уменья, созданного упражнениями, привычкой, т. е. специальных навыков. Одних таких навыкотз недостаточно для проведения экспертных исследований. Но при производстве следственных действий может использоваться содействие ремесленников, т. е. лиц, занятых изготовлением изделий ручным, кустарным способом, в частности слесарей. Такие случаи участия специалистов в следственных действиях нашли закрепление в ст. 133' УПК РСФСР, где сказано, что они участвуют в следственных действиях, используя свои специальные знания и навыки.
Итак, проведенный анализ термина «познание в науке, технике, искусстве, ремесле», на наш взгляд, свидетельствует о том, что он является неудачным при изложении в УПК оснований назначения экспертизы, при определении специальных знаний.
3. С учетом приведенного выше высказывания А. А. Эйсмана о характере специальных знаний нами дано определение не специ альных знаний вообще, а специальных знаний, используемых в уголовном судопроизводстве. В связи с этим из совокупности зна ний, используемых на предварительном следствии и в суде, иск лючены профессиональные знания следователей и судей.
Главное назначение специальных знаний — использование их в какой-то одной (своей) сфере профессиональной деятельности: медицинские знания используются в медицине, педагогические — „• в педагогике и т. д. Следователи и судьи в своей работе в основном используют свои профессиональные знания. Но с позиций следователей и судей их профессиональные знания не являются для них какими-то особенными.
4. Отдельного рассмотрения требует вопрос о характере зна ний из области криминалистики. Указанные знания принято счи тать профессиональными знаниями следователя. И это верно, если учесть, что основная доля знаний из области криминалистики из влечена непосредственно из следственной практики и предназна чена для раскрытия, расследования и предупреждения преступ лений.
Но раздел криминалистики, именуемый «криминалистическая техника», включает и систему специальных приемов и научно-технических средств, необходимых для производства трасологичес-ких, баллистических, дактилоскопических, почерковедческих и ряда других судебных экспертиз, а также сложные научно-технические средства, используемые при проведении следственных действий. Из этого раздела криминалистики следователям нужны знания в объеме, дающем представление о возможностях экспертных исследований и специалистов-криминалистов, привлекаемых к участию в следственных действиях, а также знания, необходимые для ре-
5 Заказ 7352
шения вопросов об относимое™ доказательств и правильной их оценки.
Конечна можно и нужно требовать от следователей и судей более глубоких знаний из этого раздела криминалистики. Но лишь в указанном объеме. Нельзя от следователя и судьи требовать таких же глубоких познаний в области баллистики, трасологии, почерковедения и других отраслей криминалистических исследований, которыми обладают криминалисты отдельных профилей. Эксперт-криминалист—специалист более узкого профиля, чем следователь. Целые годы он посвящает теоретическому изучению и практическому освоению научно-технических средств и методик исследования в какой-то одной отрасли криминалистических исследований. Ясно, что его знания в этой отрасли будут глубже, чем у следователя. Увереннее следователя он будет и в практическом применении научно-технических средств, с которыми имеет дело значительно чаще следователя.
Конечно же в криминалистике не существует четкой границы между профессиональными знаниями следователя и специальными криминалистическими знаниями. Особенно «размыта» эта граница, когда речь идет об использовании специальных знаний криминалиста, участвующего в следственном действии в качестве специалиста. Тут многое зависит от уровня профессиональной подготовки следователя, сложности задач по собиранию доказательств, специализации самого криминалиста, его инициативы. Закон предоставил следователю самому решать вопрос о привлечении специалиста-криминалиста к участию в следственном действии.
5. К специальным относятся не только указанные знания в области криминалистики, но и знания в области судебной медицины, судебной психиатрии, бухгалтерского учета и т. п. Однако вряд ли правильно относить их к юридическим знаниям. Изучение следователями основ этих специальных знаний не меняет существа дела: они неотделимы соответственно от медицины, бухгалтерского учета и т. д.
Являются ли юридическими специальные знания правил охраны труда, правил движения и эксплуатации транспорта и т. п.? Полагаем, что и здесь нет четкой границы между специальными знаниями и профессиональными знаниями следователя. Изучив в вузе административное, трудовое право, следователи могут сами разобраться в несложных юридических вопросах указанного профиля. Но и среди юристов существует специализация. И со стороны следователей было бы неправильным игнорировать углубленные познания юристов, специализирующихся в какой-то узкой сфере правовой деятельности.
Предупреждение преступлений и других правонарушений средствами общего надзора прокуратуры
Ю. Е. ВИНОКУРОВ, кандидат юридических наук, доцент
Целям предупреждения правонарушений служат все отрасли прокурорского надзора и участки деятельности прокуратуры. «Пре-
66
дупредит'ельную функцию прокуратуры,—отмечает А. Ф. Козлов,-нельзя отделять от самого прокурорского надзора. Предупреждение внутренне, органически присуще ему и неотделимо от его содержания»35. Оно образует основное содержание прокурорского надзора и всей деятельности прокуроров и следователей.
В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 июля 1970 г. «О мерах по улучшению работы судебных и прокурорских органов» предупреждение правонарушений рассматривается как важнейшая задача прокуратуры. На предупреждение правонарушений ориентирует прокуроров постановление Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1983 г. «О деятельности Прокуратуры СССР».
Общий надзор прокуратуры с его широкой компетенцией, распространением его на правоприменительную, исполнительскую деятельность многочисленных субъектов (органы государственного управления, общественные организации, граждане) и многообразными методами осуществления играет исключительно большую роль в предупреждении правонарушений и, следовательно, в укреплении законности. Все правовые средства общего надзора прокуратуры характерны своей предупредительной направленностью36. По своему содержанию он носит ярко выраженный предупредительный характер. В ходе его осуществления выявляются не только уже совершенные, порою скрытые от учета преступления, но, что особенно важно, выявляются и устраняются такие правонарушения, которые в будущем могли перерасти в преступления (впервые совершенное мелкое хищение, незначительная приписка объема перевезенного груза и т. д.). Еще большее значение имеет установление обстоятельств, способствующих совершению этих нарушений, и принятие мер к их устранению (например, несвоевременное и некачественное проведение ревизии, запущенность учета материальных ценностей и т. д.). В выявлении и устранении правонарушений, могущих стать обстоятельствами, способствующими совершению преступлений, пожалуй, и состоит основное назначение общего надзора прокуратуры в борьбе с преступнортью37. Общий надзор выступает здесь в роли средства раннего предупреждения преступлений.
Следует также иметь в виду, что по сравнению с другими отраслями прокурорского надзора общий надзор предоставляет прокурорам большие возможности для того, чтобы способствовать формированию у должностных лиц и граждан социалистического правосознания, выработки у них потребности уважительного отношения к закону. Правовое сознание — это связующее звено между требованиями правовой нормы и поступками людей, которые обязаны соблюдать эту норму. Своевременное и полное выявление прокурорами нарушений законов, причин нарушений и условий, им способствующих, принятие мер к их устранению и привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, способствует созданию обстановки неотвратимости ответственности за совершенные правонарушения. При этом достигается хорошая «правовая атмосфе-
67
pa»38, благоприятно влияющая на повышение ответственности, в особенности должностных лиц, за точное соблюдение законов, создается общественное мнение, что любое нарушение закона, кем бы оно ни было совершено, будет выявлено прокурором и виновные в этом лица понесут заслуженное наказание. И наоборот, некадест-венное проведение прокурорских проверок, невыявление прокурором нарушений законов и, следовательно, неустановление виновных в нарушении законов лиц может дать обратный результат, вызвать нигилистическое отношение к закону у отдельных лиц39, побудить их к совершению в будущем других нарушений законов.
Общаясь в ходе осуществления общего надзора с широким кругом должностных лиц и граждан, прокуроры обладают большими возможностями для разъяснения им требований советских законов, проведения индивидуальных бесед с лицами, нарушившими закон, способствуя тем самым повышению их правовых знаний. Это в"свою очередь повышает социалистическое правосознание должностных лиц и граждан, предупреждает совершение ими нарушений законов, в том числе и преступлений в буду- . щем.
Предупредительный характер общего надзора прокуратуры выражается также в том, что он способствует совершенствованию и активизации деятельности органов управления, народного контроля, общественных организаций, направленной на укрепление законности. Осуществляя общий надзор, прокурор в первую очередь обращает внимание на то, какие меры принимаются этими органами . и организациями по предупреждению правонарушений, как соответствующие должностные лица выполняют свои обязанности по укреплению законности и правопорядка. Прокурор реагирует на факты пассивности в деятельности названных органов и организаций по укреплению законности, вносит предложения, направленные на совершенствование этой деятельности, предъявляет требования о проведении проверок исполнения законов и ревизий деятельности подконтрольных и подведомственных им органов и т. д. Все это способствует .совершенствованию их деятельности по укреплению законности, предупреждению правонарушений.
Следует заметить, что в последние годы к вопросам предупреждения правонарушений средствами общего надзора прокуратуры привлечено внимание ученых-юристов40. Все они единодушны в " том, что общий надзор играет большую роль в предупреждении правонарушений. Однако его возможности в этом направлении используются еще не в полной мере.
Усиления роли общего надзора в предупреждении преступлений и иных правонарушений следует добиваться путем повышения его эффективности, под которой мы понимаем достижение стоящих перед ним целей (задач) с наименьшими затратами сил и средств. Основные направления повышения этой эффективности — совершенствование организации работы по общему надзору; совершенствование методики выявления нарушений законов и способ-
68
ствующих им обстоятельств; повышение результативности общенадзорных средств реагирования на нарушения законов. Кратко рассмотрим эти направления.
/. Совершенствование организации работы по общему надзору. Как любой вид трудовой деятельности, эта работа должна организовываться таким образом, чтобы при меньших затратах сил и средств достичь наилучших результатов, в том числе добиться большего эффекта в предупреждении преступлений и иных правонарушений. Речь, таким образом, идет об организации работы на научной основе. Основные пути решения данной проблемы —это избирательное, целенаправленное "осуществление общего надзора, сосредоточение основных его усилий на решении главных, ключевых задач укрепления законности, обеспечение комплексного подхода к проблеме укрепления законности, в борьбе с преступлениями и другими правонарушениями, как этого требует Генеральный прокурор СССР41.
Стремление некоторых прокуроров провести как можно больше общенадзорных проверок и других мероприятий и непременно во всех органах приводит к распылению сил и средств, к снижению качественных характеристик общего надзора и не дает нужного эффекта. Правильно поступают те прокуроры, которые общенадзорные проверки планируют и проводят в первую очередь и главным образом там, где чаще нарушаются законы или совершены единичные, но опасные нарушения законов и в особенности преступления, т. е. избирательно.
Основная задача, стоящая перед прокуратурой и другими органами,— снижение правонарушений, и в первую очередь преступлений, их предупреждение. Именно на ее решение должны направляться основные усилия общего надзора. Имеется в виду предупреждение средствами общего надзора преимущественно наиболее распространенных для данного региона (района, города) видов преступлений. В одном случае это могут быть преступления, посягающие на социалистическую собственность, в другом — на общественную безопасность, общественный порядок, в третьем -на жизнь и здоровье граждан и т. д. Поэтому, организуя работу по общему надзору, следует предусматривать проведение в связи с сигналами в первую очередь проверок исполнения тех законов, несоблюдение, нарушение которых способствует совершению наиболее распространенных видов преступлений. Так, если в ра"йоне или городе распространены хищения социалистической собственности, то доминирующее место должны занимать проверки исполнения законов об охране социалистической собственности. Сказанное, конечно, не означает, что прокуроры не должны бороться средствами общего надзора с эпизодически совершаемыми преступлениями. Они призваны принимать меры по устранению и предупреждению любого нарушения закона. Речь в данном случае идет о смещении акцента в сторону предупреждения наиболее распространенных преступлений и иных правонарушений.
69
Учитывая, что значительное количество преступлений совершается лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, а также нигде не работающими и ведущими нередко паразитический образ жизни, первостепенное внимание следует уделять* надзору за исполнением законов и других подзаконных актов, направленных на преодоление и искоренение пьянства, алкоголизма, самогоноварения, тунеядства и бродяжничества. Проверки исполнения этого законодательства должны проводиться систематически. Генеральный прокурор СССР требует, например, чтобы проверки исполнения законов, направленных на предупреждение и пресечение тунеядства и бродяжничества, проводились ежеквартально42.
Для предупреждения наиболее распространенных или опасных преступлений необходимо в первую очередь обеспечивать комплексный подход. Применительно к общему надзору комплексный подход означает: комплексное, целенаправленное и активное применение прокурорами общенадзорных правовых средств; координацию общего надзора с другими отраслями прокурорского надзора и всеми участками деятельности прокуратуры; тесное увязывание общенадзорной деятельности с профилактической деятельностью; постоянное и тесное взаимодействие прокуроров с партийными и советскими органами, органами государственного управления, народного контроля, правоохранительными органами, а также с общественностью по вопросам укрепления законности; увязывание общенадзорных мероприятий с важнейшими социально-экономическими задачами, решаемыми в районе, городе, с организационными мерами партийных и советских органов по укреплению государственной, трудовой и общественной дисциплины. Имеется в виду создание единого, четко скоординированного фронта борьбы с преступностью, чего требует КПСС от органов государственной власти и управления, правоохранительных органов.
Комплексный подход — это основной метод решения актуальной задачи укрепления законности, предупреждения преступлений и иных правонарушений. Обеспечение такого подхода является одной из основных задач организации работы по общему надзору. Повсеместное внедрение в практику общенадзорной работы комплексного подхода позволит добиться снижения преступлений и других правонарушений и, следовательно, укрепления законности.
Достижению комплексного подхода могут способствовать, в частности: тесное согласование общенадзорной деятельности с предварительным следствием и, в частности, проведение общенадзорных проверок с одновременным производством следователем предварительного следствия по уголовному делу, совместные проверки исполнения законов и иные мероприятия (изучение причин преступлений, разработка планов предупредительно-профилактических мероприятий и их реализация и т. д.), проводимые совместно с другими органами государства; активное применение предоставленного прокурорам права требовать от органов управления, должностных лиц проведения проверок исполнения законов и
70
ревизий на подведомственных им предприятиях, в учреждениях и организациях.
Совершенствование методики выявления нарушений законов и установления способствующих им обстоятельств. Выявление нарушений законов и установление обстоятельств, способствующих им, является основной и наиболее сложной задачей общего надзора. От успешного ее решения во многом зависят результаты общего надзора, его эффективность. Одним из основных методов выявления нарушений законов, применяемых при осуществлении общего надзора, является прокурорская проверка. В ходе проверок выявляется значительное число правонарушений, в том числе и те из них, которые способствуют совершению преступлений или могут перерасти в преступления. Это обязывает прокуроров совершенствовать методику проведения проверок, повышать их качество.
Качество общенадзорной проверки — это совокупность наиболее существенных свойств, ее характеризующих и позволяющих судить о ее достоинствах или недостатках. Качество проверки могут определять следующие свойства: обоснованность ее проведения; полнота проверочных действий; полнота выявления нарушений законов и обстоятельств, способствующих им; полнота установления вредных последствий; установление лиц, виновных в нарушении законов.
Проведенное нами выборочное изучение 200 материалов общенадзорных проверок и беседы с прокурорскими работниками в ряде районных и городских прокуратур Мурманской, Новгородской, Минской, Могилевской, Гродненской и Карагандинской областей позволили установить, что в процессе проведения по крайней мере 54 проверок не устанавливались обстоятельства, способствующие нарушениям законов; не у всех лиц, нарушивших законы, истребовались письменные объяснения. Только при проведении небольшой части проверок участвовали специалисты. Таким образом, качество многих проверок можно оценить как невысокое. Одной из причин этого явилось то обстоятельство, что прокуроры не всегда тщательно готовились к проведению проверок. В ряде прокуратур не имелось планов проведения проверок. Планы многих-других проверок составлялись наспех и отличались неконкретностью.
«Необходимо в первую очередь повысить качество проверок исполнения законов, поднять их результативность»43. Основными ^направлениями повышения качества общенадзорных проверок могут быть: соблюдение оснований их проведения, улучшение подго.-товки к их проведению, повышение полноты проверок.
Как известно, основаниями для проведения проверок, по общему правилу, являются заявления, жалобы и иные сведения о нарушении законов44. Но прокуроры получают из самых различных источников, в том числе и путем личных наблюдений, много сведений о нарушении законов, в том числе и о мелких нарушениях, таких, как: несоблюдение процедуры проведения тех или иных
71
мероприятий, совершение мелких дисциплинарных проступков и т. д. Закон обязывает прокурора принимать меры к выявлению и устранению любых нарушений закона. Однако проводить проверки в связи с получением каждого из таких сигналов, видимо, не требуется, и для этого прокуроры не располагают возможностями. Нам думается, что основанием проведения проверок могут быть прежде всего сведения о таких нарушениях законов, следствием которых является нарушение прав и свобод граждан, прав и законных интересов государственных предприятий, учреждений и организаций, колхозов, кооперативных и иных общественных организаций. Имеются в виду сведения о нарушениях, представляющих определенную общественную опасность. Что же касается сведений о мелких нарушениях законов, которые могут быть выявлены и устранены силами соответствующих органов, то о них прокуроры могут информировать эти органы и при необходимости требовать от них проведения проверок исполнения законов. Во всяком случае ни один сигнал о нарушении закона не может выпадать из поля зрения прокурора.
Замечено, что результаты проверок зависят во многом от того, насколько хорошо готовятся к их проведению прокурорские работники. В связи с этим необходимо тщательно готовиться к каждой проверке. Понятно, что объем такой подготовки зависит от опыта прокурорского работника, его способностей, профессиональных знаний, характера предстоящей проверки, органа, где она будет проводиться. Помимо ознакомления с материалами предыдущих проверок, проведенных на объекте, где предстоит проводить проверку, изучения законов и ведомственных актов, указаний Генерального прокурора СССР и других вышестоящих прокуроров, а также изучения методических пособий следует в каждом случае определять тактику проверки, под которой нами понимается способ ее проведения (определение времени и места проверки, видов проверочных действий и последовательности их выполнения и т. д.).
Тактика-Проверки зависит от характера полученного сигнала, степени осведомленности прокурора о характере совершенного (иногда предполагаемого) правонарушения, должностного положения лиц, его совершивших, объема предстоящей работы, от профессиональной подготовки прокурорского работника, сроков проведения проверки. Подготовка заканчивается составлением плана проверки, позволяющего проводить ее более организованно и целенаправленно, избегать излишних действий, экономить время.
Качество проверок в значительной мере зависит от их полноты, которая характеризуется объемом и глубиной. Объем—это, собственно, границы (пределы) проверки, которые должны быть оптимальными. Если границы проверки определены неоправданно широко, то в силу большого объема работы ее невозможно будет провести качественно. Например, объем проверки законности актов органов управления ограничивается актами, изданными за
72
определенный период, скажем, за год. Здесь временной фактор определяет ее объем. Другое дело — проверки исполнения конкретных законов, проводимые по сигналам о нарушении законов. Полученный сигнал определяет в известной мере объем таких проверок: обычно прокурор проверяет исполнение конкретной нормы или ряда норм закона, о нарушении которых поступили к нему сведения. Но если в ходе проверки он получит сведения о нарушении других норм закона или иных законов, то им либо пересматривается объем проверки, либо проводятся и другие проверки.
Глубина проверки характеризуется степенью проникновения в те вопросы, которые подлежат выяснению. Она выражается в полноте выявления нарушений законов, причин нарушений и способствующих им условий, в полноте установления вредных последствий, а также лиц, допустивших нарушения законов.
Полнота, а следовательно, и качество проверок достигаются путем: комплексного применения прокурорами различных проверочных действий; применения квалифицированных приемов и .методов; активного привлечения к проверкам специалистов для выяснения тех или иных специальных вопросов; проведения проверок совместно (одновременно) с другими органами; внедрения в общенадзорный процесс научных рекомендаций и передовой практики работы; активности прокуроров, их инициативы. Повышению качества проверок может также способствовать совершенствование ныне действующих и разработка новых частных методик их проведения.
Повышение результативности общенадзорных средств реагирования на нарушения законов. Генеральный прокурор СССР предъявляет требование к прокурорам о необходимости повышения результативности реагирования на нарушения законов, активного целенаправленного применения ими всех правовых средств борьбы с правонарушениями45.
Результативность общенадзорных средств реагирования может выражаться в полном устранении нарушений законов, причин нарушений и способствующих им условий, в восстановлении нарушенных прав и свобод граждан, прав и законных интересов государственных предприятий, учреждений и организаций, колхозов, кооперативных и иных общественных организаций, в полном возмещении материального ущерба, причиненного нарушением закона. Иначе говоря, реагирование может быть оценено как результативное, если цели, поставленные прокурором, достигнуты, т. е. наступили положительные результаты, изменения к лучшему.
Ознакомление с практикой общенадзорного реагирования в прокуратурах названных выше областей позволило убедиться, что его качество, а следовательно, и результативность недостаточно высоки. В 165 представлениях из 300 не излагались аргументированно причины нарушений законов и условия, способствующие им, и как результат этого не содержалось конкретных предложений по их устранению. В 55 представлениях не ставился вопрос о персональной ответственности виновных лиц, а в 19 — эти лица да-
73
же не названы. Во многих изученных протестах прокуроры ограничились лишь постановкой вопроса об отмене незаконных актов либо приведении их в соответствие с законом. В связи с этим отдельные должностные лица, отменяя по требованию прокурора незаконные акты, не всегда принимали меры к фактическому устранению нарушений законов (возвращению владельцу незаконно взысканных с него денег; выдаче, премии работнику, незаконно лишенному ее, и т. д.). Собственно, эти должностные лица порой не знали, какие конкретные меры надлежало им принять в целях устранения нарушений закона.
Хотя в законе и нет прямого указания на это, протесты, на наш взгляд, должны содержать конкретные предложения по устранению нарушений закона. От этого во многом зависит полнота реагирования. В случаях, например, опротестования незаконных актов о привлечении к материальной ответственности протесты могут содержать предложения о производстве административного расследования, ревизии, проверки, о принятии мер к возмещению материального ущерба, об оприходовании неучтенных средств, о возвращении незаконно взысканных денег владельцу и т. д. В протесты, вносимые в вышестоящие орг-аны, могут включаться предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности нижестоящих должностных лиц. Думается, что в протестах, вносимых в вышестоящие органы, обязательно следует также излагать причины издания незаконных актов и предлагать меры по их устранению. В зависимости от причины избирается мера ответственности.
В ходе изучения выяснилось также, что должностные лица, издавшие незаконные акты, привлечены к дисциплинарной ответственности, хотя повторно издали незаконные акты (т. е. уже после соответствующего реагирования прокуроров), а изданием девятнадцать незаконных актов были существенно ущемлены права граждан (незаконный перевод на нижеоплачиваемую работу, незаконное привлечение к материальной ответственности и др.). 'На шестнадцать протестов и представлений не поступили ответы в прокуратуры, однако только в пяти случаях были проведены контрольные проверки. Крайне редко применяется постановление о возбуждении дисциплинарного производства. Двенадцать из двадцати прокуроров районов и городов, где проходило изучение, не применяли постановления о возбуждении производства об административном правонарушении. Некоторыми прокурорами недостаточно активно используются предостережение о недопустимости нарушения закона.
Известно, что устранение нарушений законов, как правило, не решает полностью задачи предупреждения правонарушений, если прокурором не принимаются меры к устранению обстоятельств, способствующих нарушениям, и если лица, нарушающие законы или попустительствующие нарушителям, не привлекаются за это к установленной законом ответственности. Речь, таким образом, должна идти о повышении полноты и остроты общенадзорных средств реагирования на нарушения законов.
74
Повышению остроты реагирования могут способствовать: внесение протестов в адрес вышестоящих органов, если имеется необходимость привлечения к дисциплинарной ответственности лиц-, издавших незаконные акты; применение постановления о возбуждении дисциплинарного производства и постановления о возбуждении производства об административном правонарушении. Нам представляется, что должностные лица, повторно нарушившие законы или не устранившие нарушение закона, обстоятельства, способствующие нарушениям законов, на которые им было указано в ранее внесенных актах прокурорского надзора, должны, как правило, привлекаться к ответственности.
В целях предупреждения преступлений следует применять предостережение о недопустимости нарушения закона. Недопущение преступлений является основной целью этого средства прокурорского реагирования. Оно должно поэтому применяться преимущественно при совершении впервые таких нарушений законов, дальнейшее продолжение или повторение которых может перерасти в преступления. Речь идет о таких нарушениях, как: впервые совершенное мелкое хищение, мелкое хулиганство, должностная халатность, нарушение правил по технике безопасности, правил дорожного движения и т. д. На наш взгляд, предостережение можно применять и к лицам, которые совершили малозначительные преступления и были освобождены от уголовной ответственности.
Повышению результативности общенадзорных средств реагирования, а следовательно, и повышению роли общего надзора в предупреждении преступлений и других правонарушений будет способствовать усиление контроля со стороны прокуроров за фактическим устранением нарушений законов.
1
Генеральный прокурор СССР требует от всех прокуроров сосредоточить основное внимание на фактическом устранении причин нарушений и условий, способствующих им46.
Реагирование не может считаться законченным, если прокурор не добился фактического устранения нарушений законов и обстоятельств, способствующих им. Этой цели наряду с другими формами контроля служат проверки фактического устранения нарушений закона (результативности актов), являющиеся разновидностью контрольных проверок. Внимание прокурора должны привлекать такие факты, как: непоступление в прокуратуру сообщений о рассмотрении актов прокурорского надзора, несвоевременное поступление этих сообщений, их неполнота или неконкретность, поступление жалобы о непринятии мер к восстановлению нарушенных прав и свобод, повторное нарушение закона после реагирования прокурора на подобные нарушения. Во всех этих случаях имеются основания для проведения проверок фактического устранения нарушения закона, а не только для проверок сведений о новых нарушениях законности.
Повышение роли общего надзора в предупреждении преступлений и других правонарушений будет способствовать укреплению законности.
75
Значение признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявления его умершим
для принятия решений по уголовному делу47
К. Б. ГРАНКИН, В. А. СЫСОЕВ
Гражданско-правовые институты признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим играют важную роль в охране прав и законных интересов граждан, государственных органов и общественных организаций. Судебное решение, вынесенное на основе доказывания факта длительного отсутствия сведений о местонахождении лица, а также других обстоятельств, при которых он подлежит объявлению умершим, устраняя неопределенность в правовых отношениях, служит основанием для установления опеки над имуществом безвестно отсутствующего (ст. 19 ГК РСФСР), усыновления его детей (ст. 100 КоБС РСФСР), прекращения брачно-семейных отношений и т. д.
Учитывая важность правовых последствий признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим, законодатель прямо устанавливает, что при обращении в суд заявитель должен указать, для какой цели ему необходимо данное судебное решение (ст. 253 ГПК РСФСР).
В юридической литературе нет единой позиции по вопросу о характере правового интереса и правовых последствий признания гражданина безвестно отсутствующим ц объявления его умершим. Большинство ученых считают, что такие последствия могут носить только материально-правовой характер48. Однако известна и иная точка зрения. Так, по мнению Ю. А. Поповой, цель (юридический интерес) заявителя по этой категории дел может иметь и уголовно-процессуальный характер, например при решении вопроса о приостановлении предварительного следствия (п. 1 ст. 195 УПК РСФСР)49.
Согласиться с этим нельзя. Для возникновения, изменения или прекращения уголовно-процессуальных отношений не требуется вынесения специального судебного решения по гражданскому делу. Хотя признание обвиняемого судом безвестно отсутствующим, имея в силу ст. 28 УПК РСФСР преюдициальное значение, является достаточным основанием для объявления розыска этого лица, а при наличии условий, указанных в чч. 3 и 4 ст. 195 УПК РСФСР, — и приостановления предварительного расследования, тем не менее не может рассматриваться в качестве необходимой предпосылки для принятия этих процессуальных решений. В противном случае, последовательно придерживаясь позиции Ю. А. По повой, мы должны были бы говорить о невозможности приостановления производства по делу до истечения годичного срока, установленного ст. 18 ГК РСФСР, что прямо противоречит закону (ст. ст. 121, 124, 133, 195 УПК РСФСР) и практике деятельности органов предварительного расследования,
76
![]()
Подобная практика не соответствует закону. На основании п. 1 ст. 129 ГПК РСФСР судья должен отказать в приеме заявления за неподведомственностью данного дела суду, а если заявление все же было принято, прекратить дело в порядке п. 1 ст. 219 ГПК РСФСР.
Указанное замечание касается случаев, когда в суд обращаются органы дознания и предварительного следствия, не имеющие самостоятельного правового интереса в объявлении гражданина умершим и не нуждающиеся для принятия индивидуального акта применения норм уголовно-процессуального права в специальном судебном решении. Вместе с тем с заявлением об объявлении гражданина умершим могут обратиться супруг разыскиваемого обвиняемого, его наследники и иждивенцы, другие заинтересованные лица. В данном случае суд не вправе отказать, как считают некоторые авторы, в удовлетворении требования заявителя51 (разумеется, при наличии гражданско-правовых оснований, пре дусмотренных ст. 21 ГК РСФСР), иначе существенно нарушается право граждан на судебную защиту их охраняемых законом интересов — супруг разыскиваемого лишается возможности всту пить в новый _брак, распоряжаться совместно нажитым имуществом, иждивенцы — получать пенсию, наследники — вступить в наследство и т. д.
Поскольку обвиняемый может быть объявлен умершим, возникает вопрос о праве следователя в этом случае прекратить уголовное дело по п. 8 ст. 5 УПК РСФСР, т. е. в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.
Нельзя согласиться с мнением, что объявление гражданина умершим по своим правовым последствиям равнозначно его смерти52. Если смерть как юридический факт прекращает все правоотношения лица с государством, государственными органами, общественными организациями, а также с отдельными гражданами, то объявление умершим не -имеет уголовно-правовых последствий и не влечет за собой прекращения уголовного дела53.
Для объявления гражданина умершим необходимо установление обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии в месте постоянного жительства лица сведений о месте его пребывания в течение трех лет либо о том, что это лицо пропало без вести при обстоятельствах, которые угрожали смертью или давали основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в те-ч«ние шести месяцев (ст. 21 ГК РСФСР). При этом, однако, не исключается вероятность того, что объявленный умершим в дей-
77
ствительности жив, а длительное отсутствие сведений о его местопребывании обусловлено не его смертью, а иными причинами. Учитывая это, гражданско-процессуальный закон устанавливает правовые последствия возможной явки этого лица — отмену ранее вынесенного решения об объявлении умершим, аннулирование записи о смерти в книге записей актов гражданского состояния.
Иначе решается вопрос при прекращении уголовного дела. Для применения п. 8 ст. 5 УПК РСФСР необходимо не только достоверно установить событие преступления и лицо, его совершившее, но и доказать, что обвиняемый (подозреваемый) действительно умер. На основании только судебного решения об объявлении гражданина умершим такого вывода сделать нельзя. А до тех пор пока собранными по делу доказательствами не будет опровергнуто предположение о том, что обвиняемый (подозреваемый) намеренно, в целях избежать привлечения к уголовной ответственности или по иным причинам скрывает свое местопребывание, прекращение производства по делу и розыска этого лица нельзя признать обоснованным.
Отождествлять установление факта смерти и объявление гражданина умершим недопустимо еще и потому, что законом предусмотрены различные порядок и формы регистрации этих актов гражданского состояния.
Так, в Инструкции о порядке регистрации актов гражданского состояния в РСФСР говорится, что регистрация лиц, объявленных умершими, производится в отдельной книге54. При выдаче свидетельства о смерти в нем указывается, что—этот документ выдан на основании судебного решения об объявлении гражданина умершим.
Не имея преюдициального значения для решения вопроса о прекращении уголовного дела, объявление гражданина умершим тем не менее может оказать определенное влияние на развитие уголовно-процессуальных отношений. В частности, если наследники обвиняемого, объявленного умершим, будут ходатайствовать об отмене ареста на имущество этого лица, следователь должен будет это ходатайство рассмотреть, а если придет к выводу, что в применении указанной меры процессуального принуждения отпала дальнейшая необходимость, — отменить ее. Однако, как показывает анализ следственной практики, независимо от продолжительности отсутствия обвиняемого и объявления его умершим, наложение ареста на имущество не отменяется вплоть до прекращения уголовного дела или вынесения приговора судом.
Вопрос о судьбе этого имущества по действующему законодательству не может быть разрешен и в порядке гражданского судопроизводства. В соответствии с п. 4 ст. 40 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик до разрешения уголовного дела по существу суд не вправе рассмотреть иск об освобождении имущества от ареста55, равно как не может удовлетворить требования учреждений, предприятий и организаций о возмещении причиненного им материального ущерба56.
78
Безусловно, применяемые следователем меры процессуального принуждения, в том числе и наложение ареста на имущество, должны обеспечивать возможность возмещения материальноги ущерба, причиненного преступлением, исполнение приговора в части конфискации имущества в каждом случае производства пред» верительного расследования независимо от факта приостановления уголовного дела и продолжительности розыска обвиняемого. Вместе с тем вряд ли можно считать оправданным положение, при котором потерпевшие, а также учреждения, предприятия и организации, понесшие ущерб от преступления, несмотря на то, что лицо, совершившее преступление, установлено, привлечено к уголовной ответственности и у него имеется имущество, необходимое для полного или частичного возмещения причиненного ущерба, тем не менее лишены возможности добиться восстановления своих нарушенных прав.
О необходимости совершенствования правового регулирования наложения ареста на имущество и возмещения причиненного преступлением материального ущерба применительно к случаям длительного отсутствия обвиняемого свидетельствует и то обстоятельство, что вещи, на которые наложен арест, во-первых, изымаются из гражданского оборота (в соответствии со ст. 175 УПК РСФСР ими не вправе пользоваться, распоряжаться родственники обвиняемого, другие лица и организации, которым они переданы на хранение) и вопреки своему целевому назначению перестают служить удовлетворению потребностей людей, и, во-вторых, за годы отсутствия обвиняемого могут прийти в негодность, морально устареть, а утратив свою потребительскую стоимость, потерять свойство выступать средством возмещения материального ущерба.
По нашему мнению, для устранения подобных коллизий необходимо в законодательном порядке предоставить органам дознания и предварительного следствия право ^являющееся одновременно и их обязанностью) в случае длительного отсутствия обвиняемого принимать меры к реализации его имущества с последующим наложением ареста на вырученную сумму. В целях максимальной охраны имущественных интересов участников процесса следует предусмотреть порядок, в соответствии с которым продажа арестованного имущества производилась бы по мотивированному постановлению следователя (органа дознания) через предприятия комиссионной торговли и только с санкции прокурора. Поскольку отдельные вещи обвиняемого могут представлять особую значимость для совместно проживающих с ним лиц (быть дороги им как память, использоваться при совместном ведении хозяйства и т. д.), наследники обвиняемого должны пользоваться правом первоочередного приобретения реализуемого имущества.
С учетом необходимости быстрейшего восстановления нарушенных имущественных прав государственных органов, общественных организаций и отдельных граждан, на наш взгляд, целесообразно заинтересованным лицам, а также прокурору предоставить право и до разрешения уголовного дела по существу, когда обви-
няемый (подозреваемый) объявлен умершим, обращаться в гражданском порядке в суд с иском о возмещении за счет имущества и денежных сумм, на которые наложен арест, причиненного преступлением материального ущерба. Гражданско-процессуальные вопросы, связанные с отсутствием ответчика и неизвестностью его местопребывания, определялись бы ст. 112 ГПК РСФСР (естественно, с той лишь разницей, что у суда не было бы необходимости направлять повестку по последнему известному месту жительства ответчика).
Поскольку решение о возмещении ущерба в предусмотренном законом порядке на "основе всестороннего изучения материалов дела будет приниматься судом, указанное предложение не противоречит принципу презумпции невиновности, согласно которому «обвиняемый (подсудимый) считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда»57. Оно будет способствовать совершенствованию охраны конституционных прав граждан, повышению эффективности борьбы с преступностью.
Криминалистическое понятие способа уклонения от ответственности
П. Г. ВЕЛИКОРОДНЫЙ, кандидат юридических наук
Эффективность раскрытия преступлений, установление во всей полноте обстоятельств, способствовавших их совершению, изобличение виновных и реабилитация невиновных во многом обусловливаются осведомленностью органов расследования о способах совершения или сокрытия преступления. От осведомленности следователя о способах действий субъекта на различных этапах его преступной деятельности зависит избрание правильного направления, методики и пределов расследования, оптимального режима по разрешению поисковых и доказательственных задач. Поэтому учеными-юристами справедливо отмечалось, что расследование преступления существенно облегчается, «если уже в самом начале следствия или даже в материалах, послуживших основанием для возбуждения дела, появляются указания на-способ совершения или сокрытия преступления»58. Особо важно выявить признаки способов совершения и сокрытия преступных актов при расследовании ряда однородных преступлений, однотипных по способу их совершения и по некоторым признакам действий, направленных на их сокрытие.
В советской криминалистике получило широкое признание оп-педеление способа совершения преступления как системы действий по подготовке, совершению и сокрытию деяния, детерминиро-панных условиями внешней среды и психофизическими качествами личности, связанных с избирательным использованием орудий или средств и условиями времени и места их совершения.
ьо
Однако надо признать, что данное понятие способа совершения преступления не обладает качеством универсальности. Учеными верно подмечено, что понятие способа совершения преступления в его полной структуре относится только к умышленным преступлениям, да и то не всегда. Подготовительные действия и действия по сокрытию преступления как элементы способа его совершения присущи не всякому преступному событию. «Усеченный» способ характерен для многих видов преступлений.
Вместе с тем следственная практика знает неединичные случаи, когда после совершения деяния в состоянии аффекта, опьянения, по неосторожности субъект принимает меры по сокрытию Іреступления, чтобы исключить либо свести к минимуму возможность его разоблачения и привлечения к уголовной ответствен--юсти.
Видимо, это и побуждает ученых к настойчивым поискам более приемлемого криминалистического понятия способа сокрытия преступления и его дефиниции. В юридической литературе высказаны различные соображения на этот счет. Так, Б. Б. Рыбников считает возможным сформировать, наряду с понятием способа совер-Іения преступления, самостоятельное понятие способа сокрытия преступления, охватывающее весьма широкий комплекс действий независимо от времени их осуществления.
Б. Н. Коврижных и В. А. Овечкин, являясь сторонниками выдвинутой В, П. Колмаковым концепции о раздельном существовании способов совершения и сокрытия преступления, высказались за создание интегрального понятия «способ преступления», которое включало бы в себя три элемента: способ подготовки, способ совершения и способ сокрытия преступления59.
Уязвимость этих взглядов названных авторов, как нам кажет-гя, состоит главным образом в том, что в их исследованиях наб-Іюдаются попытки механического разграничения структурных элементов, представляющих собой единство действий индивида по юдготовке, совершению и сокрытию деяния.
В свете сказанного заслуживает внимания мысль Р. С. Белкина о допустимости самостоятельного рассмотрения при определенных условиях способа сокрытия преступления. Он считает, что способ совершения преступления будет полноструктурным в случаях, когда действия субъекта на этапах подготовки, совершения и сокрытия преступления объединены общим преступным замыслом. Отсутствие единого преступного замысла, охватывающего собой все стадии преступной деятельности, и является тем обязательным условием, в силу которого возможно существование способа сокрытия преступления вне рамок традиционной структуры способа его совершения60.
Интересного, на наш взгляд, подхода к решению рассматриваемой проблемы придерживается Г. Г. Зуйков. Обосновывая м-нение о научной несостоятельности комплекса действий, именуемого способом сокрытия преступления, он предлагает называть его способом уклонения от ответственности. Это предложение мотивируется
й Заказ 7352
81
тем, что доминирующей целью действия по сокрытию преступления является уклонение от ответственности.
Нам кажется, что точка зрения Г. Г. Зуйкова является предпочтительной. Поэтому целесообразно детально проанализировать понятие и значение способа уклонения от ответственности.
Прежде всего укажем на сходство способа совершения преступления и способа уклонения от ответственности: и тот, и другой характеризуются общим противоправным замыслом и ведущей (доминирующей) целью, на достижение которой он направлен. Однако общий замысел и доминирующая цель каждого,из названных способов имеют существенные отличия.
Смысл общего преступного замысла, объединяющего все действия полноструктурного способа совершения преступления, органичной частью которого являются действия по сокрытию, заключается в наиболее «продуктивном» осуществлении преступной деятельности, достигаемой на основе использования физических возможностей, места и времени, сил, средств и приемов, ведущих, к главной цели. Единый преступный замысел реализуется здесь посредством разнообразных действий (бездействия), каждое из которых направлено на достижение определенной частной (локальной) цели, а все вместе они подчинены доминирующей цели — достижению преступного результата
Думается, что действия и бездействие, составляющие способ уклонения от ответственности, тоже объединяются общим противоправным замыслом, суть которого — избежать разоблачения и воспрепятствовать установлению объективной истины. Реализуется этот замысел в форме различных действий (и бездействия) по сокрытию путем утаивания, уничтожения, маскировки, фальсификации и инсценировки информации о следах преступления, преступника и их источниках (носителях)61. То или иное действие либо бездействие по сокрытию может преследовать достижение конкретной частной цели. Такими частными целями могут быть: дезориентация и направление следствия по ложному пути; исключение либо затруднение своевременного обнаружения преступления и (или) преступника; сокрытие другого преступления; избежание разоблачения для продолжения преступной деятельности; сокрытие факта пребывания на месте преступления; избежание огласки позорящих сведений; возможность конфликта на следствии при обнаружении преступления и_ подозрении в его совершении; исключение возможности опознания преступника в момент совершения им преступления и др. Эти частные цели подчинены достижению главной, доминирующей цели всего комплекса действий и бездействия по сокрытию — избежать ответственности за содеянное, уклониться от наказания.
Сказанное можно резюмировать так. Способ совершения преступления характеризуется общим преступным замыслом, реализуемым путем действий и бездействия, целью которых является достижение преступного результата (завладение социалистическим имуществом, лишение жизни человека и т. д.). Общий замысел
82
способа уклонения от ответственности выражается в избежании разоблачения и воспрепятствовании установлению объективной истины по делу и осуществляется посредством разнообразных действий и бездействия, направленных на уклонение от ответственности за содеянное.
Когда действия (бездействие) по сокрытию преступления, реализуемые в рамках способа его совершения, направлены главным образом на успешное совершение преступления и получение его результата, а потом уже на достижение различных второстепенных целей, включая стремление оставаться определенное время неразоблаченным, то правомерно говорить, что они являются составным элементом полноструктурного способа совершения преступления. Иными словами, здесь действия (бездействие) по сокрытию деяния охватываются понятием способа совершения преступления, и наличие автономного способа сокрытия преступления исключается.
Если же действия (бездействие) субъекта по сокрытию преступления объединены общим замыслом избежать разоблачения и воспрепятствовать установлению истины по делу, то можно считать, что налицо способ уклонения от ответственности. Причем и по структуре, и по содержанию способ'уклонения от ответственности, как резонно замечает Г. Г. Зуйков, шире и разнообразней комплекса действий по сокрытию преступления, являющихся частью полноструктурного способа совершения преступлений; способ уклонения от ответственности будет охватывать также и действия по сокрытию преступления, осуществляемые в рамках способа его совершения. В данном случае структура способа1 совершения преступления характеризуется неполнотой — ее составят действия субъекта, включая действия по сокрытию, выполненные им только на этапах подготовки непосредственного совершения преступления. Прав, на наш взгляд, Г. Г. Зуйков, когда говорит, что действия по уклонению от ответственности могут быть как продолжением начатых в период совершения преступления, так и не связанных с ними62. Очевидно, что способы совершения преступлений и уклонения от ответственности частично совпадают, «пересекаются», но они не идентичны.
Возникает вопрос: имеются ли реальные предпосылки для формирования научного криминалистического понятия споерба уклонения от ответственности. Нам кажется, что ответ должен быть положительным: он диктуется самой правоохранительной практикой. В структуре преступности, как известно, значительный удельный вес занимают повторно совершаемые однородные преступления, т. е. имеет место их криминологический рецидив. Практика многократно свидетельствует, что часто предпринимают действия по сокрытию преступлений с целью уклониться от ответственности лица, совершающие продолжаемые групповые хищения социалистического имущества, изнасилования, спекуляции, взяточничество, частнопредпринимательство, нарушения правил о валютных операциях, грабежи и разбои, преступления против личности
б*
83
и другие. Нередко преступникам удается длительное время оставаться неразоблаченными и успешно уклоняться от ответственности именно благодаря умелому осуществлению действий по сокрытию преступления и его следов как на этапах преступной деятельности, так и в последующие периоды, включая предварительное и судебное следствие.
Очевидно, что такое сочетание действий (и бездействия) по сокрытию преступлений, осуществленных на всех этапах преступной деятельности, а также на стадиях предварительного и судебного 'следствия, будет представлять не что иное, как способ уклонения от ответственности. По своему содержанию, как видно из примера, он характеризуется действиями (и бездействием) по утаиванию, уничтожению, маскировке и фальсификации сведений о следах совершенных преступлений и участников преступной группы и носителях этих следов.
Таким образом, способ уклонения от ответственности можно определить как избирательный комплекс действий (бездействия) по сокрытию путем утаивания, уничтожения, маскировки, фальсификации и инсценировки информации о следах преступления, преступника и их источниках, осуществленных на стадиях преступной деятельности, предварительного и судебного следствия различными методами и средствами с целью избежать ответственности за содеянное.
Практическое значение криминалистического понятия способа уклонения ет ответственности имеет два вектора. Знание и правильная илтерпретация следователем (прокурором, судьей) понятия, структуры и содержания способа уклонения от ответственности будет, на наш взгляд, способствовать: всестороннему изучению личности преступника; полному и обстоятельному исследованию мотивационной стороны его поведенческих актов по сокрытию преступлений на всех этапах преступной деятельности и на стадиях уголовного судопроизводства; доскональному выяснению факторов, детерминирующих действия (и бездействие) по сокрытию; более глубокому исследованию полноструктурного способа совершения преступления в силу его взаимосвязи со способом уклонения от ответственности.
Не менее важно и научное значение данного понятия. Изучение и обобщение передового опыта, накопление и научная обработка эмпирического материала, использование данных о признаках способов уклонения от ответственности, учет факторов, детер-м,инирующих действия по сокрытию, позволят сделать • более гибкими и эффективными имеющиеся тактические приемы и рекомендации по проведению отдельных следственных действий, по планированию и организации расследования, пополнить тактический арсенал следователя новыми методами и приемами, совершенствовать методики раскрытия и расследования конкретных видов преступлений (частные методики), в первую очередь рецидивных, углубить разработку теоретических положений и концепций советской криминалистики.
ЦІ. ЗА РУБЕЖОМ
К вопросу совершенствования управления в сфере предупреждения преступности в ЧССР
Доцент д-р ИРЖИ НЕЗКУСИЛ, доктор юридических наук
Д![]() ля
данной области управления характерно
возникновение различных
отношений вертикального и горизонтального
типов. «Вертикальные
отношения складываются по линии
управления между руководящими и
руководимыми. Их суть состоит в принципе
субординации — начальствования и
подчиненности. Опорой служит четкое
определение компетенции, прав,
обязанностей и ответственности
по отдельным функциям в системе
управления. Сюда относятся
также отношения внутри управленченской
и управляемой
области и отношения между ними,
наличествующие в горизонтальной
плоскости. Профилирующим признаком
этих отношений служат
координация, сотрудничество и содействие.
К числу управленческих
отношений принадлежат также отношения,
связанные с
осуществлением надзора и контроля,
поддержанием порядка и дисциплины-
и с проявлением активности и инициативы
звеньев социальной системы»1.
Следовательно, в этом плане имеют место
размышления
насчет совершенствования системы
управления в сфере предупреждения
преступности с целью разрешения
вопросов, связанных
с аспектами управления: управление с
использованием отношений
начальствования и подчиненности,
координация и кон-роль
(а возможно и другие, связанные с ним
аспекты). Преследуя цель
усиления процесса обеспечения правильной
направленности
предупреждения преступности в ЧССР
(углубления управления в сфере
предупреждения), имеют в виду добиться
правильного
применения аспектов управления процессом
предупреждения преступности,
т. е. регулятивных отношений между
вышестоящими
и нижестоящими органами, или
надведомственными и подведомственными,
координации действий отдельных субъектов
предупреждения
преступности и контроля.
ля
данной области управления характерно
возникновение различных
отношений вертикального и горизонтального
типов. «Вертикальные
отношения складываются по линии
управления между руководящими и
руководимыми. Их суть состоит в принципе
субординации — начальствования и
подчиненности. Опорой служит четкое
определение компетенции, прав,
обязанностей и ответственности
по отдельным функциям в системе
управления. Сюда относятся
также отношения внутри управленченской
и управляемой
области и отношения между ними,
наличествующие в горизонтальной
плоскости. Профилирующим признаком
этих отношений служат
координация, сотрудничество и содействие.
К числу управленческих
отношений принадлежат также отношения,
связанные с
осуществлением надзора и контроля,
поддержанием порядка и дисциплины-
и с проявлением активности и инициативы
звеньев социальной системы»1.
Следовательно, в этом плане имеют место
размышления
насчет совершенствования системы
управления в сфере предупреждения
преступности с целью разрешения
вопросов, связанных
с аспектами управления: управление с
использованием отношений
начальствования и подчиненности,
координация и кон-роль
(а возможно и другие, связанные с ним
аспекты). Преследуя цель
усиления процесса обеспечения правильной
направленности
предупреждения преступности в ЧССР
(углубления управления в сфере
предупреждения), имеют в виду добиться
правильного
применения аспектов управления процессом
предупреждения преступности,
т. е. регулятивных отношений между
вышестоящими
и нижестоящими органами, или
надведомственными и подведомственными,
координации действий отдельных субъектов
предупреждения
преступности и контроля.
Следовательно, решая вопросы управления в сфере предупреждения преступности, нельзя все сводите лишь к укреплению управления в смысле регулятивных отношений между вышестоящими и нижестоящими или же надведомственными и подведомственными органами, ибо не менее важным является также вопрос об усилении координации и контроля как дальнейших значимых аспектов управления в сфере предупреждения преступности (общеизвестно, что в этом отношении имеются существенные недостатки). Разумеется, что в таком же плане нельзя задачу совершенствова-
85
ния управления в сфере предупреждения преступности сводить лишь к углублению координирования действий субъектов системы предупреждения преступности, ибо целенаправленное управление системой предупреждения преступности основано лишь на взаимодействии всех указанных аспектов. В этой связи отметим, ^что значение регулятивных отношений управления (между над-'ведомственными и подведомственными органами) не ставится под сомнение в силу тезиса о «равенстве» субъектов специального предупреждения преступности в рамках координации. Дело в том, что в данном случае имеется в виду нечто совершенно иное.
Так, в координации более узкого специального предупреждения в горизонтальной плоскости речь идет об отношениях между органами, сохраняющими свою самостоятельность, не находящимися по отношению друг к другу в состоянии власти и подчиненности, что и должно найти выражение в формулировке равенства субъектов и в последующем понимании положения прокурора по отношению к координации (указывается, что прокурор считается здесь «primus inter pares»). Говоря о совершенствовании системы предупреждения преступности применительно к различным аспектам управления ею, нельзя не видеть того, что имеются различия (превалирующие) между методами, связанными с упомянутыми аспектами управления. В частности, для координации в отличие от управления, основанного на отношениях начальствования и подчиненности, характерен метод сотрудничества. Это в конце концов связано с тем, что координация является взаимодействием, которое в свою очередь предполагает сотрудничество, взаимопомощь и содействие без каких-либо приказаний. Касательно характеристики управленческих отношений В. Г. Афанасьев указывает, что это — «и отношения субординации — административные и директивные отношения, и отношения исполнительные — отношения подчиненности. Что касается подчиненных, исполнителей, то управленческие отношения между ними обретают не административный, а функциональный характер. Это — отношения координации, направленные на координирование их действий в целях успешного выполнения задач, возложенных на объект управления. Отношения координации складываются не только между отдельно взятыми исполнителями, но и между различными подразделениями (звеньями) того же объекта»2. Из приведенной характеристики явствует, что в первых двух областях преобладает директивное возложение задач, в то время как в последней области —• коордийации — оно отсутствует. Стало быть, здесь речь идет о чем-то другом, о взаимодействии, сотрудничестве. Впрочем, это подтверждается также толкованием, согласно которому «сотрудничество в отличие от форм приказов особо интенсивно проявляется в горизонтальной плоскости, на одинаковом уровне, а диагонально — между неподчиненными и неначальствующими, что и представляет собой область координации»3. Впрочем, сказанное проистекает из самой сути дела: ведь вполне ясно, что органы в горизонтальной плоскости или же неподчиненные и не находящиеся в сос-
86
тоянии власти, не наделенные по отношению друг к другу определенными правомочиями, в большинстве случаев не могут в своих взаимоотношениях действовать иначе, чем на базе взаимодействия т е. в основном методом сотрудничества. Следовательно.речь идет о совершенствовании основополагающих аспектов управления, об углублении отношений сотрудничества (координации) или же отношений, складывающихся в связи с распорядительным методом (регулятивные отношения между руководящими и руководимыми).
При этом управление системой предупреждения преступности, углубление которого имеется в виду, следует понимать в основном в смысле руководства, так как здесь, в обеспечении направленности процесса предупреждения преступности, речь идет главным образом о работе с людьми. И в то же время в ином плане следует понимать под этим составную часть управления технологическими процессами с таким расчетом, чтобы они оказались наиболее эффективными для общества. Такие случаи в сфере предупреждения преступности будут," по-видимому, встречаться в меньшем количестве. Они будут иметь место главным образом в сфере криминалистической профилактики — в обеспечении технических устройств по линии, связи и на транспорте, в использовании ЭВМ в области статистики, оперативного учета и пр.
Это связано с выделением трех горизонтов субсистемы управления, реализуемой, во-первых, как управление деятельностью людей, отношениями между людьми, причем в виде руководства; во-вторых, как управление материальными, техническими, биологическими и другими процессами; в-третьих, с помощью регуляции как объективный, стихийный процесс и как субъективная, целенаправленная деятельность4.
В произведенных исследованиях четко прослеживается необходимость углубления управления (в указанном смысле) на всех уровнях административного деления государства и по членению хозяйственных единиц с учетом специфичности отдельно взятых систем (государственный аппарат,- хозяйственные организации, общественные организации-).
В сфере предупреждения преступности необходимо обеспечить на различных уровнях эффективное воздействие на причины и условия преступности. Это воздействие обусловлено использованием сил всей системы субъектов, обеспечения им целенаправленного взаимодействия, взаимоувязки, общего пЪдхода, разделения труда, не допуская распыления сил, дублирования, изоляции и т, д., включая необходимость уделения всему этому соответствующего внимания. Однако это представляется невозможным без сотрудничества субъектов предупреждения преступности, без координирования их профилактической деятельности, которое бы обеспечивало более высокую эффективность воздействия в сфере предупреждения преступности, позволяло бы видеть проблемы преступности в их комплексе и выдвигать общие и частные (касающиеся отдельных субъектов предупреждения преступности) задачи в
87
указанной сфере. И вместе с тем необходимо, чтобы все субъекты предупреждения преступности, сверху донизу, действительно вы-полняли-свои обязанности в данной сфере и связанные с этим операции, чего не может обеспечить сама по себе координация. Здесь имеется в виду не только смежная область применения методов регулятивных отношений управления, но и роль плана, контроля н пр. Короче говоря, указанные аспекты управления целесообразно взаимно дополнять, причем в процессе совершенствования управления в сфере предупреждения преступности необходимо добиваться того, чтобы упомянутые аспекты надлежащим образом выполняли соответствующую роль в системе управления в сфере предупреждения преступности и в то же время образовали гармоничное, взаимно слаженное, единое целое.
Что же касается управления, основанного на регулятивных отношениях начальствования и подчиненности и на координации предупреждения преступности, — управления в смысле подчинения нижестоящего органа вышестоящему, то оно может иметь место всюду, где речь идет об органах с иерархической структурой5. Его осуществление является делом отдельных звеньев социальной системы. Но субъекты социального предупреждения преступности не всегда находятся в структуре подчинения. Так, национальные комитеты не являются вышестоящими по отношению к сфере хозяйственных организаций центрального или республиканского подчинения, они не являются вышестоящими ни по отношению к органам прокуратуры, суда, КНБ, ни по отношению к общественным организациям. Значит, здесь для обеспечения взаимодействия требуется координация.
С этим связана проблема координации и управления (с использованием регулятивных отношений между вышестоящими и нижестоящими органами) по горизонтали и вертикали (по вертикали главным образом обеспечение координации с помощью приказов высших органов касательно взаимодействия нижестоящих по отношению к ним звеньев в определенных горизонтальных плоскос-'тях — взаимная координация таких приказов) и проблема юридического закрепления координаторов по линии специального предупреждения: в более широком смысле имеются в виду национальные комитеты, верховные представительные органы и правительства, осуществляющие в то же время управление подчиненными им звеньями; в более узком смысле — органы прокуратуры.
Правительства могли бы особенно много сделать в так называемой ведомственно-отраслевой координации, т. е. реализованной по линии отдельных министерств и других центральных органов, где возможно применение принципа подчиненности и начальствования; аналогичное положение занимают правительства и по отношению к национальным комитетам. Министерства (центральные органы) могли бы воспользоваться своими правомочиями в целях обеспечения того, чтобы подчиненные им звенья стремились к координации действий, организуемых и координируемых национальными комитетами. Субъекты более узкого специального предуп-
88
реждения преступности, т. е. органы безопасности, суда и прокуратуры, одновременно осуществляют управление по отношению к подчиненным им звеньям (в правосудии, конечно, нельзя нарушать принцип независимости судей; исправление может иметь место прежде всего путем применения средств обжалования и дачи заключений по спорным юридическим вопросам).
Основополагающее значение имеет проблема роли национальных комитетов и органов прокуратуры в сфере координации. Результаты исследований показали, что обеспечение координации общего и специального предупреждения в более широком смысле принадлежит национальным комитетам (на уровне мест, районов и областей) как наиболее массовым организациям трудящихся, пользующимся универсальными правомочиями. При этом национальные комитеты могут пользоваться и расширенной компетенцией, которой они наделены на основании решения 6-го Пленума ЦК КПЧ, а также помощью, например, со стороны советов директоров. Что же касается специального предупреждения преступности в более узком смысле, то функцию координатора (подобно тому, как и в СССР) следовало бы выполнять органам прокуратуры с учетом того, что они располагают наибольшим объемом информации о фактах нарушения законности (включая факты нарушения внеуголовных норм; привлечение к строгой ответственности за такие нарушения является сущностью ранней профилактики преступности, т. е. предотвращения поступков, не образующих по своей интенсивности состав преступного деяния), а также важнейшими инструментами, особенно в виде общего надзора по выявлению и устранению фактов нарушения норм права.
Необходимость в существовании органа, призванного обеспечивать координацию, в дальнейшем углублении деятельности этого органа вытекает из того, что здесь, в сфере координации, имеются задачи, о реализации которых необходимо заботиться в интересах успешного обеспечения этой координации. Так, в сфере более узкого специального предупреждения преступности таковым является прокурор, который наряду с приравненными к нему субъектами должен заботиться и об организационных вопросах координации, чтобы обеспечить слаженность действий этих субъектов.
Таким образом, речь идет об интегральном аспекте, об элементе координации, обеспечивающем ее функционирование, а в связи с регулятивными отношениями управления — и соответствующее воздействие процесса предупреждения преступности.
Применительно к национальным комитетам в сфере более широкого специального предупреждения преступности говорят даже, что им следовало бы выполнять ведущую роль в координации (наряду с партийными органами; речь идет, стало быть, о партийном и государственном руководстве). Очевидно, имеются в виду оказание руководящего и направляющего воздействия с тем, чтобы субъекты предупреждения преступности (поскольку это мо-
89
жет иметь место) действовали в тесном сотрудничестве с другими субъектами (с использованием также регулятивных отношений). Для этого необходимо обеспечить слаженность действий НК с действиями остальных субъектов предупреждения преступности, а также выполнение общих задач. Причем здесь мы, конечно, уже выходим за* рамки координации, как это явствует из предшествующего изложения. Подобно этому обстоит дело и в СССР: в административно-территориальных единицах в СССР разработка и реализация комплексных мероприятий по предупреждению преступности осуществляются под руководством партийных органов и Советов народных депутатов, включая: а) все звенья этой деятельности; б) некоторые тесно связанные ее звенья (например, координация между правоохранительными органами)6.
Ведущая роль НК в сфере координации более широкого специального предупреждения преступности (которая, конечно, выполняется ими еще далеко не полностью) является (в теоретичен ком плане), вполне естественно, несравнимой с ролью прокурора как организатора специального предупреждения преступности в более узком смысле.
Активность национальных комитетов в части координации, т. е. их направляющая деятельность в этом отношении, во всяком случае имеет в тех или иных направлениях иное содержание, чем действия органов прокуратуры по отношению к органам К.НБ и суда (деятельность прокурора как организатора специального предупреждения преступности в более узком смысле). Здесь можно говорить о своего рода элементах координации, необходимых для того, чтобы координация деятельности государственных и общественных органов и организаций могла осуществляться (причем собственно координация — это обеспечение слаженности действий субъектов предупреждения преступности). Имеются в виду элементы, охватывающие собой ведущую роль в сфере координации, оказание содействия координации, обспечение ее направленности и инициирования. При этом для обеспечения ведущей роли 'в сфере координации, принадлежащей национальному комитету в определенном сочленении (и взаимодействии) с партийными органами, последним используются также специфические средства государственного управления (особенно регулятивные отношения и другие моменты),
В данном случае речь идет о руководящей и направляющей деятельности национальных комитетов, с тем чтобы субъекты предупреждения преступности действовали в тесной взаимосвязи и в общем-то выполняли задачи, возложенные на них в сфере предупреждения преступности, т. е. имеется в виду деятельность, содержащая в себе элементы прямого управления. Тем самым, как уже указывалось, становится вполне понятным, что действия H К отличаются от действий прокурора, сводящихся к оказанию содействия координации или же ее инициированию и не содержащих на соответствующем уровне элементы прямого управления (деятельность прокурора по организации координирования специ-
90
ального предупреждения преступности в более узком смысле или же его деятельность в рамках более широкой профилактики по отношению к координации с использованием в этой связи также средств надзора). Обеспечивая координацию деятельности субъектов предупреждения преступности, национальный комитет использует также регулятивные управленческие отношения. Разумеется, что в таком плане воспринятая идея ведущей роли национального комитета в деле координации и обеспечения более широкого предупреждения преступности вообще представляет собой абсолютно необходимое условие в общем и целом гармоничного воздействия системы предупреждения преступности на соответствующих уровнях.
При этом, конечно, не следует упускать из виду место (и отношения) национального комитета (например, на уровне районного звена) во всей его сложности. Здесь «переплетаются» отношения различного характера. С одной стороны, национальный комитет находится в состоянии власти по отношению к некоторым субъектам, состоит с ними в регулятивных отношениях (здесь, по-видимому, в соотношении национальный комитет — эт*и субъекты, нельзя говорить о регулятивных отношениях управления, используемых, конечно, для воздействия на эти субъекты в смысле координации с другими субъектами) ; с другой стороны, здесь имеются некоторые субъекты, по отношению к которым национальный комитет не находится в состоянии власти, и, стало быть, прежде всего складываются координационные отношения. Как уже отмечалось выше, национальные комитеты не находятся в состоянии власти по отношению к органам прокуратуры, суда и КНБ, причем именно по отношению к ним необходима для обеспечения взаимодействия соответствующая координация. В этой связи отметим, что применительно к органам КНБ имеются еще определенные специфичности — см., в частности, ч. 4 § 6 Закона о национальных комитетах № 31/1983 СЗ. Тщательное изучение данной проблематики, включая вопросы компетенции и возможностей органов прокуратуры и национальных комитетов в сфере предупреждения преступности и в отношении его субъектов, явилось бы весьма важным вкладом в обеспечение дальнейшего существенного сдвига в этой области.
Вся система управления в сфере предупреждения преступности и координации этого предупреждения нуждается в завершении на уровнях республик и федерации. Правительство республики руководит национальными комитетами и контролирует их деятельность (с. 136 Конституционного закона о Чехословацкой федерации). А поэтому республиканское правительство должно стать координационным органом с распорядительной функцией (по отношению к национальным комитетам и центральным органам республиканского подчинения) й с координационной функцией (по отношению к общественным организациям, кооперативам, а также к субъектам, руководимым Правительством ЧССР).В качестве совещательного органа следовало бы учредить Комиссии прави-
91
тельств республик по вопросам управления и координации в сфере предупреждения преступности.
Координационным и руководящим субъектом на федеральном уровне следовало бы стать Правительству ЧССР, при нем следовало бы также учредить координационный орган. Дело в том, что обеспечивать координацию специального предупреждения преступности в более широком смысле и осуществлять управление этим предупреждением надлежит Правительству ЧССР (на уровне республик — национальным правительствам) как- исполнительному органу. При нем следовало бы учредить вспомогательный орган, посредством которого правительство обеспечивало бы координацию.
Этот орган, созданный при Правительстве ЧССР, выполнял бы консультативную, инициативную (и вспомогательную) роль в деле координации. Учреждение такого органа основывалось бы на общей компетенции правительства и на положении ч. 2 ст. 76 Конституционного закона № 143/1968 СЗ о Чехословацкой федерации в редакции Конституционного закона № 125/1970 СЗ и Конституционного закона № 43/1971 СЗ. Такая база для учреждения подобного органа позволила бы включить в него все главные субъекты более широкого специального предупреждения преступности, в их числе и представителей органсгв с федеральной компетенцией, органов с компетенцией лишь в рамках национальных республик (например, имеющие важное значение в сфере предупреждения преступности органы 'просвещения, здравоохранения, юстиции) f a также общественных организаций. Объединение представителей всех этих органов, среди которых важнейшая инициативная роль принадлежала бы Генеральному прокурору ЧССР, явилось бы эффективным средством обеспечения единообразного решения вопросов предупреждения преступности, уголовной политики в более широком смысле. Работа этого объединения способствовала бы (аналогично тому, как и на более низких уровнях координационных органов в областях и районах) преодолению изолированности отдельных звеньев системы предупреждения преступности, получению полной картины проблем в области предупреждения преступности в ЧССР, необходимых опорных данных для разработки мероприятий по предупреждению преступности, а также оказанию воздействия по вертикальной линии. В этом отношении особо важным является то обстоятельство, что тем самым можно было бы более эффективно обеспечивать осуществление единообразной государственной политики и в областях, которые отнесены к компетенции республик, а также по линии общественных организаций, участие которых в предупреждении преступности является бесценным и незаменимым. Разумеется, речь идет также о соответствующем представительстве национальных комитетов, которым также принадлежит важнейшая роль в предупреждении преступности:
Конечно, это был бы вспомогательный орган, несущий ответственность перед правительством, которому он и представлял бы
92
отчеты и предложения. Причем в этом отношении действует правило- ч. 2 ст. 76 Конституционного закона о Чехословацкой федерации, что именно правительство (вполне понятно, с помощью указанного органа) координирует решение вопросов, вытекающих из потребностей единообразного обеспечения государственной политики федерации на всей территории Чехословацкой Социалистической Республики. И здесь имело бы место переплетение горизонтальной и вертикальной линий. Обеспечение реализации согласованных мероприятий проходило бы, кроме прочего, по линии отдельных органов с федеральной компетенцией. По линии правительства— в рамках его компетенции (согласно ч. 2 ст. 76 Конституционного закона о Чехословацкой федерации. Правительство Чехословацкой Социалистической Республики при обеспечении выполнения задач федерации занимается также вопросами принципов и концепций, имеющими значение для всего общества, и в тех областях, которые относятся к компетенции республик). Важнейшим инструментом обеспечения долгосрочных задач и общегосударственной линии предупреждения преступности явился бы также разработанный план комплексных мероприятий борьбы с преступностью в ЧССР, из которого вытекали бы задачи и для республик. В отношении предлагаемого координационного органа по предупреждению преступности (вспомогательного органа правительства по делам координации) являлось бы необходимым урегулировать его деятельность в статусе или организационных правилах с целью разрешения и таких вопросов, каковыми являются порядок его учреждения (очевидно, Правительством ЧССР), определение компетенции (содействие в процессе координации деятельности органов более широкого специального предупреждения преступности), а также ответственности или же подчиненности (как уже отмечалось, Правительству ЧССР). Здесь же была бы закреплена также инициативная роль Генерального прокурора ЧССР в деле оказания помощи при координации специального предупреждения преступности в более широком смысле.
Цели подкрепления регулятивных отношений в сфере управления предупреждением преступности, а также координации работы по предупреждению преступности должна была бы служить реализация требования углубления плановости в сфере борьбы с преступностью, особенно завершение разработки всей системы этих планов на федеральном уровне путем принятия планов комплексных мер борьбы с преступностью в ЧССР (в аналогичном порядке следовало бы решить данную проблему на Уровне национальных республик). Федеральному Собранию было бы предоставлено право утверждения документа в этом виде и право контроля за исполнением намеченных в нем задач. В общем и целом по вопросам распределения ролей и задач в связи с разработкой такого плана следовало бы руководствоваться тем же, что в общих чертах относится к Государственному плану развития народного хозяйства, разумеется, соответственно данной проблеме. План должен был бы явиться следующим шагом на пути реализа-
ции идеи о том, что борьба с преступностью должна быть управляемой, плановой, комплексной (на уровне федерации и национальных республик эта идея еще не нашла своего воплощения). Это способствовало бы реализации идей, высказанной Г. А. Аванесо-ным, что современная теория и практика создают новый тип управления в области борьбы с преступностью. Такое регулирование возможно лишь с помощью прогнозирования (что, как известно, тесно связано с планированием борьбы с преступностью), и дальнейшее его осуществление представляется возможным лишь путем планомерного воздействия на преступность, Разумеется, далеко не все здесь сводится к планированию, ибо, как опять-таки указывает Лванесов, управление в области борьбы с преступностью реализуется, как известно, не только посредством выполнения плана. Оперативное, т. е непосредственное, выполнение задач обусловлено управлением, осуществляемым с помощью инструкций, приказов, распоряжений, директив и т. д.7.
Следовательно, существующую систему областных, районных планов, а также планов на местах, на предприятиях (заводах) по осуществлению комплексных координированных мероприятий по борьбе с преступностью и другой антиобщественной деятельностью следовало бы завершить разработкой комплексного плана на уровне республик и федерации, цричем это, по-видимому, должен быть план среднесрочного типа, который необходимо было бы обеспечить соответствующей увязкой с планами другого типа по борьбе с преступностью (краткосрочные планы, долгосрочные планы-программы отраслевые й территориальные планы, что, конечно, пока представляет собой проблему скорее в теоретической плоскости).
Разработка такого плана явилась бы, по-видимому, задачей координационных органов при правительствах, которые содействовали бы обеспечению планового процесса в данной области в предметном, организационном и методическом отношениях, а также обеспечению контроля за его выполнением и реализацией. Исходной базой в этом отношении могли бы послужить пятилетние отчетные ведомости о состоянии преступности, составление которых намечается в органах прокуратуры.
Кардинальным является требование насчет понимания (разработки) этих планов (и на низших уровнях) в качестве составной части плана экономического и социального развития и обеспечения их увязки с предвыборными программами Национального фронта. "Дело в том, что решение проблемы борьбы с преступностью не представляет собой изолированный процесс — это составная часть общих усилий по воспитанию нового человека, что является основополагающим в процессе строительства развитого социалистического общества. Эта задача (т. е. сокращение преступности) может быть решена лишь путем воздействия по всем линиям предупреждения преступности — путем общего и специального предупреждения преступности. Следовательно, в сфере предупреждения преступности речь идет о составной части усилий, прилагаемых всем обществом ^с целью воспитания нового человека, о задаче,
* "Ч л.
94
сливающейся воедино (см., в частности, общее предупреждение преступности) с задачами в более широких рамках строительства развитого социалистического общества, его планомерного развития, эвентуально тесно (посредством других областей профилактики) связанной и неотделимой от этого строительства. Естественно, реализация данного требования ввиду нынешнего состояния социально-экономического планирования и его проблем является весьма сложным делом.
Эксцесс исполнителя
по английскому уголовному праву
А. В. ЧЕРНЫХ, аспирант (Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства)
Для1 английского уголовного права характерно сочетание старых феодальных и современных правовых норм и доктрин, что весьма гибко используется британским буржуазным государством для регулирования правоотношений в сфере уголовной репрессии.
В этой связи определенный интерес представляет изучение способов решения по английскому уголовному праву вопросов ответственности за так называемый эксцесс лсполнителя, когда последний совершает не то преступление, к которому его подстрекали или в котором ему оказывали содействие.
Думается, рассмотрение данной проблемы следует предварить изучением двух традиционных доктрин английского уголовного права, что в свою очередь позволит правильно оценить нормы, регулирующие правоотношения, складывающиеся р случаях эксцесса исполнения. Это — доктрина «о наказании за убийство, осуществленное в процессе выполнения фелонии» (т. е. тяжкого преступления), а также доктрина «общей цели» участников преступления.
В английском общем праве длительное время господствовала каноническая доктрина ответственности за любые последствия «незаконного» или «безнравственного» действия8. Так, по английскому уголовному праву до 1957 года тяжким убийством считалось деяние не^только в тех случаях, когда лицо действовало с желанием причинить смерть и сознанием того, что совершаемое им действие приведет к смерти, но и в тех, когда оно имело намеренно совершить любое иное преступление из категории тяжких с применением или хотя бы с угрозой применения насилия9. Следовательно, субъективная характеристика данного деяния включала в себя умысел исполнителя, направленный как на совершение «базового» преступления (например, ограбления), так и на выполнение смертоносного действия, даже если он и неправильно оценил вредоносный потенциал этого «сопутствующего» деяния10.
95
Что же касается дополнительного участника, то в соответствии с общим правом он должен был иметь такую же форму вины, как и исполнитель, и предполагать возможность выполнения исполнителем какого-либо насильственного акта,'если это потребуется во время совершения «базовой» фелонии.
Классическим примером, в котором были сформулирораны все основные положения общего права об ответственности дополнительного участника преступления при отклонении исполнителя от общей согласованной цели, является дело Беттса и Ридли (1930 г.). Материалами дела установлено, что соучастники договорились осуществить ограбление. Однако во время совершения указанных преступных действий Беттс нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался. На основании правила фелони-мёрдэ оба они (Беттс и Ридли) были признаны виновными в тяжком убийстве. В решении суда было сказано, что «лицо, способствующее преступлению, отвечает за те преступления главного виновника, которые были совершены им во исполнение их общей цели»11. Следовательно, если двое имеют общую цель — совершить ограбление и один из них убивает потерпевшего, в то время как другой присутствует при этом в качестве его сообщника, то оба они виновны в тяжком убийстве, хотя второй и не давал специального согласия на ту степень насилия, которая фактически имела место. Необходимо лишь, чтобы совершенное действие соответствовало общему замыслу и не отличалось от него полностью или существенным образом. К. Кении пишет, комментируя данное решение, что «обычно существует цель, согласованная между соучастниками, но если кто-либо совершает какие-либо действия, которые, как он знает, окажут содействие задуманному кем-либо лреступлению, он несет ответственность в качестве пособника, да'же если главному виновнику ничего не известно о его помощи»12.
В ст. 1(1) принятого в 1957 году Закона об убийстве было закреплено следующее правило: лицо, совершившее в процессе выполнения какого-либо преступления убийство, признается виновным в тяжком убийстве, если оно намеревалось либо лишить жизни другого человека, либо причинить ему тяжкий телесный вред, так же, как это имеет место при совершении тяжкого убийства самого по себе. Хотя в соответствии со ст. 1 Закона об убийстве 1957 года правило фелони-мёрдэ отменено, положения общего права, выработанные в процессе его применения, и сейчас остаются авторитетными нормами английского уголовного права. Таким образом, для того, чтобы лицо могло быть признано виновным участником тяжкого убийства, осуществленного его напарником во время совместного совершения ими предварительно задуманного иного преступления, оно должно предполагать, что его соучастник готов причинить по крайней мере тяжкие телесные повреждения во время совершения «базового» преступления. Если же дополнительный участник преступления предполагает меньшую степень насилия, то он может быть признан соучастником лишь
простого убийства. Об этом сказано, например, в решении апелляционного суда Англии по делу Ловси (1969 г.)13.
В связи с рассмотренными выше положениями английского уголовного права полагаем необходимым подробнее остановиться на том, какой смысл вкладывают английские юристы в понятие «цель совместного преступного деяния» или «общая преступная цель».
Коротко английскую уголовно-правовую доктрину общей цели можно было бы сформулировать следующим образом. Если два ица объединились для достижения общей преступной цели, то юбой из них отвечает за акт другого, выполненный для достижения этой цели. Однако данное правило не распространяется на действия, выходящие за рамки «сопутствующего» выполнению ."(доведению до конца) их совместного преступного замысла14.
Когда умыслом каждого из участников такого преступного объединения со всей очевидностью охватывается совершение только основного преступления и никакого другого, тогда установление оснований ответственности — достаточно простой процесс, пишет П. Джиллс. В данной ситуации едва ли есть необходимость в применении доктрины общей цели, поскольку все основные элементы ответственности соучастников оцениваются так же как и при «обычном» соучастии.
Фактически же доктрина общей цели применяется в английском уголовном праве к стандартным ситуациям, т. е. когда А. и В. совместно совершают «базовое» преступление и в процессе этого преступления В. выполняет иное, «сопутствующее» преступное деяние.
Таким образом, если два или более лица вступают в соглашение по поводу совершения определенного преступления («базового»), то они признаются соучастниками и любого иного «сопутствующего» ему преступления, выполненного кем-либо из них, т. е. преступления, совершение которого они либо оговорили, либо сов-место умышляли (предполагали) на случай, если оно потребуется для завершения «базового» преступления. Иными словами, они подлежат ответственности за любое, преступление, которое является необходимым «сопутствующим» элементом в реализации совместного преступного замысла, если совершение этого «сопутствующего» преступления подразумевается или оговорено ими непосредственно15.
Существенным является то, что для установления виновности лица в «сопутствующем» преступлении не обязательно, чтобы оно участвовало в сговоре по поводу «базового» преступления. Так, если А., даже и не находясь в сговоре с Б., подстрекает его или помогает ему совершить «базовое» преступление, сознавая при этом, что, если понадобится, Б. осуществит и другое, «сопутствую-Щее» преступное деяние, то он является соучастником также и этого второго, «сопутствующего» фактически совершенного прес-
Ї Заказ 7352 > 97
тупления. Английские юристы в таких случаях обычно ограничиваются цитированием высказываний их авторитетного соотечественника— юриста XVII века М. Фостера16. Последний в своей работе «Дела короны» (с приложением в виде четырех трактатов «О некоторых институтах права короны», третий из которых посвящен вопросам соучастия) писал, что ответственность дополнительных участников может наступать и за те результаты действий исполнителя, которые выходят за пределы первоначального намерения, если в принципе такие результаты были «предвидимыми»17. При этом, как пишут Дж. Смит и Б. Хоган, вероятность совершения «сопутствующего» преступления дополнительный участник должен предвидеть не в большей степени, чем это можно было бы потребовать от исполнителя18.
Каким же образом в английском праве возлагается уголовная ответственность на соучастников в тех случаях, когда исполнитель совершает уже не «сопутствующее», а иное преступление, к которому его не подстрекали или в котором ему не оказывали содействия (т. е. в случае эксцесса исполнителя)?
В соответствии с английским уголовным правом лицо, как правило, не может быть признано соучастником преступления, исполнитель которого умышленно отклонился от предполагаемой дополнительным участником линии поведения. Данное положение было сформулировано еще в общем праве М. Фостером, который писал: «Если исполнитель в значительной степени отклоняется от совершения преступления, к которому его подстрекали, и сознательно выполняет другое, то он должен один подлежать уголовной ответственности»19.
В указанной ситуации «несостоявшийся соучастник» освобождается от ответственности в связи с тем, что он не выполнял деяния, которое содержало бы объективные и субъективные признаки соучастия в новом преступлении. При этом английские юристы большое внимание уделяют точному определению того, что же входило в замысел соучастника, когда он совершал инкриминируемое ему деяние, насколько преступление, которое советовал совершить соучастник, само явилось вероятной причиной другого, действительно совершенного преступления. Так, в современных изданиях широко цитируется решение суда по известному делу Саундерса и Арчера (1567 г.). Саундерс подговорил Арчера дать его (Арчерй) жене отравленное яблоко, которое она, ничего не подозревая, передала своему ребенку, погибшему в результате этого. Суд признал, что такой результат не был настолько вероятен, чтобы можно было привлечь первоначального подстрекателя в качестве соучастника убийства ребенка20.
Хотя соучастник не подлежит уголовной ответственности за деяние, совершенное исполнителем в случае умышленного отклонения последнего от совместно умышляемой линии поведения, он тем не менее может быть подвергнут уголовной репрессии за те действия, которые совершены им в ходе «несостоявшегося соучастия» (дело Смита—1963 г., дело Андерсона и Морриса—•
98
1966 г.)21- Так, если А. помогает Б. совершить определенное преступление, а Б. умышленно выполняет более тяжкое преступление, но по типу сходное с тем, которое имел в виду А., и обстоятельства фактически совершенного преступления сходны с теми, которые предполагались А., то он как дополнительный участник может быть признан виновным в этом не состоявшемся (менее тяжком) преступлении.
Рассмотрим гипотетический пример. Если А., не имея в виду не только убийство, но и даже причинение тяжких телесных повреждений, подстрекает Б. напасть на В., но Б., напротив, с прямым умыслом убивает В., то Б. вероятнее всего будет признан виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а А. — в простом убийстве. Однако, если деяние исполнителя является очевидным отклонением от причинной цепи, связывающей факт нападения на В. с его смертью, то А. подлежит ответственности лишь за соучастие в нападении.
Все рассмотренные выше ситуации относились к случаям, когда исполнитель умышленно совершал дополнительное преступление. Иные способы возложения уголовной ответственности применяются в английском уголовном праве к участникам преступления, когда исполнитель случайно отклоняется от линии поведения, предполагаемой его соучастниками.
Если преступник планирует совершить4 преступление избранным способом, однако просчитывается или иным образом непроизвольно отклоняется от первоначальных намерений, в результате чего то же преступление имеет место в иных, частично не предусмотренных условиях, то это лицо все равно будет признано ви* новным в преступлении. В английском праве это достигается путем применения доктрины перенесенного виновного намерения, которое иногда носит название конструируемого виновного намерения. Так, в решении суда по делу Кандё (1976 г.) было сказано, что если лицо с виной, соответствующей конкретному преступлению, совершит деяние, которое вызовет вредные последствия, предусмотренные определением данного преступления, то оно будет признано виновным, хотя результат его преступных деяний в какой-либо части может оказаться случайным. Например, А. собирается убить В. и, находясь на темной улице, стреляет в человека, который, как А. полагает, и есть В. В результате же этих действий убит не В., а С. И хотя данный итог в определенном смысле случаен, тем не менее А. считается убийцей, поскольку он планировал и совершил деяние, содержащее все объективные признаки тяжкого убийства (т. е. элемент «актус реус» тяжкого убийства).
Наряду с указанным примером ошибки в объекте (error in objecto), английские юристы выделяют случаи «отклонения действия» (aberratio ictus). Если в первом случае, т. е. при ошибке в объекте, еще можно допустить, что преступник действовал умышленно, так как хотя и принимал этот объект за другой, но тем не менее имел намерение причинить вред именно тому объекту, который находился перед ним и на который были направлены его
99
действия, то во втором случае, т. е. при «отклонении действия», возникший результат не может быть отнесен к умыслу преступника, который его в ни малейшей степени не предвидел-. Здесь как раз и применяется доктрина «переЕесенного» умысла. Так, если А., намереваясь убить В., стреляет, но промахивается и убивает С., стоящего рядом с В., то и в этой ситуации в силу того, что А. выполнил «актус реус» убийства и имел умысел, направленный на совершение убийства, он и должен быть признан виновным в этом преступлении. Как пишут Дж. Смит и Б. Хоган, данное юридическое решение соответствует предписаниям английского права, поскольку «актус реус» убийства — это лишение жизни любого человеческого существа22. В свою очередь, Г. Уильяме считает, что «применение конструкции «перенесенного» умысла есть достаточно спорное исключение из общих правил, регулирующих вопросы уголовной ответственности, поскольку в случае «отклонения действия» необходимо устанавливать наличие вины, хотя бы в форме небрежности»23.
Что же касается дополнительных участников преступления, то и они в случае ошибки исполнителя в объекте покушения или при <чотклонении действия» признаются виновными в преступлении. Как отмечает Г. Уильяме, «нет необходимости освобождать от ответственности кого-либо, сделавшего все, чтобы другое лицо стало преступником, даже если в силу случая исполнитель ошибся в объекте-покушения либр имел место «отклонения действия». Все это, конечно... не должно распространяться на ситуации, когда исполнитель совершает абсолютно иное, чем планировалось, преступление (пусть даже и ошибаясь)»24.
Итак, если исполнитель даже случайно отклоняется от намеченной соучастниками линии поведения, то фактически совершенный им акт признается непосредственным «сопутствующим» элементом того преступления, которое ранее ими планировалось. Иными словами, дополнительный участник виновен в силу сознания им того, что исполнитель умышленно совершил преступное деяние, которое в совокупности с непредумышленными (с точки зрения «разумного человека») последствиями может быть признано основанием уголовной ответственности путем обращения к доктрине «перенесенного» умысла. В этих условиях, пишет П. Джиллс, соучастник бесспорно виновен, поскольку все условия, определяющие возложение уголовной ответственности, непосредственно охватываются его умыслом25.
Рассмотренные юридические конструкции английского уголовного права предоставляют буржуазной юстиции неограниченные возможности по вменению эксцесса исполнителя в вину соучастнику. Достигается это, во-первых, за счет допущения соучастия не только в умышленных преступлениях, но и в преступлениях, совершенных по неосторожности и, соответственно, при отсутствии сговора, и во-вторых, в силу того, что при оценке умысла английские юристы в основном акцентируют внимание на осознании лицом самого противоправного действия или бездействия и не учитывают
100
„
'ношение этого лица к последствиям своего деяния. Подобная трактовка умысла коренится в доктрине versari in re illicita. В результате, по английскому уголовному праву, не исключена возможность признания умышленным преступлением даже случайного причинения опасных последствий. Для вменения же соучастнику случайного результата преступных действий исполнителя достаточно того, чтобы с точки зрения «разумного» человека "(фактически «разумного» судьи) данный результат был для соучастников «предвиденным».
Все это создает условия для широкого судейского усмотрения, а значит, для установления оснований уголовной ответственности лица исходя из судебной оценки степени его социальной опасности.
iv. научная жизнь
Новая книга о причинах преступности
А. И. ДОЛГОВА, доктор юридических наук (Всесоюзный институт по изучению причин,и разработке мер предупреждения преступности)
Книга профессора Кузнецовой Н. Ф. «Проблемы криминологической детерминации» (М., 1984) — заметное явление в криминологии. Автор рассматривает широкий круг основополагающих вопросов науки о преступности: методологические проблемы исследования причин и условий преступности; понятие и классификацию причин преступности; анализирует причины и условия преступности на современном этапе социалистического строительства, критикует ряд буржуазных теорий причин преступности.
Книга свидетельствует о широком научном кругозоре автора, об умении тщательно анализировать затрагиваемые проблемы, умелом использовании самых разнообразных данных статистики, криминологических и социологических исследований, различных литературных источников, материалов прессы, законодательства, судебной практики.
В первой главе* Н. Ф. Кузнецова сформулировала исходные теоретические взгляды на причины преступности, и в дальнейшем она в целом последовательно их развивает. Так, по мнению автора, «только ближайшая (непосредственная) причина следствия заслуживает того, чтобы ее называть причиной» (с. 13). При этом отвергается понимание причины в качестве взаимодействия, не признается и концепция причинных цепей и причинных систем.
Как считает Н. Ф. Кузнецова, причина преступности и причина преступления — это субъективный фактор: дефекты психологии индивидуумов и социальных общностей. Что же касается факторов, породивших дефекты психологии, то они рассматриваются как причины «бывшей причины», а потому оцениваются в качестве условий преступности и преступления. Методологической основой такого рода рассуждения служит следующее положение: если А причина В, а В причина С, то далеко не всегда А оказывается причиной С. В то же время отмечается необходимость изучения наряду с причинной связью других видов связей: корреляционной, функциональной, связи состояний.
В строгом соответствии с исходной позицией далее анализируются причины преступности при социализме. Значительное внимание уделяется криминогенной мотивации, которую автор называет «первичным элементом системы причин преступности». Причем автор полимизирует с теми, кто допускает существование
102
социально-нейтральных или даже позитивных потребностей и мотивов преступления (с. 57), и высказывает оригинальную точку зрения относительно классификации криминальной мотивации ("с. 60).
Весьма содержательны разделы об антисоциальной экономической, политической, бытовой психологии. В частности, анализ соответствующей психологии дается в историческом аспекте, показывается влияние На нее идеологической войны (с. 79—80), прежних негативных традиций и привычек. Отмечается, что «антисоциальная экономическая психология по своей классовой сущности являет собой рудимент частнособственнической психологии в виде корыстных и паразитических традиций, привычек, интересов, а также привычек трудовой недисциплинированности. При социализме — это антиподы принципа распределения материальных благ по труду» (с. 62). Выделяются корысть-стяжательство, корысть-накопительство, корысть-паразитизм, так называемая «служебная корысть». Последняя рассматривается как результат влияния одновременно стремления к обогащению и «группового эгоизма», «ложно понятых интересов предприятия». Кроме того, говорится о «корысти-легкомыслии», связанной с ложно понятыми чувствами товарищества, романтизма и т. п., и о «корысти-нужде». В целом же автор полагает, что существуют «три вида криминогенно деформированной экономической и трудовой психологии -корысть, паразитизм и недисциплинированность. Они порождают более половины всех преступлений в стране» (с. 75).
В разделе об антисоциальной политической психологии отмечается, что в настоящее время в мотивации преступлений чаще присутствуют не столько политические мотивы, сколько аполитичность, идейная незрелость, тесно сочетаемая с корыстью, моральным разложением (с. 78). При этом показываются многообразные аспекты идеологической, психологической войны, раздуваемой империализмом. «Психологическая война нацелена также на деформацию социалистической бытовой, семейно-брачной и досуго-вой психологии в направлении ее омещанивания, на привитие ей моделей «западного» образа жизни. Не приходится удивляться, что представления преступников о «красивой» жизни, как показы-'вают криминологические исследования, строятся как раз по образцам мелкобуржуазной культуры быта, досуга и половых отношений; неограниченные материальные блага при минимуме вклада в общественное производство, бездумные развлечения с обильными винно-водочными, возлияниями, с женщинами «без условностей», азарт, культ грубой физической силы» (с. 83). Думается, автор не напрасно «политизирует» эти обстоятельства. Они вовсе не так. безобидны, как иногда трактуются в литературе: дескать, это чуть ли ни исключительно влияние недостатков организации досу-га и т. п. Вообще достоинством книги является то, что в ней даются четкие классовые оценки рассматриваемых явлений.
В то же время достаточно обоснованно разграничиваются экономическая, политическая и бытовая психологии. При рассмотре-
103
ний последней много внимания уделяется пьянству, его влиянию на преступность. Интересен вывод о существовании статистической закономерности между числом судимостей и уровнем алкоголизации (с. 90).
Как полагает автор, дефектность правовой психологии «более всего выражается в правовой безответственности, в потребитель.-ско-индивидуалистическом отношении к праву и правосудию. «Правовая некомпетентность выполняет каузальные функции - главным образом в малозначительных преступлениях, где подвижны грани между преступлениями и проступками, а также в преступлениях с высокой латентностью, когда знание об уголовно-правовом запрете блокируется частым неприменением закона, что создает впечатление о ненаказуемости таких деяний» (с. 101). Это авторская позиция, и она заслуживает внимания. Анализ результатов изучения правосознания показывает, что в этом рассуждении много правильного.
Достоинством работы является то, что показываются условия формирования соответствующей негативной психологии.
В четвертой главе анализируются условия социально-экономического, организационно-управленческого и культурно-воспитательного характера, политического характера («криминогенное воздействие империалистической системы на социализм»). - Криминогенные условия социально-экономического характера связываются с объективными социально-экономическими противоречиями социализма, их обострением и ошибками в их разрешении. При этом автор полагает, что они создают определенную возможность, главным образом, для экономической преступности (с. 103). В книге отмечается, что «организационно-управленческие и культурно-воспитательные условия, способствующие преступности, в основном представляют собой не столько субъективные отражения объективных противоречий социализма, сколько волюнтаристские нарушения принципов социализма, связанные с бюрократизмом, местничеством, протекционизмом, низким качеством управленческой культуры» (с. 117). Автор совершенно очевидно стремится избегать «фатализации» причин и условий преступности при социализме, доказывает, что преступность можно предупреждать, с ней можно эффективно бороться и на данном этапе развития нашего общества. Однако все-таки ряд суждений, в том числе >казанное выше, как представляется, выглядит несколько крайним, преувеличивающим роль субъективного фактора. Продолжая свою мысль, Н. Ф. Кузнецова пишет далее: «При этом организационно-управленческие меры, как правило, в отличие от экономических, не требуют особых материальных затрат» (с. 117). Это не совсем верно. Ряд организационно-управленческих мер, как и культурно-воспитательных, связан с существенными материальными затратами. Сюда относятся, например, меры, касающиеся должной дифференциации воспитательно-профилактической, исправительно-трудовой деятельности, повышения эффективности ра него предупреждения и создания разветвленной сети специальных
104
воспитательных, лечебно-воспитательных, лечебно-трудовых учреждений, специальной подготовки кадров, способных действенно решать задачи борьбы с преступностью в разнообразных и изменяющихся условиях.
t\ '
УІ
Вообще не со всеми положениями работы можно согласиться. Вызывает сожаление, что в книге не разбираются аргументы сторонников других точек зрения, которые автор не принимает и с которыми полемизирует. В частности, имеется в виду взгляд на причину как на конкретное взаимодействие. Этот взгляд в настоящее время в философской советской литературе является, пожа-уй, наиболее распространенным, с ним солидаризируется применительно к преступности и целый ряд криминологов, причем не только советских, но и из других социалистических стран.
Н. Ф. Кузнецова говорит о причинности в бинарном (двухзвен-ном) отношении между причиной и следствием (с. 13). Однако нельзя забывать, что В. И. Ленин, хотя и допускал возможность рассмотрения двух явлений изолированно, одного в качестве причины, другого — как следствия, но все-таки предостерегал от абсолютизации такой абстракции причинной связи, полагая, что это — ее «человеческое», обыденное понимание.
«![]() ...Человеческое
понятие причины и следствия всегда
несколько
упрощает объективную связь явлений
природы, лишь приблизительно
отражая ее, искусственно изолируя те
или иные стороны одного
единого мирового процесса»,—писал В.
И. Ленин1.
Поэтому
научное познание должно учитывать
взаимодействие различ-ых
явлений и процессов. Н. Ф. Кузнецова
права в том отноше-ии,
что в этом взаимодействии важно выделять
разные виды аимосвязей:
функциональные, состояний, в том числе
и генетическую.
Но возникает вопрос, почему генетическая
взаимосвязь при этом рассматривается
только как односторонняя бинарная
связь,
а не как взаимосвязь, взаимодействие?
Социально-психологический
компонент весьма существенно влияет
на порождение преступного
поведения, преступности, ибо они не
существуют вне поведения
людей, наделенных сознанием и волей
Однако объективный
фактор (социально-экономические,
организационно-управленческие
и иные условия) оказывает влияние на
преступность не только
опосредованно, через формирование
личности (причина «бывшей
причины» — по терминологии автора
книги), но и через непосредственную
ситуацию преступного поведения. Ситуация
существенно
корректирует поступки человека, человек
всегда поступает
с
учетом
ситуации, во всяком случае в норме.
Поэтому преступление порождает
определенное взаимодействие конкретной
личности и конкретной ситуации.
Соответственно и система предупреждения
преступности должна быть одновременно
нацелена на жительную
коррекцию личности и ситуации, а также
процессов
их взаимодействия. Причем имеется в
виду не только та ситуация,
которая формирует личность, но и та, в
которой личность иствует
или в которой ей предстоит действовать.
...Человеческое
понятие причины и следствия всегда
несколько
упрощает объективную связь явлений
природы, лишь приблизительно
отражая ее, искусственно изолируя те
или иные стороны одного
единого мирового процесса»,—писал В.
И. Ленин1.
Поэтому
научное познание должно учитывать
взаимодействие различ-ых
явлений и процессов. Н. Ф. Кузнецова
права в том отноше-ии,
что в этом взаимодействии важно выделять
разные виды аимосвязей:
функциональные, состояний, в том числе
и генетическую.
Но возникает вопрос, почему генетическая
взаимосвязь при этом рассматривается
только как односторонняя бинарная
связь,
а не как взаимосвязь, взаимодействие?
Социально-психологический
компонент весьма существенно влияет
на порождение преступного
поведения, преступности, ибо они не
существуют вне поведения
людей, наделенных сознанием и волей
Однако объективный
фактор (социально-экономические,
организационно-управленческие
и иные условия) оказывает влияние на
преступность не только
опосредованно, через формирование
личности (причина «бывшей
причины» — по терминологии автора
книги), но и через непосредственную
ситуацию преступного поведения. Ситуация
существенно
корректирует поступки человека, человек
всегда поступает
с
учетом
ситуации, во всяком случае в норме.
Поэтому преступление порождает
определенное взаимодействие конкретной
личности и конкретной ситуации.
Соответственно и система предупреждения
преступности должна быть одновременно
нацелена на жительную
коррекцию личности и ситуации, а также
процессов
их взаимодействия. Причем имеется в
виду не только та ситуация,
которая формирует личность, но и та, в
которой личность иствует
или в которой ей предстоит действовать.
ожно спорить с автором и относительно целесообразности
105
употребления ряда терминов. Например,—вынесенного в заглавие книги: «Криминологическая детерминация». Речь идет о детерминации преступности. Может быть, и надо было сказать именно так? А то вводится новое понятие, но оно по существу не анадизируется. Мало того, о «криминологической» и «криминогенной» детерминации говорится как о тождественных понятиях. Есть и другие моменты, вызывающие возражения, желание видеть дополнительную'аргументацию. Однако это не снижает интереса к книге. Она — плод длительных размышлений оригинально мыслящего, опытного и знающего ученого. Знакомство с ней весьма полезно и для научных работников, и для аспирантов, и для работников правоохранительных органов, и для других граждан, интересующихся проблемой преступности, стремящихся в ней разобраться, участвующих в борьбе с этим наиболее опасным социальным- злом.
Процессуальные проблемы судебных прений
Е. П. ЧЄРКАШИНА
Среди многочисленных и разнообразных средств борьбы с нарушениями социалистического правопорядка, как справедливо отмечают Н. С. Алексеев и 3. В. Макарова в своей новой книге «Ораторское искусство в суде» (изд-во ЛГУ, 1985, с. 173), немаловажное значение имеет судебная речь. Юрист должен произносить речи доходчиво, грамотно, со знанием дела, выразительно, т. е. уметь убеждать. Это является одним из его главных профессиональных качеств.
Судебная аудитория отдает предпочтение тем прокурорам и адвокатам, которые используют весь арсенал ораторских средств и владеют ораторскими приемами. На качество судебных речей влияют: иде'йность и высокий культурный уровень оратора, его общая эрудиция и профессиональное мастерство, умение публично выступать. Стилистическое совершенство и, образно говоря, изящество судебных речей складываются прежде всего из таких качеств, как точность, простота и выразительность. Именно на это и обращают главное внимание авторы рецензируемой книги, в которой они знакомят читателей с правилами публичного выступления, анализируют речь как средство аргументации, развертывания мысли,углубленного изучения психологии преступления. Вместе с тем в работе рассматриваются также другие проблемы, в том числе процессуальные.
Прежде всего о понятии и предмете судебной речи. Известно, что всякая форма публичного выступления отличается своими особенностями. Судебная речь определяется авторами в качестве вида публичной (ораторской) монологической речи, адресованной определенной аудитории и представляющей собой изложение выводов прокурора и адвоката по делу и их взаимные возражения.
106
Зместе с тем и об этом следовало бы сказать более определенно, в судебной речи главное не информация, не комментирование собьь тий. Это и не речь, которая сводится только к исследованию фактов. Специфика судебной речи в том, что в ее основе лежит функция воздействия, она относится к речам так называемого убеждающего типа. Имеет ли это какое-нибудь юридическое значение? Безусловно, ибо важнейшее предназначение судебных прений как самостоятельной, структурно выделенной части судебного разбирательства предполагает в качестве единственного и возможного, именно такой тип речи. Нельзя при этом забывать и о целевой направленности обвинительных и защитительных речей. В них с разных сторон оцениваются и освещаются все доказательства и обстоятельства по делу и тем самым они влияют на выводы суда, на его решение. Одновременно обвинители и защитники, выступая в суде, содействуют воспитанию граждан в духе коммунистической идеологии и морали, уважения к Конституции СССР и иным советским законам.
Небезынтересно отметить, что в отличие от традиционного взгляда на судебную речь как лишь на часть судебных прений авторы рассматривают ее значение и для рассмотрения дел судом кассационной инстанции. При этом отмечается следующее. Как необходимая часть судебных прений судебная речь не устанавливает новых фактов и доказательств; в ней дается только интерпретация фактов, их объяснение, освещение с точки зрения позиции судебного оратора. Участники судебных прений не вправе ссылаться на доказательства и обстоятельства, которые не были предметом обсуждения в суде (ст. 295 УПК РСФСР). Этим судебные прения отличаются от других видов судебной речи — выступлений в суде второй инстанции, где возможны новые данные в виде дополнительных материалов, представленных в кассационную инстанцию и анализируемых прокурором и адвокатом в речах (ст. 337 УПК).
Все это абсолютно правильно, хотя общественный резонанс получают прежде всего выступления прокурора и адвоката в судебных прениях. Именно здесь ставятся и рассматриваются волнующие всех вопросы серьезного социального значения: о чести и долге советского человека, о соотношении права и морал'л, о причинах преступности, о методах общественного воздействия на правонарушителя, приемах и средствах перевоспитания его в трудовых коллективах, о мудрости,, справедливости, гуманности социалистического правосудия и о многом другом.
Всякая судебная речь, независимо от характера рассматриваемого дела и его объема, может и должна нести воспитательную нагрузку. Насколько она решает воспитательную задачу —это зависит от многих факторов и обстоятельств, конкретных особенностей и ситуаций. Но чтобы глубоко воздействовать на сознание и волю слушателей, речь всегда должна отвечать таким требованиям социально-политического красноречия, Ікак актуальность, чуткость к реальной действительности, информативность, связь с практикой, логическая стройность и последовательность, дос-
107
тупность. Особое значение имеет аргументация. Одной формальной правильности высказываемых положений недостаточно, их истинность надо выявить, обосновать и доказать, чему и служит аргументация.
В судебной речи аргументация тем более необходима, что эта речь по самой своей природе полемична, она внутренне содержит много элементов дискуссконности. Вот почему, чем больше аргу-" ментирована судебная речь, тем, при прочих равных условиях, она убедительнее, тем выше ее качество, тем сильнее ее воздействие. Вот почему вопросам формы полемики в суде, доказыванию и опровержению в судебном споре, приемам полемики в рецензируемой работе по праву отведена специальная глава.
Исследуя предмет судебной речи по уголовным делам, авторы отмечают, что это те, по существу, вопросы, которые разрешает суд при постановлении приговора или определения. Для суда первой инстанции оня содержатся в ст. ст. 303, 314, 321 УПК РСФСР, для суда второй инстанции —в ст. ст. 339, 351 УПК. Кроме того, предмет судебной речи определяют и иные обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовным делам (ст. ст. 68, 392, 404 УПК). Высказанное на странице 32 предложение о дополнении УПК союзных республик нормой, устанавливающей предмет судебной речи, заслуживает, по нашему мнению, серьезного обсуждения. Главная трудность, которую мы здесь видим, это качественное разнообразие видов судебных речей. Можно ли одной нормой определить предмет речи прокурора и речи адвоката, защищающего подсудимого, или адвоката — представителя потерпевшего, речи подсудимого и речи потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, реплики, речи представителей общественности, речи прокурора и адвоката в суде кассационной инстанции и т. д.? Вопрос непростой и нуждается в теоретической проработке. Что же касается возражений авторов на возможные опасения, не приведет ли появление в уголовно-процессуальном законе нормы, устанавливающей предмет судебной речи, к одинаковым и стандартным речам, то они звучат весьма убедительно: на содержание и форму судебной речи огромное влияние оказывают характер и объем дела, личность оратора, судебная аудитория. В зависимости от характера и объема конкретного дела одним элементам предмета судебной речи будет уделено больше внимания, другим — меньше, о третьих достаточно только упомянуть.
Наряду с задачей идеологического, правового и нравственного воспитания граждан перед судебным оратором стоит и другая важнейшая цель — содействовать суду в установлении ист'ины по делу, способствовать правильному формированию внутреннего судейского убеждения. В судебных прениях стороны подводят итог проверки и исследования доказательств, с разных точек зрения (обвинения и защиты) в обстановке живой дискуссии излагают свои заключительные соображения и суждения, обосновывают свои требования и предложения, одновременно с этим возражая против
106
отдельных доводов или позиции в целом противной стороны. Участники судебных прений, справедливо подчеркивают авторы, оказывают тем самым существенную помощь суду в более полном и всестороннем уяснении фактических и юридических особенностей уголовного дела, в оценке с различных позиций обстоятельств преступления и личности подсудимого.
В работе мы находим много интересных и поучительных замечаний и рекомендаций по поводу того, что речь должна быть обращена не только к разуму, но и к чувству судей, что умело этим пользуясь, оратору следует привлекать их внимание к тем фактам и обстоятельствам дела, которые необходимы ему. Оратор завоевывает внимание аудитории не категоричностью своих суждений, а таким их построением, которое бы привело слушателей к его выводу. Нужно быть убедительным, но не категоричным. Преувеличенное навязывание своего мнения вызывает отрицательное отношение. Следует, верно подчеркивают авторы, проявлять сдержанность и доверие к пониманию судей (с. 47).
Вопрос о роли и значении судебных прений в советском уголовном процессе тесно связан с вопросом о предварительной и окончательной оценке судом доказательств, о характере «промежуточного» знания судей и условиях его трансформации в достоверное. В работе можно было бы больше сказать о том, что к моменту окончания судебного следствия у судей имеется определенное суждение о доказанности тех или иных фактов, хотя оно может быть охарактеризовано лишь как предварительное по отношению к тому убеждению, которое сложится в совещательной комнате при коллегиальном обсуждении вопросов, перечисленных в ст. 303 УПК РСФСР, т. е. при постановлении" приговора всем составом суда. Но это из области пожеланий, и только. Главное, что и делают авторы, это акцентировать внимание на том, что если окончательная оценка судей не совпадает с мнением, сложившимся несколько ранее, то совершенно очевидно, что это результат судебных прений. Во время судебных прений судьи сопоставляют свои оценки, соотносят свои выводы с обоснованностью и правомерностью того, что утверждают представители обвинения и защиты. Разумеется, утверждения должны носить характер доводов или аргументов в пользу отстаиваемого тезиса, а не голословного утверждения о ви-ности или невиновности подсудимого, о большей или меньшей степени его виновности и т. п. Только при этом условии судебная речь будет способствовать более глубокому проникновению в сущность информации, заключенной в доказательствах, ее анализу, рациональному познанию причинно-следственных и иных связей между фактами объективной действительности.
Уголовно-процессуальный закон, регламентируя содержание и порядок судебных прений, обеспечивает предствителям обвинения и защиты все необходимые условия для наиболее успешного осуществления ими своих процессуальных функций. Так, согласно закону, суд не может ограничивать продолжительность судебных прений определенным временем и предоставляет право участникам
109
судебных прений вносить свои предложения относительно последовательности их выступлений.
Однако, предостерегают авторы, ни в коем случае нельзя забывать, что суд не связан этими требованиями, для него не обязательны ни оценки фактических обстоятельств, рассматриваемого уголовного дела, ни предложения по квалификации преступления или о мере наказан'ия подсудимым. При обсуждении в совещательной комнате вопросов, подлежащих разрешению в приговоре, суд обязан проверить законность и обоснованность мнения и утверждения сторон, и постановить то решение, которое по внутреннему убеждению судей является единственно верным и справедливым.
Приговор не может быть признан законным и обоснованным, если он основан на убеждении не самих судей, а кого-либо из участников процесса- Вывод о наличии событ'ия преступления и виновности подсудимого должен быть категоричным, а это значит в первую очередь, что он содержит мнение самого суда, что судьи не отошли от собственной оценки доказательств. Так называемое интерсубъективное убеждение, т. е. убеждение на основе ничем не подтвержденных данных или выводов, не вытекающих из совокупности собранных по делу доказательств, зачастую формируется под влиян'ием личностной авторитетности прокурора или адвоката, чувства симпатии или антипатии, доверия или недоверия к н!им и другим участникам прений со стороны судей.
Этими выводами, сделанными авторами или вытекающими из интересной и полезной книги о судебной реч!и, нам хочется и закончить.
Расширенные заседания Координационного бюро по криминологии
В 1985 году состоялись два расширенных заседания Координационного бюро по криминологии. На одном из них, в Вильнюсе (май 1985 г.), обсуждались проблемы совершенствования методики криминологических исследований и внедрение в практику криминологических рекомендаций; на другом, — в Москве (октябрь 1985 г.), рассматривался вопрос о тенденциях развития теории криминологии.
В ходе дискуссий определился круг проблем, заслуживающих в настоящее время особого внимания, вносились предложения о направлениях и организации дальнейших исследований; сторонники различных позиций приводили свои аргументы и дополнительно обосновывали разделяемую ими точку зрения. С учетом изложенного целесообразно подробнее рассмотреть суть выступлений участников заседаний.
При обсуждении темы «Совершенствование методики криминологических исследований и внедрения криминологических рекомендаций в практику» с докладами выступили представители науки и практики.
Заместитель Генерального прокурора СССР О. В. Сорока охарактеризовал положение дел с преступностью, подчеркнув, что благоприятные ее тенденции отмечаются там, где борьба с ней ведется научно обоснованно и комплексно. Практика показывает, что нельзя рассчитывать на успех борьбы с преступностью, не анализируя ее причины и не воздействуя именно на эти причин Правоохранительные органы не должны превращаться только в регистраторої преступлений, и их деятельность не может сводиться лишь к выявлению І
по
наказанию виновных лиц. В связи с изложенным крайне важно получение от криминологов научных рекомендаций, учитывающих фактическое положение дел с преступностью и рассчитанных на применение их в реальных условиях практической деятельности. Генеральный прокурор СССР А. М. Рекунков, придавая большое значение укреплению научных основ деятельности органов прокуратуры, издал приказ о базовых прокуратурах, где создаются условия для проведения исследований, апробации научных рекомендаций, экспериментального их- внедрения в практику. Прокуратура Союза ССР с удовлетворением отмечает возросшую активность Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности в изучении актуальных проблем преступности и борьбы с ней, расширение участия научных сотрудников института в проведении прикладных исследований, в частности по ВАЗу в г. Тольятти, изучении совместно с Прокуратурой РСФСР причин территориальных различий преступности.
Тов. Сорока О. В. указал на необходимость взаимосвязанного совершенствования предупредительной и правоохранительной деятельности. В борьбе с тяжкой преступностью существенна деятельность по своевременному выявлению и пресечению иных преступлений и правонарушений. Предупреждение хищений, взяточничества, других уродливых явлений в сфере экономики предполагает повышение роли общего надзора органов прокуратуры.
Актуально совершенствование" организации борьбы с преступностью в целом, ее информационной основы, координации усилий разных органов. Насильственные преступления против личности, хулиганство во многом определяются пьянством, антиобщественным, паразитическим образом жизни. В сфере борьбы с пьянством задействованы свыше 20 органов и организаций, но не все из них полно и эффективно используют свои полномочия, не всегда эти органы и организации действуют согласованно.
Т![]() ребуется
дифференцированный подход к преступности.
В частности, необходима
более активная разработка предупредительных
мер применительно к
сельской местности. Там совершается
каждое третье преступление. Были выделены
и другие вопросы, требующие решения.
ребуется
дифференцированный подход к преступности.
В частности, необходима
более активная разработка предупредительных
мер применительно к
сельской местности. Там совершается
каждое третье преступление. Были выделены
и другие вопросы, требующие решения.
Прокурор Литовской ССР А. А. Новиков ознакомил участников заседания положением дел в Литовской ССР и сказал, что существующие недостатки .едрения научных рекомендаций в практику обусловлены, с одной стороны, неконкретностью части рекомендаций, с другой — недооценкой рядом практических работников значения учета результатов научных исследований.
В докладе председателя Координационного бюро $о криминологии А. И. Долговой отмечалось, что роль криминолога становится особенно значительной сейчас, когда партия считает одной из важнейших задач наведение порядка в стране. Жизнь настоятельно требует более углубленного анализа закономерностей преступности и ее детерминации на данном этапе развития общества с учетом характеристик реального социализма. Это предполагает повышение внимания к методологии и методике криминологических исследований; использование достижений других наук; более тесное сотрудничество с философами, экономистами, социологами и иными специалистами. Метод всегда связан с целью познания, его предметом, объектом, и поэтому необходима творческая разработка криминологами вопроса о методах познания преступности и ее причин. Практика исследований показывает, что следует избегать двух крайностей: 1) сведение тиетодов криминологических исследований только к конкретно-социологическим методам, а всей методики научного познания преступности — только к методике эмпирических исследований; 2) чрезвычайное расширение методики криминологических исследований за счет включения туда тех методов, которые применяются при изучении преступности, но, например, специалистами по юридической психологии (психологические мето-Аы) или математиками (математические методы распознавания образов н Т- п.). Актуальна разработка комплексных методик, обеспечивающих решение крупных криминологических задач: по выявлению причин изменений преступности, причин ее территориальных различий и других. Следует по возможности стремиться к «стандартизации» уже апробированной методики в Целях ее внедрения в разных регионах страны и тем самым обеспечения сопо-
І н
ставимости получаемой информации. Разумеется, это не исключает постоянного творческого поиска и совершенствования используемых методов.
В силу органической взаимосвязи теории и методики совершенствование последней способствует углублению теоретических представлений о преступности и ее причинах, что, в свою очередь,- проявляется и в научных рекомендациях, адресованных практике.
Криминологов не удовлетворяет положение дел с внедрением их предложений в практику, а, в свою очередь, практические работники ждут большего от ученых, Это объясняется рядом причин объективного и субъективного порядка. Во-первых, внедрение многих предложений криминологов требует дополнительной их «технологической» проработки другими специалистами: экономистами, социологами, специалистами по трудовому, уголовному праву и т. п. Сами криминологи могут с уверенностью говорить о том, какие лазейки и где именно надо закрыть, что надо устранить, каким должно быть направление усиления социального контроля и т. п. Однако, например, детализированную систему мер по совершенствованию распределения товаров, фондов, услуг, конечно, высокопрофессионально должны разрабатывать экономисты и социологи. Криминолог, разумеется, не должен стоять в стороне от этого, за ним надлежит сохранить право «авторского надзора» за выдержанностью общей предупредительной линии, он способен выступать и в роли консультанта. Во-вторых, внедрение криминологических рекомендаций в ряде случаев требует принятия правовых решений, и здесь важна помощь должностных лиц, органов, обладающих правом законодательной инициативы*. Причем целесообразно участие криминологов в разработке и обсуждениях законопроектов, обеспечение его права на публичное отстаивание той позиции, которая вытекает из результатов исследований. В-третьих, внедрение криминологических рекомендаций предполагает нередко объединение усилий разных органов (например, по анализу преступности, обобщению данных о ее причинах) и поэтому зависит от уровня координации практической деятельности по борьбе с преступностью, преодоления ведомственной разобщенности. В-четвертых, использование предложений криминологов, к сожалению, не имеет необходимой организационной основы, как это существует, например, применительно к криминалистике. В органах прокуратуры имеются кабинеты криминалистики, введена должность прокурора-криминалиста. Обязанность этого прокурора — следить за всем новым, что есть в криминалистике, учитывать это новое в деятельности кабинета, внедрять его в практику, в том числе путем личного участия в раскрытии сложных преступлений и т. п. В связи с изложенным было бы целесообразно создание криминологических кабинетов и введение должности прокурора-Криминолога. В таких кабинетах могли бы сосредоточиваться, с одной стороны, новая криминологическая литература, научно-методические рекомендации, с другой — материалы анализа преступности, все представления, частные определения об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, обобщения по этим вопросам. Представители криминологической науки высоко оценивают создание базовых прокуратур, считая, что это поможет повышению качества тех рекомендаций, которые затем будут адресоваться широкому кругу практических- работников. Ведь каждая научная идея должна проходить этап «привязки» к реальным условиям практической деятельности. В-пятых, внедрение криминологических разработок в практику предполагает высокую криминологическую культуру практических работников, развитость у них «криминологического мышления» — рассмотрения преступлений и преступности как социальных явлений, вплетенных в живую ткань общественной жизни; понимания того, что главное направление в борьбе с этими явлениями — устранение их причин и условий. Между тем, ученые-криминологи в этом отношении делают далеко не все: при преподавании криминологии не всегда обращается внимание на привитие студентам навыков самостоятельного анализа преступности, выявления ее причин, разработки конкретных планов профилактики. Не во всех регионах І подавание ведется высококвалифицированными криминологами. Требует дальнейшее совершенствование преподавания криминологии в учебных заве дениях системы повышения квалификации, создание серии пособий по крш
112
![]() югии,
доступных практическим работникам
и позволяющих им самим по-;ышать
свою
криминологическую
культуру.
югии,
доступных практическим работникам
и позволяющих им самим по-;ышать
свою
криминологическую
культуру.
Затрагивалась и другая проблема: внедрения методологических и теоретических рекомендаций в практику прикладных криминологических исследований.
Директор Литовского научно-исследовательского института судебных экспертиз С. И. Стачекас рассказал о том, что в институте имеется отдел, который осуществляет криминологические исследования в республике. Это позволяет выявлять специфические закономерности преступности с учетом конкретных условий, избегать механического переноса данных, полученных в других регионах. При изучении преступности широко используется сравнительно-исторический метод, данные о преступности в Литве сравниваются применительно к буржуазному и советскому периодам. Результаты свидетельствуют о том, что до Советской власти положение с преступностью было значительно худшим. Однако было бы неправильно, во-первых, механически сравнивать эти данные, и, во-вторых, рассчитывать на какое-то автоматическое снижение преступности в условиях социалистического строительства. Успех в борьбе с данным явлением наступает в результате решительной, комплексной борьбы объединенными усилиями разных государственных органов и общественных организаций. Литовские криминологи стремятся обеспечивать конкретный характер рекомендаций, адресуемых практике, сами принимают участие во внедрении этих рекомендаций. Многое дает постоянная, живая связь с практическими работниками.
Выступавшие в прениях особое внимание уделили вопросам о новых методах исследования преступности и ее причин; криминологической подготовке будущих юристов; развитию криминологического мышления у практических работников; совершенствованию организационных форм взаимосвязи научных и практических работников.
Отмечалась значимость проблемы методов криминологических исследований.
А. Н. Ларьков говорил о необходимости творческого восприятия криминологами методов других наук, отметив, что, например, при анализе причин хищений на ВАЗе потребовалось проникновение в суть производственного процесса. Разумеется, существуют пределы криминологического изучения, но они должны быть такими, чтобы гарантировать должный предупредительнный эффект.
С. Б. Алимов рассказал о методе конфликтно-криминогенных групп и его применении при изучении насильственной преступности.
А![]() .
Э. Жалинский высказался за усиление
внимания к разработке методов ,енки
реального состояния преступности.
.
Э. Жалинский высказался за усиление
внимания к разработке методов ,енки
реального состояния преступности.
Ю. Д. Блувштейн обратил внимание на обеспечение соответствия методов дачам и гипотезам исследования, характеру эмпирического материала, отме-Іл необходимость соблюдения принципа экономичности (не надо пользоваться сложными методами там, где можно решить задачу с помощью более простых), остановился на проблемах сотрудничества с математиками и представителями других наук.
К. Ф. Скворцов подчеркнул необходимость совершенствования методиче-
кого инструментария криминологических исследований с учетом того, что
кеты оказывают определенное влияние на сознание людей. Поэтому важна
точность формулировок, составление анкет о учетом характеристик тех, кто их
будет заполнять.
.. Мемберг высказался за создание банка типовых методик по разным направлениям криминологических исследований и с учетом специфики разных Регионов страны.
Ряд участников заседания говорили о недостатках преподавания криминологии в юридических высших учебных заведениях, и о том, что эти недостатки предопределяют далеко не полное внедрение научных рекомендаций в практику.
П. И. Гришаев сказал, что в МГУ существенно увеличено количество часов преподавания криминологии, но этого нет в других юридических вузах, Сокращается объем учебников по криминологии, мало дополнительной лите-Ратуры, в частности, дающей представление о современной преступности.
• г-, •-
8 Заказ 7352
113
В. Н Сомин поддержал мнение о несовершенстве учебника по криминологии, сказал о необходимости уделения большего внимания в учебниках и при преподавании криминологии методическому аспекту. Предложил переиздать старые, но не потерявшие своей актуальности работы по криминологии. Это окажет существенную помощь преподавателям, аспирантам, молодым научным сотрудникам.
Ю. А. Воронин отметил, что в Свердловском юридическом институте ежегодно обобщаются отзывы практических органов о работе выпускников института. Наиболее распространенный недостаток молодых специалистов — неумение обобщать ситуацию, осуществлять анализ преступности, ее причин и условий. Необходимо в стенах юридических вузов формировать практические навыки такого анализа и апробировать их в процессе прохождения практики. Целесообразно ежегодное проведение семинаров для преподавателей и научных работников в целях ознакомления их с новыми методиками и результатами криминологических исследований.
Обсуждение вопросов совершенствования преподавания криминологии переросло в более широкое обсуждение проблем формирования криминологического мышления у научных и практических работников (Г. В. Антонов-Романовский, А. Э. Жалинский, В. П. Власов, Г. С. Саркисов, С. В. Дьяков). Г. С. Саркисов отметил, что надо различать желание и умение внедрять научные рекомендации в практику. Изучение показало, что в настоящее время следователи больше обращают внимание на криминологические рекомендации, осознают необходимость их учета и систематически читают криминалистическую литературу. В то же время у них не сформировано понимание необходимости ознакомления с криминологической литературой и не имеется навыков работы с ней. Кроме того, следует учитывать, что криминологическая литература, как правило, издается на русском языке, а некоторые практические работники в Армении и других союзных республиках не владеют русским языком в такой степени, чтобы хорошо усваивать подчас сложные положения.
А. Э. Жалинский уделил внимание такому пути развития криминологического мышления, как решение криминологических задач на основе данных о конкретной преступности в условиях реальной действительности.
Состоялся серьезный разговор о качестве научных рекомендаций. С. ^С. Куклянскис обратил внимание на то, что не все рекомендации носят действительно научный характер, при их составлении не всегда учитываются компетенция и возможности конкретных субъектов борьбы с преступностью. Назрела необходимость в разработке методики составления криминологических рекомендаций и методики их внедрения в практику.
И. К. Туркевин, Л. К- Гаврильченко указали на разнообразие субъектов профилактики и на то, что еще мало имеется рекомендаций, адресованных Советам народных депутатов.
A. М. Дулов отметил перспективность более тесного сотрудничества кри минологов и криминалистов. По его мнению, это может касаться детализации рекомендаций по выявлению причин и условий конкретных преступлений.
К. К. Горяинов подчеркнул, что не всегда научные рекомендации таковы, чтобы правильно и своевременно ориентировать практических работников на изменения преступности. Необходимо обеспечивать такое положение, при котором внедрение рекомендаций позволяло бы действительно предупреждать нежелательные изменения в этом антиобщественном явлении.
Р. Гаяускайт-е предложила усилить внимание к криминологическим исследованиям проблем охраны природы и разработке соответствующих рекомендаций.
Обсуждался и вопрос о совершенствовании организационных форм взаимодействия научных и практических работников. Вызвало интерес сообщение прокурора Ленинского района Вильнюса А. Януйтиса о том, что в 1979 году прокуратурой района был заключен договор с Литовским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, где имеется отдел криминологических исследований. Институт оказывает методическую помощь прокуратуре, а последняя предоставляет институту необходимую информацию, помогает в апробации рекомендаций. Это дало положительные результаты.
B. Н. Сомин поддержал предложение о создании в органах прокуратуры
114
криминологических кабинетов, высказал мнение о правомерности термина «криминологическая политика» и о проведении такой единой политики в условиях регионов и страны.
А. Н. Ларьков, X. Мемберг, высказались за расширение круга криминологических разработок, выполняемых непосредственно по заданиям практических работников.
С. В. Дьяков обратил внимание на недостаточность нормативного обеспечения внедрения криминологических рекомендаций в практику, а также на то, что своевременное ознакомление преподавателей криминологии с новыми результатами научно-исследовательской деятельности — это мощное средство внедрёййя криминологических данных в практику. Преподаватели имеют возможность своевременно готовить будущих юристов к конкретным формам, методам борьбы с реальной преступностью.
H. H. Бодерскова ознакомила участников заседания с деятельностью издательства «Юридическая литература» по публикации работ криминологов. Она рассказала о требованиях, предъявляемых в настоящее время издательством к такого рода работам, ответила на вопросы участников дискуссии.
С заключительным словом выступил лауреат Государственной премии, председатель секции по проблемам социалистической законности и организации борьбы с преступностью профессор И. И. Карпец. Он отметил, что криминология не должна отрываться от нужд практики. В конечном счете даже теоретические разработки выходят на конкретные вопросы организации предупреждения преступности в современных условиях. Криминологическая теория должна быть «практичной», а практика — соответствовать современному уровню науки. Внедрение криминологических рекомендаций во многом зависит от того, как они формулируются, учитывают ли особенности адресата, а также от стиля криминологических публикаций. Порой книги пишутся настолько сложно, что бывают не понятны даже специалистам. Или в них обсуждаются в общем-то известные вопросы, дискуссии ведутся в таком стиле, что затрудняют понимание в общем-то ясных положений. Криминологи могут сказать новое слово путем углубления конкретных исследований преступности и ее причин, а также путем хорошего теоретического обобщения получаемых данных. В этой связи остро стоит вопрос о методиках исследований. Необходимо приступить к созданию банков уже разработанных методик, постоянно совершенствовать их методы.
Криминологам необходимо более широкое сотрудничество друг с другом, а также с другими специалистами. Большую помощь во внедрении научных рекомендаций в практику, в предварительной их проработке способны оказать базовые прокуратуры. Использовать базовые прокуратуры могут и представители вузовской науки, поддерживая с ними контакты через Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.
Внедрение научных рекомендаций в практику — процесс обоюдный. Он зависит и от качества научных рекомендаций, умения их подать, и от готовности, умения их воспринять. Поэтому криминологи должны откликаться на актуальные проблемы, избегать дублирования работ, мелкотемья. С другой стороны, правильно говорилось о формировании у практических работников криминологического мышления. Научным сотрудникам, преподавателям нужно быть настойчивыми во внедрении, не ограничиваться написанием предложений. Следует более активно влиять и на законодательство, касающееся борьбы с преступностью.
По результатам обсуждения принято развернутое решение.
В октябре 1985 года при обсуждении вопроса «О тенденциях развития теории криминологии» обнаружилась особая дискуссионность следующих проблем: пределы криминологического изучения; методология и методика криминологии; преступность как система; концепция детерминацииипричинности преступности; личность преступника.
Вопрос о пределах криминологического изучения рассматривался в двух аспектах. Первый касается того, в какой мере предметом криминологического изучения должны быть различные социальные отклонения.
8* 115
И. И. Карпец высказался за то, что они являются предметом вниманий криминологов в той мере, в какой связаны с преступностью Иначе нельзя будет успешно осуществлять раннюю профилактику, в частности преступности несовершеннолетних.
Это мнение поддержал В. М. Кормщиков и остановился на криминологических проблемах неблагополучной семьи.
По мнению А. М. Яковлева, криминология должна обратиться к экономической науке, равно как и к другим наукам, углублять изучение причин преступности. Однако «нырнув туда, надо вовремя вынырнуть», —"заметил он.
Последнее обстоятельство связано со вторым аспектом проблемы: в каких пределах осуществляются криминологические исследования: полного или ограниченного детерминизма.
A. И. Долгова подчеркнула, что конкретное криминологическое изучение осуществляется в рамках ограниченного детерминизма: преступность порож дается системой причинных цепей и дальние звенья этих цепей находятся в глубинных сферах экономики, социальной жизни, духовной и т. п. Их анализ требует специальных высокопрофессиональных экономических, социологичес ких и иных знаний. Поэтому задачей криминологов является своевременная и грамотная передача эстафеты соответствующим специалистам. При этом она подчеркнула, что криминолог обязан затем применительно к преступности и ее причинам оценить полученные выводы. На этом этапе ему тоже бывает полезно сотрудничество с экономистами и иными учеными. Отсюда необходи мость расширения комплексных и междисциплинарных исследований.
С. В. Дьяков отметил, что изучение причинности в криминологии должно быть приближено к преступности. Б. С. Волков не согласился С этим и подчеркнул, что криминологические исследования необходимо проводить в рамках полного детерминизма. Иначе нельзя кардинально решать проблему предупреждения преступности.
Многие выступающие отмечали недостаточную разработку методологии и мелодики криминологических исследований. По мнению В. В. Лунеева и А Э. Жалинского, в «Курсе советской криминологии» методам уделено недостаточное внимание.
B. В. Лунеев считает, ч го методы нельзя отрывать от предмета крими нологии.
И. И. Карпец, подчеркнув значение научно-обоснованной системы методов, высказался против механического заимствования ряда методов, приемов из других наук, в частности математики. Отметил излишнюю перегруженность ряда криминологических публикаций формулами, применение которых не позволяет научным и практическим работникам получать новое знание о преступности и ее причинах.
C. Е. Вицин оценил как недопустимое устранение из учебных планов юридических вузов курса уголовной статистики, пренебрежительное отношение к необходимости овладения будущими юристами математическими методами.
Л. К/ Савюк также высказал мнение о неоправданном умалении в юридических вузах роли статистики, и в частности уголовной.
Участники заседания говорили о значимости всестороннего изучения преступности. И. И. Карпец подчеркнул, что криминологи должны своевременно вооружать практических работников сведениями о современной преступности и происходящих в ней процессах. Она — сложное явление, и это требует учета при анализе изменений преступности, ее территориальных различий. В то же; время, как сказал И. И. Карпец, упоминание о том, что преступность является, «системой», не помогает ее уяснению, а, наоборот, вносит путаницу в представление о ней.
С. Е. Вицин присоединился к тезису И. И. Карпеца о сложном характере преступности и необходимости ее изучения в разных аспектах. Одновременно он отметил, что до сих пор основное внимание уделяется социально-экономическим, социально-психологическим и даже педагогическим ее аспектам, но далеко не всегда в достаточной мере оценивается необходимость рассмотрения преступности с позиции науки управления и ее методологической основы — системного подхода. В то же время только на этой основе мож-
116
ВО предметно выявлять цели в сфере борьбы с преступностью, ф'-ч'кции системы уголовной юстиции и ее составных частей, показатели, адекватно отражающие преступность, ее изменения и т. п.
Выступающие также подчеркивали необходимость более углубленного изучения проблем преступности в сфере экономики (И. И. Карпец, А. М. Яковлев, А. И. Долгова, Э. С. Тенчов).
Л. И. Романова рассказала о специфических проблемах преступности в псртовом городе и предложила выделять такого рода города в криминологических исследованиях.
Г. М. Мииьковский в качестве неотложной задачи назвал разработку сис-т,емы практических приемов анализа конкретной преступности и надежных гірогнозов ее изменений;
В ходе дискуссии затрагивался вопрос о латентной преступности. По мнению В. В. Орехова, криминологу достаточно знания зафиксированной уголовной статистикой преступности, ибо она является представительной выборкой всей фактической преступности.
А. И. -Долгова не согласилась с этим суждением и сказала, что оно верно не для всех видов преступности. Кроме того, анализ латентной преступности и причин латентности диалектически связан с анализом причин тяжкой преступности, являющейся нередко итогом развития иных видов в условиях просчета в борьбе с ними.
Много внимания было уделено проблемам детерминации преступности, концепции причин. Во-первых, большинство выступающих полагало, что в настоящее время гораздо лучше объясняются причины сохранения преступности в социалистическом обществе, чем раскрываются конкретные пути детерминации современной преступности во всем ее многообразии и в реальных условиях места, времени. Отмечалась сложность перехода от поздания причин и условий совершения отдельных преступлений к причинам и условиям пре ступности (И. И. Карпец, В. В. Лунеев, Г. М. Миньковский, А. И. Долгова С. В. Дьяков), Во-вторых, дискуссия велась по поводу понимания детерминз-ции и причинности в криминологии.
Н. Ф. Кузнецова дополнительно обосновала подход, изложенный в ее работе «Проблемы криминологической детерминации преступности».
А. Б. Сахаров и В. В. Орехов оценили как необоснованную психологизацию причин преступности, понимание в качестве ближайшей» (непосредственной) причины субъективного фактора дефектов психологии индивидуумов, социальных общностей.
По мнению В. ,В. Орехова, это было бы в какой-то степени оправдано, если бы речь шла об индивидуальном преступном поведении.
С. В. Дьяков не согласился с «бинарным» подходом к пониманию причинности в криминологии и высказался за рассмотрение причинности с позиции взаимодействия.
По мнению В. М. Кормщикова, в более четком решении нуж. вопрос о соотношении детерминант и причин.
Г. М. Миньковский отметил, что Н. Ф. Кузнецовой дана целостная кон цепция причин преступности при социализме, ею обобщено все, сделанное ранее, и это весьма полезно для дальнейшего развития криминологии.
Проблема личности преступника в основном обсуждалась в связи с освещением в работе А. М. Яковлева «Теория криминологии и социальна практика» и «Курсе советской криминологии» (т. 1).
А. М Яковлев в своем выступлении подчеркнул, что, по его мнению, криминолог должен изучать личность только через ее поведение, что воспитываются не взгляды, а поведение; он не согласился с допустимостью признания общественной опасности личности вне совершаемого преступления.
А. Б. Сахаров и Г. М. Миньковский говорили о недопустимости рассмотрения личности вне единства ее сознания и деятельности. По мнению А. Б. Сахарова, отрицание общественной опаснссти личности до преступления и после его совершения логически приводит к отрицанию значимости ранней профилактики, административного надзора. Как отметил Г. М. Миньковский, Надо не отрицать общественную опасность личности, а обеспечивать режим
117
законности при проведении с такой личностью- воспитательно-профилактической работы; что же касается тезиса об изучении и формировании не взглядов, а поведения, то это может означать и призыв к конформизму. Опасно следование ситуации без системы выработанных позитивных взглядов. По мнению Г. М. Миньковского, как только мы уходим от личности, снимается вопрос и о формировании устойчивой антикриминогенной личности.
Это мнение поддержала А. И. Долгова, отметив, что личность в работе А. М. Яковлева в основном рассмотрена как объект социальных влияний, а в работе Н. Ф. Кузнецовой — преимущественно как субъект активной, целенаправленной деятельности. Между тем следует к криминологическому изучению личности подходить диалектически: одновременно как к объекту и субъекту общественных связей и отношений, рассматривать личность в ее взаимодействии с социальной средой.
В. В. Лунеев высказал ряд критических замечаний в адрес «Курса советской криминологии» (т. 1), где, по его мнению, мало внимания уделено потребностям и мотивации. Как считает В. В. Лунеев, мотив не может формироваться после действия, даже так называемый «защитный». В этом случае следует говорить о «мотивировке» поведения.
Проблема предупреждения преступности, по единодушному мнению выступавших, должна решаться на основе познания закономерностей преступности, внедрения научных рекомендаций в практику и систематического слежения за результатами такого внедрения.
И. И. Карпец и Н. Ф Кузнецова отметили, что следует развивать прикладной аспект криминологии.
А. И. Долгова подчеркнула, что система специального пред>преждения преступности должна соответствовать системе преступности и ее причин. Рекомендации по предупреждению должны учитывать специфику отдельных видов и взаимосвязь разных видов преступности. Рассредоточение профилактики в рамках отдельных трудовых коллективов, общественных формирований следует сочетать с единой централизованной системой профилактики, ориентированной, в частности, на предупреждение преступлений, совершаемых организованными группами, с использованием специальных криминальных навыков, в том числе преступлений «гастролеров», лиц без определенного места жительства и места работы.
Выступавшие затрагивали и ряд других вопросов: о необходимости а:Іа-лиза в монографических работах аргументов сторонников тех позиций, которые авторами работ не разделяются; о недопустимости спора с воображаемыми оппонентами и необходимости точного воспроизведения упоминаемых точек зрения; о более критическом отношении к концепциям буржуазных авторов; об усилении сотрудничества криминологов, работающих в разных регионах страны; об увеличении тиражей криминологических публикаций. В частности, многие из выступавших отмечали сравнительно небольшой тираж «Курса советской криминологии» и констатировали, что эта книга сразу после выхода в свет стала библиографической редкостью. Между тем это — солидный труд, отражающий современный уровень советской криминологии. Ои необходим широкому кругу читателей — научным работникам, преподавателям криминологии, аспирантам, студентам, практическим работникам.
А. И. ДОЛГОВА, доктор юридических наук, председатель Координационного бюро по криминологии
ПРИМЕЧАНИЯ
