
- •Часть I.
- •Глава 1. Философия древнего китая
- •Глава 2. Философия древней индии
- •Глава 3. Античная философия
- •Глава 4. Философия средневековья
- •Глава 5. Философия эпохи возрождения
- •Глава 6. Философия нового времени. XVII век
- •Глава 7. Философия нового времени. XVIII век
- •Глава 8. Немецкая классическая филососфия
- •Глава 9. Философия XIX века (продолжение)
- •Глава 10. Философия XX века
- •Часть II.
- •Глава 11. Начала философской мысли в киевской и московской руси
- •Глава 12. XVIII век. Становление философии как самостоятельной системы знания
- •Глава 13. Философская мысль первой половины XIX века. Западники и славянофилы
- •Глава 14. Философия революционно-демократического движения
- •Глава 15. Философские взгляды народников
- •Глава 16. Идеалистическая философия второй половины XIX века
- •Глава 17. Философия космизма
- •Глава 18. Религиозно-идеалистическая философия XX века
- •Глава 19. Марксистская философия в россии
- •Состояние производительных сил;
- •Список литературы
- •Именной указатель
Глава 18. Религиозно-идеалистическая философия XX века
«Религиозный Ренессанс» начала века. Религиозно-идеалистическая философия в стране и в эмиграции. «Вехи». Сменовеховцы. Евразийство. «Новое религиозное сознание». «Метафизика человека» В. В. Розанова. «Неохристианство» А. С. Мережковского. Н. А. Бердяев о духе, природе, личности. Тема свободы и творчества. Общество, смысл истории, «русская идея». Продолжение «философии всеединства». С. Н. Булгаков об Абсолютном, Софии, религиозном чувстве и вере. «Философия хозяйства». П. А. Флоренский об антиномичности религии. Учение о Софии. С. Л. Франк о «металогической реальности», религиозном опыте. Интуитивизм Н. О. Лосского. Учение о субстанциальных деятелях. Теория восприятия. Истина. Иррационалистические мотивы Л. И. Шестова. Принцип плюрализма. Скептицизм. И. А. Ильин о материальном и духовном началах в человеке, обществе, истории. Концепция борьбы со злом. Право и правосознание. Государство. Движение к мистицизму. П. А. Успенский о «потустороннем мире», новой логике (« Tertium Organum»). Концепция мироздания Д. А. Андреева. Метаистория. «Роза Мира».
Официальная идеология начала XX в., как и в предшествующие десятилетия, базировалась на принципе «православие — самодержавие — народность». Большое внимание в умонастроениях начала века уделялось национализму и антисемитизму. Пропагандировалась идея союза государства и церкви, распространялась тенденция к компромиссу религии и философии, веры и разума.
Русская церковь враждебно относилась к так называемому богоискательству, к своеобразному наполнению религиозной формы сознания философскими элементами. Консервативно настроенные богословы выступали против «философизации» православия, против «спекулятивного богословия», в котором «живой Бог» религии исчезает в тумане метафизических абстракций, превращается в такие отвлеченные понятий, как «абсолют», «всеединство», «разум» и т. п.
В начале века возникло множество спиритуалистических и масонских кружков и обществ, распространился мистицизм, который проник даже в официальную церковь в виде так называемого нового богословствования.
После революции 1905 г. либеральная интеллигенция начинает менять свои ориентиры. Если во второй половине XIX в. интеллигенция в большей своей части интересовалась социальными вопросами, были популярны идеи социализма, революции, то в начале XX в. значительная часть интеллигенции перешла от идей социализма, материализма к идеализму, а от идеализма — к православию, эстетизму и декадентству. Пропагандировалась идея, что религиозность является «коренным свойством» русского народа, что философские учения А. Хомякова, И. Киреевского, Вл. Соловьева представляют высший тип национального философствования. Возникла мода на пренебрежительное отношение к морали, звучали мотивы разочарования в силе разума, науке.
Изменения в умонастроениях русской интеллигенции нашли свое отражение в деятельности новых религиозно-философских обществ (Петербург, Москва, Киев), в сборниках «Проблемы идеализма» (1903) и «Вехи» (1909). «Легальные марксисты» (Н. А. Бердяев, П. Б. Струве, С. Л. Франк) разошлись с Плехановым, а затем с Лениным по причине своего неприятия насильственных средств борьбы, несогласия с идеями «воинствующего» материализма и атеизма.
В сборнике «Вехи» осуждалась предыдущая деятельность русской интеллигенции, которая мешала нормальному развитию русского государства и общества. Бердяев говорил о том, что любовь русской интеллигенции к народу и пролетариату вылилась в нечто подобное идолопоклонству. В «Вехах» отмечался тот факт, что в интеллигентской среде утеряна любовь к истине. Русская интеллигенция при решении тех или иных вопросов исходит прежде всего из интересов социализма, борьбы с самодержавием и т. п., а не из стремления к истине. Кистяковский обвинил русскую интеллигенцию и народ в недооценке значения закона и порядка. Струве утверждал, что интеллигенция не имеет представления об управлении государством и погрязла в атеистическом максимализме. Франк говорил, что интеллигенция отрицает абсолютные ценности, подменяя религию идеальных ценностей религией земных нужд. Такая религия порождает лишь разрушение и ненависть, а не дух творчества.
Идеология «Вех» была воспринята как разрыв с традицией единства интересов интеллигенции и народа. В ответ на «Вехи» был опубликован ряд очерков и статей. В 1910 г. вышел в свет сборник «Интеллигенция в России» (авторы И. И. Петрункевич, П. Н. Милюков, Н. А. Градескул, М. М. Ковалевский, М. И. Туган-Барановский и др.). В этом сборнике утверждалось, что хотя революция и потерпела неудачу, но ее благотворное влияние на ограничение самодержавия скажется в дальнейшем. Говорилось о том, что интеллигенцию в целом не следует обвинять в антирелигиозности, антигосударственности и космополитизме.
В начале XX в. в России начинается так называемый религиозный ренессанс. Складывается религиозно-философское направление, поставившее своей главной задачей создание нового религиозного сознания.
Русская религиозная философия XX в. не представляла собой единой школы. В рамках религиозно-идеалистической философии существовали различные концепции. Среди них можно выделить так называемое новое религиозное сознание (В. В. Розанов, Д. С. Мережковский, Н. А. Бердяев), философию всеединства (С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, С. Д. Франк, Д. П. Карсавин), интуитивизм (Н. О. Лосский), иррационализм (Л. И. Шестов), философскую концепцию журнала «Логос» и движение к новой метафизике (С. И. Гессен, Ф. А. Степун, Б. В. Яковенко, И. А. Ильин) и др.
После Октябрьской революции 1917 г. религиозная философия в России оказалась под запретом. Философы и ученые были обязаны придерживаться философии марксизма-ленинизма. Некоторые религиозно мыслящие философы покинули Россию во время Гражданской войны или сразу после ее окончания (П. Б. Струве, С. Н. Трубецкой, Л. И. Шестов, Н. С. Арсеньев, В. В. Зеньковский, Н. Н. Алексеев, Д. С. Мережковский). В 1922 г. как идеологически чуждые элементы были высланы за границу Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Н. О. Лосский, С. Н. Булгаков, И. А. Ильин, Б. П. Вышеславцев, Л. П. Карсавин, Г. П. Федотов и др. Почти все виднейшие представители русской религиозной философии оказались за границей. Оставшиеся в России (П. А. Флоренский, В. А. Тернавцев, С. А. Аскольдов, А. Ф. Лосев) подвергались репрессиям.
После высылки из России Бердяев организовал «Религиозно-Философскую Академию» (сначала она находилась в Берлине, затем в 1924 г. переехала в Париж). С 1925 г. главные силы религиозной философии объединились вокруг издательства «Путь», выпускавшего одноименный журнал.
Часть эмигрантов через несколько лет изменила свое отношение к революции и советской власти. В 1921 г. в Праге вышел сборник «Смена вех» (авторы Ю. В. Ключников, Н. В. Устрялов, Ю. Н. Потехин, А. В. Бобрищев-Пушкин и др.). «Сменовеховцы» признали поражение контрреволюции и призвали интеллигенцию во имя «русского национального дела» сменить «вехи» и приступить к совместной работе с советской властью. Авторы сборника (бывшие кадеты) думали, что в связи с НЭПом революция в России закончилась, идет «мирная эволюция», «спуск на тормозах» в пользу буржуазии.
Сменовеховцы говорили, что в основе русского революционного процесса лежит подлинное, национальное развитие России, жизненно важное для ее будущего и даже для будущего всей человеческой культуры. Они считали, что большевики вынуждены делать то, что противоречит их теории, и фактически русский народ использует их как орудие для спасения русской территории и воссоздания русской государственности.
Однако позиция сменовеховцев не была доминирующей в кругах эмиграции. Заметным явлением стало так называемое евразийство.
Евразийство
В 1921 г. в Софии выходит сборник «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев». Авторы статей — Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, П. П. Сувчинский, Г. В. Флоровский. В 1922 г. в Берлине была опубликована книга «На путях. Утверждение евразийцев» (авторы П. Н. Савицкий, А. В. Карташев, П. П. Сувчинский, Н. С. Трубецкой, Г. В. Флоровский, П. А. Бицилли). Евразийцы издали три номера «Евразийского временника» (Берлин, 1923 и 1925; Париж, 1927); манифест «Евразийство. Опыт систематического изложения» (Париж, 1926); «Евразийство. Формулировка 1927 г.» (Париж, 1927) и др.
Евразийцы выражали настроения той части эмиграции, которая перестала жить фантазиями и начинала интересоваться происходящими в России изменениями. Русская революция стала пониматься как «знак» конца старой и рождения новой России. Основной задачей евразийцам представлялось сохранение русской культуры и могущественной государственности.
Наиболее известные представители евразийства — П. Н. Савицкий, П. П. Сувчинский, Н. С. Трубецкой. Савицкий говорит о том, что Россия испытала на себе влияния Юга, Востока и Запада: южное — с X по XIII в. — византийское; восточное — с XIII по XV в. — монгольское; начиная с XVIII в. — максимальное влияние европейской культуры. Западноевропейская культура претендует на то, чтобы быть высшим этапом всего процесса культурной эволюции мира. Евразийцы отмечали, что европеец обычно называет «диким» и «отсталым» то, что не похоже на манеру «европейца» видеть и действовать. Евразийцы не согласны с этой позицией.
Европейская культура - не общечеловеческая культура, а лишь культура определенного, романо-германского этноса. Европоцентристская оценка должна быть отвергнута. У каждого народа - своя культура, в ней он выражает свою индивидуальность. Общечеловеческая культура, одинаковая для всех народов, невозможна.
Культуру различных народов нужно сравнивать поэлементно; и тогда мы увидим, что культура, в одних элементах высокая, в других элементах может оказаться стоящей ниже других. Так, Московская Русь в XVI-XVII вв. в ряде отраслей отставала от Западной Европы, но, скажем, в отношении художественного строительства (например, «башенные» и «узорчатые» церкви) она стояла выше большинства западноевропейских стран.
Нужно различать экономический и религиозно-нравственный моменты прогресса. В Европе за последние два столетия за прогресс принимался первый момент. Финалом его стала русская революция, в которой сочетались экономизм и атеизм. Что же получилось? «Исторический материализм и дополняющий его атеизм снимают узду и лишают сдержки первоначально-животные (и в том числе первоначально-экономические, сводящиеся к грабительским) человеческие инстинкты. Основной определяющей силой социального бытия в условиях идейного господства материализма и атеизма оказывается ненависть, и приносит плоды, ее достойные: мучение всем... Общество, которое поддается исключительной заботе о земных благах, рано или поздно лишится и их, — таков страшный урок, просвечивающий из опыта русской революции» (Савицкий). Савицкий утверждает, что здоровое общество людей может быть основано только на религиозной основе, видит основную задачу в том, чтобы «мерзость и преступление искупить и преобразить созданием новой религиозной эпохи».
Культура
России не есть ни культура европейская,
ни одна из азиатских, ни сумма или
механическое сочетание элементов
той и других... Ее надо противопоставлять
культурам Европы и Азии как серединную
евразийскую культуру.
П.
Н. Савицкий
«Россия представляет собой особый мир. Судьбы этого мира в основном и важнейшем протекают отдельно от судьбы стран к западу от нее (Европа), а также к югу и востоку от нее (Азия). Особый мир этот должно называть Евразией. Народы и люди, проживающие в пределах этого мира, способны к достижению такой степени взаимного понимания и таких форм братского сожительства, которые трудно достижимы для них в отношении народов Европы и Азии».
В отличие от славянофилов, евразийцы считали, что русская нация — это не только славянский этнос; в ее образовании участвовали тюркские и угро-финские племена, жившие на одной территории, взаимодействующие со славянами. «Без татаризации» не было бы России.
Евразийцы утверждают, что до Петра I в России господствовал истинный национализм, Россия была «самой даровитой и плодотворной» продолжательницей Византии. После Петра Россия, вступив на путь романо-германской ориентации, оказалась в хвосте европейской культуры, на задворках цивилизации. Наша задача сегодня — «осознать себя европейцами, чтобы осознать себя русскими. Сбросив татарское иго, мы должны сбросить и европейское иго».
Евразийцы считают, что революция в России была неизбежна. Она была результатом усталости от «великодержавного бытия России», «обнищания» державного самосознания. Сувчинский писал: «Бездна между прошлым и настоящим взрылась, и это нужно признать, и нужно начать строить на другой стороне, на новом берегу с вдохновением и верой в иную культуру». Смерть старого общества не только была неизбежна, но и необходима для будущего России. Чтобы строить заново, надо было прежде «расчистить место». Сувчинский говорит, что большевистский период революции затянулся. Необходимо «религиозное возбуждение русского сознания», которое позволит создать новую Россию. Для нашей страны на первый план выходят проблемы «религиозно-государственного и культурно-державного самоопределения и творчества», всенародного религиозно-культурного самовосстановления.
Критикуя большевистскую идеологию и практику, евразийцы в то же время позитивно оценивали некоторые аспекты деятельности большевиков. Так, евразийцы считали, что революция привела к созданию наилучшей формы государства — государства федеративного. Именно эта форма адекватно выражает идею Евразии. Революция явилась итогом саморазложения императорской России как некоего симбиоза русско-европейской культуры и дала начало новой России, новой Евразии. Евразийцы приветствовали создание советской системы, которая выросла из народных потребностей и была принята народом.
Порицая большевизм за его богоборчество, Трубецкой говорил, что при этом, однако, большевизм через сатану приводит к вере в Бога. Евразийцы заявляли, что сам коммунизм — это вера, но вера ложная и вредная, «ибо осуществляет себя путем самого жестокого насильничества». Истинная идеология — русская православная вера, только она призывает к «абсолютно оправданной деятельности». «Православная идея для своего осуществления требует не ненависти, а любви, ...она отрицает убийства, насилия, грабежи и обманы, тогда как коммунизм перестанет существовать, если откажется от борьбы классов, насильственной экспроприации и т. д.» (Савицкий). На месте марксистской идеологии должно утвердиться философско-религиозное сознание. Большевики сделали свое дело, русская революция завершается. Над Россией встает «скифский рассвет», обещая ей великое будущее.
Некоторые сменовеховцы и евразийцы (в том числе Устрялов и Сувчинский) возвратились в СССР и погибли в лагерях.
«Новое религиозное сознание»
З
 аметную
роль в формировании «нового религиозного
сознания» сыграл Василий
Васильевич Розанов (1859-1919). Он
учился на историко-филологическом
факультете Московского университета,
затем в нескольких городах преподавал
историю и географию. Его религиозные
убеждения развивались постепенно.
Переехав в Петербург, Розанов стал
постоянным сотрудником консервативной
газеты «Новое время». Основные работы
Розанова — «О понимании. Опыт исследования
природы, границ и внутреннего строения
науки как цельного знания» (1886), «Статьи
о браке» (1898), «Религия и культура»
(1901), «Темный лик: метафизика христианства»
(1911), «Опавшие листья» (1916).
аметную
роль в формировании «нового религиозного
сознания» сыграл Василий
Васильевич Розанов (1859-1919). Он
учился на историко-филологическом
факультете Московского университета,
затем в нескольких городах преподавал
историю и географию. Его религиозные
убеждения развивались постепенно.
Переехав в Петербург, Розанов стал
постоянным сотрудником консервативной
газеты «Новое время». Основные работы
Розанова — «О понимании. Опыт исследования
природы, границ и внутреннего строения
науки как цельного знания» (1886), «Статьи
о браке» (1898), «Религия и культура»
(1901), «Темный лик: метафизика христианства»
(1911), «Опавшие листья» (1916).
Розанов говорит, что христианская вера и церковная практика догматичны, равнодушны к проблемам реальной жизни. Для церкви радости семейной жизни, брак, вопросы пола — «грязь и мерзость». Церковь сторонится и других важных жизненных проблем; она не любит самого человека. Но в то же время Розанов не мыслит себя вне религии, вне Бога. «Без молитв — безумие и ужас». Розанов призывает к обновлению религии.
Основной интерес Розанова — «метафизика человека». Человеческая душа, по Розанову, — независимая, нематериальная сущность, способная творить различные формы, т. е. идеи, и налагать их на материальную субстанцию. Душа бессмертна. После разрушения тела дух пребывает как «форма чистого существования, не ограниченная никакими пределами».
Розанов говорит о том, что человек представляет собой единство божественного и природного, духа и плоти. Важнейшее проявление человеческой сущности — половая любовь, она — высший синтез души и тела. Половая любовь не есть нечто постыдное, запретное, это мистическая основа жизни человека, семьи, общества. Именно на этой основе у человека рождается «море мысли и воображения». «Чудесное и святое воссоединение мужчины и женщины» — «узел природы», центр гармонии. Тема пола у Розанова неразрывно связана с темой брака и семьи. Он считал своей задачей «дать почувствовать семью как ступень поднятия к Богу».
В творчестве Розанова заметна склонность к патологии. В частности, во многих его работах виден нездоровый интерес к половым вопросам. И вся метафизика человека в его понимании сосредоточена в тайне пола. «Пол выходит из границ естества, он — внеестественен и сверхъестественен». «Пол в человеке подобен зачарованному лесу, то есть лесу, обставленному чарами; человек бежит от него в ужасе, зачарованный лес остается тайной».
Розанов говорит, что в русской натуре много темных, саморазрушительных сил. Среди них — «ложный пафос общественности», традиционная русская лень, нежелание делать регулярную положительную работу, нигилизм от нигилизма — стремление к революции.
Следует отметить и часто замалчиваемые антисемитские выпады Розанова (например, в работе «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» или в книге «Сахарна»). Приведем одну цитату: «Да, конечно, это естественно — не допускать евреям самый вход в наш суд, школы и врачебное мастерство... Пусть учатся в своих хедерах... только не с нашими детьми и вообще не с нами». Розанов говорил, что евреи употребляют человеческую кровь и благодаря этому тайно властвуют над миром.
В этом отношении Розанов не одинок, антисемитские настроения были свойственны и Достоевскому, и Флоренскому.
Розанов в значительной степени повлиял на упадочнические настроения русского декаданса, в частности на поэтов-символистов начала века, которые выражали философские идеи не только в своем художественном творчестве, но и отдельно обращались к рассмотрению философских вопросов.
Дмитрий Сергеевич Мережковский (1866-1941) был центральной фигурой «неохристианства», «богоискательства». Философские взгляды Мережковского нашли свое выражение в работах «Толстой и Достоевский» (1905), «Рождение богов» (1925), «Иисус непознанный» (1932), трилогии «Христос и Антихрист» (ее части — «Смерть богов (Юлиан Отступник)», «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)», «Антихрист (Петр и Алексей)»).
Для Мережковского характерно не стремление вернуться к старому, а поиск новых откровений. Старое христианство отжило свой век, на смену ему идет «Откровение третьего Завета», которое раскроет правду не только о духе, но и о плоти, не только о небе, но и о земле. Выступая против материализма, Мережковский говорит о множестве тайн мира. Он противопоставляет тайну духа тайне плоти, тайну неба — тайне земли, тайну личности — тайне общественности. Проникнуть в тайны духа, неба, личности, опираясь только на разум, невозможно. Путь к их пониманию — в синтезе рационального и иррационального, причем необходимым условием является опора на веру.
Мережковский говорит о том, что христианство было испорчено мещанством. Он призывает к борьбе с «мещанством», под которым понимает внимание человека к материальным делам и забвение им Бога. «Отрекаясь от Бога, от абсолютной божественной личности, человек неминуемо отрекается от своей собственной человеческой личности. Отказываясь ради чечевичной похлебки умеренной сытости от своего божественного голода и божественного первородства, человек неминуемо впадает в абсолютное мещанство». России и миру в целом угрожают «хамство» и официальная религия, воздающая «кесарю божье». Революция — наибольшее зло; социализм — это мещанство и «духовное вырождение».
О Боге думают, что он — власть и насилие, наряду с ним говорят о сатане, который тоже власть и насилие. Но Бога нужно понять как любовь, тогда Христос будет истинным Богом. Вера в истинного Бога обеспечит человеку свободу.
Испытав влияние Розанова, Мережковский много внимания уделял проблемам пола. Идеал личности он видел в сочетании мужских и женских добродетелей. «Половины должны быть единой плотью». Это не означает слияния в одной особи мужчины и женщины, а саморазвитие в личности противоположных качеств.
Мережковский говорил о «святой плоти». «Святая плоть» — в Царстве Божьем, в котором осуществится мистическое единство тела и духа. Цель исторического процесса — в осуществлении человечеством Царства Божия на земле.
Наиболее известным представителем «нового религиозного сознания» был Николай Александрович Бердяев (1874-1948); иногда его характеризуют как центральную фигуру всей русской религиозно-идеалистической философии XX в.
Н
 .
А. Бердяев родился в Киеве и учился в
Киевском кадетском корпусе. В 1894 г.
поступил на естественный факультет
Киевского университета, но через год
перевелся на юридический факультет. В
это время в Киеве наблюдался заметный
интерес к марксизму. Бердяев стал
активным членом Киевского центрального
кружка саморазвития учащихся, выступал
с докладами, печатал и распространял
нелегальную литературу, участвовал в
демонстрациях. В 1897 г. на месяц был
посажен в тюрьму, в 1898 г.
— снова
арестован и выпушен под залог, а затем
исключен из университета. Бердяев много
читал; постепенно в его мировоззрении
наметился переход от увлечения марксизмом
к богоискательству.
.
А. Бердяев родился в Киеве и учился в
Киевском кадетском корпусе. В 1894 г.
поступил на естественный факультет
Киевского университета, но через год
перевелся на юридический факультет. В
это время в Киеве наблюдался заметный
интерес к марксизму. Бердяев стал
активным членом Киевского центрального
кружка саморазвития учащихся, выступал
с докладами, печатал и распространял
нелегальную литературу, участвовал в
демонстрациях. В 1897 г. на месяц был
посажен в тюрьму, в 1898 г.
— снова
арестован и выпушен под залог, а затем
исключен из университета. Бердяев много
читал; постепенно в его мировоззрении
наметился переход от увлечения марксизмом
к богоискательству.
В 1901 г. Бердяев был выслан в Вологодскую губернию (одновременно с ним в ссылке там были А. А. Богданов, А. В. Луначарский, Б. В. Савинков, П. Е. Щёголев, А. М. Ремизов, Б. А. Кистяковский и другие). Среди ссыльных шли ожесточенные споры, в которых видную роль играл Бердяев. Своеобразным итогом этих философских диспутов стал сборник «Проблемы идеализма» (1902), в котором Бердяев опубликовал статью.
В 1902 г. Бердяеву было разрешено жить в Житомире, затем он переехал в Петербург. Здесь он сближается с Мережковским и Булгаковым, становится главным редактором журнала «Вопросы жизни», организует Петербургское религиозно-философское общество. В это время Бердяев окончательно становится на позицию религиозной философии, что находит отражение в книгах «Новое религиозное сознание и общественность» (1907), «Духовный кризис интеллигенции: Статьи по общественной и религиозной психологии» (1910). Бердяев участвует в сборнике «Вехи», создает издательство «Путь». Но постепенно он отходит от общественной и просветительской деятельности. С 1912 г. он интенсивно работает над книгой «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» (вышла в свет в 1916 г.).
Бердяев негативно воспринял Октябрьскую революцию 1917г. Он критически относился к социалистическим теориям. Марксистов он обвиняет в недопустимом сведении общественной жизни к грубой материальной основе.
В начале 1919 г. Бердяева избирают профессором Московского университета (хотя он даже не получил законченного университетского образования). В это же время он учреждает Вольную академию духовной культуры, которая существовала до 1922 г. Взгляды Бердяева были неприемлемы для властей. В 1921 и 1922 гг. его арестовывают, но через некоторое время выпускают. В сентябре 1922 г. вместе со 160 идеологическими противниками советской власти Бердяев был выслан из России. Два года Бердяев прожил в Берлине. Здесь он опубликовал книги «Философия неравенства», «Смысл истории», ряд статей; затем издал книгу «Новое средневековье. Размышления о судьбе России и Европы», которая принесла ему европейскую известность. В 1924 г. Бердяев переехал в Париж, где создал журнал «Путь». В течение двадцати лет он был редактором издательства «YMCA-PRESS», специализировавшегося на выпуске работ русских эмигрантов.
Бердяев выступает с публичными лекциями во многих городах Европы, участвует в ряде международных конгрессов. Его работы «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики» (1931); «Я и мир объектов» (1934), «Дух и реальность» (1937), «О рабстве и свободе человека» (1941) привлекают внимание широких философских и литературных кругов. Бердяев — плодовитый автор, в списке его работ — более 500 наименований.
Бердяев не создавал какую-то систематизированную философскую систему. Его интересует широкий круг проблем: проблемы свободы, творчества, смысла жизни человека, истории, он размышляет о русской истории, философии, судьбах русской интеллигенции, русской революции и т. д. Характерной чертой философствования у Бердяева является утверждение ряда положений, зачастую не обосновываемых; иногда он противоречит себе в различных работах, отказывается от ранее высказанных убеждений. Бердяев пишет сам о себе: «Мое мышление интуитивное и афористическое. В нем нет дискурсивного развития мысли. Я ничего не могу толком развить и доказать. И мне кажется это ненужным».
Философская позиция Бердяева — идеализм. «Своеобразие моего философского типа прежде всего в том, что я положил в основание философии не бытие, а свободу... В свободе скрыта тайна мира». Бердяев отрицает «онтологическую философию», которая исходным считает бытие. Для него исходная позиция — «идея примата свободы над бытием. Это означает также примат духа, который есть не бытие, а свобода. Бытие есть как бы застывшая свобода».
Бердяева обычно квалифицируют как христианского персоналиста или экзистенциалиста. Это имеет смысл постольку, поскольку центральная тема философии Бердяева — человек, его свобода, творчество. Бердяев согласен считать себя в определенном смысле экзистенциалистом. «Я называю экзистенциальным философом того, у кого мысль означает тождество личной судьбы и мировой судьбы». По Бердяеву, подлинный предмет философии — внутренний духовный мир человека. Философия начинается с размышления над «Я», «моей» судьбой. Приведем еще одно характерное высказывание: «Философия есть наука о духе. Однако наука о духе есть прежде всего наука о человеческом существовании, именно в человеческом существовании раскрывается смысл бытия».
В данном случае Бердяев говорит о философии как о науке. Однако в других случаях он четко разделяет философию и науку. «Философия ни в каком смысле не есть наука и ни в каком смысле не должна быть научной». Невольно возникает вопрос, какова же все-таки действительная позиция Бердяева? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к рассмотрению Бердяевым соотношения рационализма и иррационализма.
Бердяев говорит, что познание часто отождествляется с рационализацией, рациональным познанием. Но, с его точки зрения, существуют два вида познания — рациональное и иррациональное. Если рациональное, научное познание способно постигать отдельные стороны действительности, то бытие в целом способно постигать только такое познание, которое опирается на интуицию, отрешающееся от классического деление на субъект и объект. Это связано с тем, что сама действительность иррациональна. Тайна бытия рационально непостижима. В этой связи Бердяев говорит о кризисе философии; этот кризис обусловлен несоизмеримостью рационализма и иррационализма. «Современная философия признает иррациональность бытия и она же гносеологически утверждает рационализм. Рациональность познания и иррациональность действительности оказываются несоизмеримыми».
Наука рационализирует мир, но надо понимать, что «рациональный мир, с его законами, с его детерминизмом и каузальными связями, есть мир вторичный, а не первичный, он есть продукт рационализации». В философском мышлении «разум трансцендирует к иррациональному». Сам философ интуитивно познает иррациональное бытие, а затем вступает в дело рационализация. «Дискурсивное развитие мысли существует не для самого познающего, оно существует для других. Таким способом надеются приобщить других к своему познанию, убедить их».
Для Бердяева характерна установка на мистический внутренний опыт как источник философствования. В духе концепции «цельного знания» он пишет: «Религиозная философия предполагает соединение теоретического и практического разума, достижение целостности в познании. Это есть познание совокупностью духовных сил, а не одним разумом. Русская религиозная философия особенно настаивает на том, что философское познание есть познание целостным духом, в котором разум соединяется с волей и чувством и в котором нет рационалистической расчлененности». Таким образом, Бердяев достаточно определенно разграничивает философию и науку.
Дух и природа противоположны. Дух есть субъект, жизнь, свобода, огонь, творческая деятельность; природа — объект, вещь, необходимость, определенность, пассивная деятельность. В царстве природы царит множественное, делимое во времени и пространстве; в царстве духа — единство, основанное на любви.
Бог есть дух. В своей сущности Божество сверхрационально; попытки выразить его через понятия неизбежно приводят к антиномиям. Божество можно мыслить только символически. Символы — действительная реальность, понятая в связи с ее сверхъестественным значением. Поэтому рождение Богочеловека от Девы Марии, его жизнь в Палестине, его смерть на кресте — это и действительные факты, и в то же время — символы.
Бог сотворил мир из ничего. Но ничто — это не пустота, а нечто, предшествующее Богу и миру. В ничто, из которого Бог создал мир, содержится иррациональная свобода («мэон»). «Бог-создатель является всемогущим над бытием, над сотворенным миром, но у него нет власти над небытием, над несотворенной свободой». Бог создал мир из «мэона», «мэоническая свобода согласилась на акт творения, небытие свободно стало бытием».
Человек — венец творения в иерархии сущего. Человек, по Бердяеву, есть «дитя Божие и дитя мэона — несотворенной свободы». Человек создан по образу и подобию Бога. И человек должен утверждать в себе образ Божий, иначе он теряет всякий образ, начинает подчиняться низшим процессам, подчиняться той искусственной природе, которую сам создал, подчиняться машине, а это его обезличивает, обессиливает, уничтожает. Бердяев говорит, что Бог реально присутствует в жизни святых, мистиков, людей высокой духовной жизни и творческой деятельности. Тот, кто имел духовный опыт, не нуждается в рациональном доказательстве существования Бога.
Человек — микрокосм, в котором заложено все. «Человек-микрокосм есть столь же многосложное и многосоставное бытие, как и макрокосм, в нем есть все, от камня до божества». Человек двойственен, «человек есть точка пересечения двух миров, он отражает в себе мир высший и мир низший». Как образ и подобие Бога человек является личностью. Личность следует отличать от индивида. Личность есть категория духовно-религиозная, индивид же есть категория натуралистически-биологическая.
«Личность человеческая более таинственна, чем мир». Тайну личности невозможно понять до конца. «Человек есть загадка в мире, и величайшая, может быть, загадка. Человек есть загадка не как животное и не как существо, а как личность. Весь мир есть ничто по сравнению с человеческой личностью, с единственным лицом человека, с единственной его судьбой. Человек переживает агонию, и он хочет знать, откуда он пришел и куда он идет». Личность многосложна. Основа личности бессознательна. Становление личности есть восхождение от подсознательного через сознательное к сверхсознательному.
Личность переживает тоску, страх и скуку, ей свойственно стремление к счастью, одиночество и стремление к общению. Бердяев говорит, что нужно различать тоску, с одной стороны, и страх и скуку, с другой. «Тоска направлена к высшему миру и сопровождается чувством ничтожества, пустоты, тленности этого мира». А страх и скука направлены на «низший мир». Страх происходит от опасности, которую приносит этот низший мир, а «скука говорит о пустоте и пошлости этого низшего мира».
Человек стремится к счастью. Но что такое счастье? «Счастье не может быть объективировано, к нему неприложимы никакие измерения количества, и оно не может быть сравниваемо. Никто не знает, что делает другого человека счастливым или несчастным».
Бердяев подчеркивает двойственность человеческого бытия. «Тема одиночества — основная. Обратная сторона ее есть тема общения. Чуждость и общность — вот главное в человеческом существовании». Существуют два типа людей: находящиеся в гармоническом соотношении, общении со средой, и в дисгармоническом, чуждом отношении к среде.
Свобода
есть моя независимость и определяемость
моей личности изнутри, и свобода
есть моя творческая сила, не выбор между
поставленным передо мной добром и злом,
а мое создание добра и зла.
Н.
А. Бердяев
Существуют три вида свободы: первичная иррациональная свобода, т. е. произвольность; рациональная свобода, т. е. исполнение морального долга; и свобода, проникнутая любовью. Утверждая свободу человека, Бердяев отвергает всемогущество Бога: Бог не может заставить человека делать что-то, иначе он был бы ответствен за вселенское зло. Зло появляется тогда, когда иррациональная свобода приводит к отпадению от Бога из-за гордыни духа, желающего поставить себя на место Бога.
Бердяев говорит, что свобода двойственна: есть свобода «от» и свобода «для». Первая — дьявольская свобода отрицания, свобода в грехе; вторая — божественная свобода, свобода для любви, добра и истины.
«Все в человеческой жизни должно пройти через свободу, через испытание . свободы, через отвержение соблазнов свободы». «Свобода порождает страдание и трагизм жизни. Настоящая трагедия есть трагедия свободы, а не рока». Но все же, замечает Бердяев, происхождение зла остается величайшей тайной. Кроме того, свобода присуща избранным личностям, а народу свойственна не свобода, а вера во внешние авторитеты.
Тема свободы у Бердяева находит продолжение в теме творчества. Возможность творчества заключается в самой природе человека: созданный по «образу и подобию» Божества, он, подобно своему Создателю, является творцом, активным деятелем. «Творчество возможно лишь при допущении свободы, не детерминированной бытием, не выводимой из бытия. Свобода вкоренена не в бытии, а в «ничто», свобода безосновна, ничем не определяема, находится вне каузальных отношений, которым подчинено бытие».
«Творческий акт человека нуждается в материи». В духе субъективного идеализма Бердяев говорит, что «субъект сотворен Богом, но объект создан субъектом». Объективирование происходит не только в сфере познания; «сперва оно происходит в самой реальности». Человек «призван к творческой работе в мире, он продолжает творение мира». Человек творит из ничего, из свободы как «безосновной основы бытия». Творчество как переход из небытия в бытие «по существу есть выход, исход, победа».
Творчество направлено не только на объективацию. Оно — не только создание «культурных продуктов», а «потрясение и подъем всего человеческого существа, направленного к иной, высшей жизни, к новому бытию».
Бердяев утверждает антроподицею — оправдание человека в творчестве и через творчество. Творчество — искание смысла, который всегда находится за пределами мировой данности; творчество означает «возможность прорыва к смыслу через бессмыслицу». Творчество «продолжает дело творения», уподобляет человека Богу-творцу. Человек призван к творчеству. Созданный Богом мир не завершен, он продолжает твориться человеком. Но в творчестве заключается своеобразный трагизм: несоответствие творческого замысла и его воплощения, поскольку воплощение всегда ниже замысла.
Творчество рождается из свободы, оно не завершено, обращено к будущему. Противоборство творчества и зла составляет сущность истории. Мир развивается от свободы зла к свободе добра. Сегодня мы вступаем в новую эпоху — эпоху «третьего антропологического откровения». Упраздняются Ветхий и Новый заветы, наступает «творческая религиозная эпоха», когда происходит возрождение человека, и человек, наделенный свободой, способностью творчества, становится «экзистенциальным центром мира».
В творчестве люди достигнут всеобщего спасения. Но при этом Бердяев ставит определенные границы творчеству. «Наибольшую свободу для человека дает сочетание начала консервативного с началом творческим». Он говорит о том, что «не всякое творчество хорошо. Может быть злое творчество. Творить можно не только во имя Божие, но и во имя дьявола».
Личность живет в обществе. «Общество не есть человеческая выдумка. Оно так же изначально, так же имеет онтологические корни, как и человеческая личность. И человеческую личность нельзя вырвать из общества, как общество нельзя отделить от человеческих личностей. Личность и общество находятся в живом взаимодействии, принадлежат одному конкретному целому. Духовная жизнь личности отражается на жизни общества. И общество есть некий духовный организм, который питается жизнью личности и питает их».
Бердяев говорит, что существуют три исторические формы морали:
этика закона — исторически первая ступень морального сознания. Эта этика имеет запретительный характер;
этика искупления — ориентирует на терпимость, всепрощение, любовь и сострадание;
этика творчества — ориентирует человека на творчество. Здесь человек забывает о самом себе, он заинтересован в самом процессе и результате своего творчества. Человек-творец уподобляется Богу.
Бердяев утверждает, что моральное возвышение, слияние людей может быть только соборным. В индивидуальном своеобразии человека «преломляются все расовые, национальные, сословные, семейные наследия, предания, традиции, навыки». Бердяев говорит, что обычные рациональные определения нации недостаточны, ибо они не учитывают, что «в национальном бытии и национальном сознании есть религиозная основа». Именно религия объединяет людей в нацию. Аналогичным образом он считает, что «власть государственная имеет религиозную первооснову и религиозный исток... Онтология власти исходит от Бога».
Рассуждая о происхождении государства, Бердяев выступает против теории общественного договора. «Власть государственная родилась в насилиях, но насилия эти были благостны». Бердяев оправдывает неравенство в обществе; оно — условие развития культуры. «Неравенство есть могущественнейшее орудие развития производительных сил. Уравнение в бедности, в нищете сделало бы невозможным развитие производительных сил. Неравенство есть условие всякого творческого процесса, всякой сознательной инициативы, всякого подбора элементов, более годных для производства». Бердяев систематически выступает против либерализма, демократии, социализма.
Бердяев рассматривает проблему смысла истории. Он говорит, что во всемирной истории действуют три силы: Бог, судьба и человеческая свобода. Соотношение этих сил меняется по ходу истории. На небе есть пролог, в котором задана мировая история, лоставлена ее тема. В истории сочетаются два элемента — консервативный (связь с прошлым) и творческий (устремление в будущее). Каждое поколение имеет смысл своей жизни, цель в самом себе, в создаваемых им ценностях.
История — это путь к иному миру. Внутри истории невозможно достичь совершенного состояния. Утопия социального рая на Земле — от Антихриста. «Никогда не должно оставлять нас чувство зла и негодности этого мира и жизни в нем». «Жизнь в этом мире поражена глубоким трагизмом... Совершенство достижимо лишь в бесконечном».
Задача истории разрешима лишь за ее пределами. Конец истории неизбежен. Если бы история была бесконечным процессом, она не имела бы смысла. Сам творческий акт человека есть акт эсхатологический, обращенный к концу мира. Конец мира — это совершенное преображение мира, Царство Божие, «переход в иное измерение бытия». Бердяев верит во всеобщее спасение.
Но этот «переход» — «сокровенная тайна». «Конец истории и преодоление истории не будет в истории, конец времени и преодоление времени не будет во времени». И в этой связи Бердяев говорит, что основной проблемой экзистенциальной философии (да и философии вообще) является проблема времени. «Ничего нельзя любить, кроме вечности, и нельзя любить никакой любовью, кроме вечной любви. Если нет вечности, то ничего нет. Мгновение полноценно, лишь если оно приобщено к вечности, если оно есть выход из времени, если оно, по выражению Кирхегардта, атом вечности, а не времени».
«Лучших людей мучит жажда вечности», желание приобщиться к Царству Божию. Чтобы это стало возможным, нужно, чтобы наступила эпоха церковного, христианского творчества. «Церковь еще раз должна будет спасти духовную культуру, духовную свободу человечества. Это я и называю наступлением нового средневековья. Пробуждается воля к реальному преображению жизни, не только личной, но и общественной и мировой. И эта благая воля не может быть оставлена тем сознанием, что Царство Божье на земле невозможно. Царство Божье осуществляется в вечности и в каждом мгновении жизни».
Бердяев говорит о кризисе культуры. «Торжество буржуазного духа привело в XIX и XX вв. к ложной механической цивилизации, глубоко противоположной всякой подлинной культуре. Механическая, уравновешивающая, обезличивающая и обесценивающая цивилизация с ее дьявольской техникой, слишком уж похожей на черную магию, есть лжебытие, призрачное бытие, вывернутое бытие. Буржуазная цивилизация есть предел некосмичности мира. В ней гибнет внутренний человек, подчиняется внешним, автоматическим человеком». Техника властвует над человеком, делает его рабом, убивает его душу. «Не церковь, а биржа стала господствующей и регулирующей силой жизни». Люди в глубине души не верят никакой политике, никакой идеологии. Но фактически кризис культуры происходит и осознается лишь в «избранном меньшинстве». «Для огромного большинства никакого кризиса культуры не существует. Огромное большинство должно еще приобщиться к культуре и пройти пути ее». Бердяев говорит об иерархичности культуры: «Высшая культура нужна лишь немногим. Для средней массы человечества нужна лишь средняя культура».
В ходе истории идет борьба добра против иррациональной свободы. Если побеждает иррациональная свобода, то реальность начинает распадаться и превращаться в хаос. «Революциям предшествует процесс распада, падение веры, утрата людьми объединяющего духовного центра жизни. В результате этого народ теряет свою духовную свободу, становится добычей дьявола. Руководящую роль играют крайние элементы — якобинцы, большевики. Революции ничего не могут создавать, они только разрушают, они никогда не бывают творческими». Творчество начинается только в период реакции, когда наступает просветление после революции.
Одна из важных тем у Бердяева — «русская идея». Он говорит о том, что в типе русского человека сталкиваются два элемента: природное язычество, стихийность и православный аскетизм, устремленность к потустороннему миру. Необъятность русской земли, безграничность русской равнины создает у русского народа представление о своей мощи и непобедимости. «Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же безграничность, бесформенность, устремленность в бесконечность, широта». А с другой стороны, русскому народу присущ «из Византии полученный аскетизм, устремленность к потустороннему миру». Кроме того, говорит Бердяев, функциональные особенности каждого народа определяются также соотношением у него мужского и женского начал. Русской душе присуще слабое развитие мужественности и перевес женского начала, связанного с культом матери-земли и культом Богородицы.
Антиномия
русской души, в которой «деспотизм,
гипертрофия государства и анархизм,
вольность; жестокость, склонность
к "насилию и доброта, человечность,
мягкость; обрядоверие и искание
правды; индивидуализм, обостренное
сознание личности и безличный
коллективизм; национализм, самохвальство
и универсализм, все-человечность;
эсхатологически-мессианская
религиозность и внешнее благочестие;
искание Бога и воинствующее безбожие;
смирение и наглость; рабство и бунт».
Все это и определяет своеобразие
России.
Н.
Бердяев
Бердяев говорит, что у России особый исторический путь. В XX в. намечается сближение культур Востока и Запада; это сближение идет на базе духовного углубления, «с религиозным светом». В этом сближении России уготовано важное место. «Русский народ из всех народов мира наиболее всечеловеческий, вселенский по своему духу, это принадлежит строению его национального духа. И призванием русского народа должно быть дело мирового объединения, образование единого христианского духовного космоса».
Бердяев указывает на специфику русской интеллигенции, которая сильно отличается от западной. «Интеллигенция была у нас идеологической, а не профессиональной и экономической группировкой... Это была разночинная интеллигенция, объединенная исключительно идеями социального характера». Русская интеллигенция обладала исключительной «способностью к идейным убеждениям». Она имела свою особую мораль и отличалась крайней нетерпимостью. Русская радикальная интеллигенция всегда жаждала социальной справедливости и равенства. Отметим еще раз, что Бердяев осуждал само стремление к социальному равенству.
Русская интеллигенция подготовила нашу революцию. Эта революция специфична, такой революции больше нигде не будет. «Русская революция есть тяжелая расплата за грех и болезни прошлого, за накопившуюся ложь, за неисполнение своего долга русской властью и господствующими классами, за столетний путь русской интеллигенции, вдохновившейся отрицательными идеалами и обманчивыми лживыми призраками. Русская революция есть гибель многих, слишком многих русских иллюзий, иллюзий народнических, социалистических, анархических, толстовских, славянофильских, теократических, империалистических и др. ...Близоруко и несправедливо во всем винить большевиков. Вы, более умеренные русские социалисты и русские радикалы всех оттенков, русские просветители, все вы, происходящие от Белинского, от русских критиков, от русских народников, все вы должны и на себя возложить вину. Большевики лишь сделали последний вывод из вашего долгого пути, показали наглядно, к чему ведут все ваши идеи».
Наша революция, говорит Бердяев, неизбежно приведет к «роковым результатам». Маркс выводил необходимость нового общества из закономерного развития капитализма, создающего все предпосылки для этого общества. «Русские же коммунисты рассматривают грядущее коммунистическое общество не как продукт развития капитализма, а как результат конструктивизма, продукт сознательных организаторских усилий всемогущей советской власти. Такова метаморфоза марксистской идеи». Человеку угрожают новые формы рабства — фальшивое служение личности обществу, которого требует социализм. Социализм не дает человеку богатства и не устанавливает равенства на самом деле, а только приводит к новой вражде между людьми, новым неслыханным формам угнетения. В таком обществе мотивы силы и власти вытесняют старые мотивы правдолюбия и сострадательности.
В принципе Бердяев положительно относится к идее коммунизма. Тирания и жестокость советской власти не имеет обязательной связи с социально-экономической системой коммунизма. Можно представить коммунизм в экономической сфере в сочетании с человечностью и свободой. А последние дает христианство. Бердяев признает такой коммунизм, в котором на первом месте стоит решение духовной проблемы через соборное единство людей.
Продолжение «философии всеединства»
О
 дним
из главных представителей «философии
всеединства» в XX
в. был Сергей
Николаевич Булгаков
(1871-1944). Родился он в семье священника.
После получения высшего образования
преподавал политэкономию в Киевском
политехническом институте, а затем
— в Московском университете. В молодости
Булгаков (как Струве и Бердяев) стоял
на позициях, близких к марксизму, но в
начале XX
в. отошел от него. В 1904 г. вышла его книга
«От марксизма к идеализму». От марксизма
через идеализм Булгаков пришел к
православию. В 1918 г. Булгаков принял
священство.
дним
из главных представителей «философии
всеединства» в XX
в. был Сергей
Николаевич Булгаков
(1871-1944). Родился он в семье священника.
После получения высшего образования
преподавал политэкономию в Киевском
политехническом институте, а затем
— в Московском университете. В молодости
Булгаков (как Струве и Бердяев) стоял
на позициях, близких к марксизму, но в
начале XX
в. отошел от него. В 1904 г. вышла его книга
«От марксизма к идеализму». От марксизма
через идеализм Булгаков пришел к
православию. В 1918 г. Булгаков принял
священство.
В 1922 г. Булгаков был выслан из России. С 1925 г. он преподавал на кафедре догматического богословия в Парижском православном духовном институте. Главные работы Булгакова, кроме названной выше, — «Два града» (1911), «Философия хозяйства» (1912), «Свет невечерний» (1917), «Неопалимая купина» (1927), «Трагедия философии» (1927). Бердяев писал о нем: «Булгакова можно назвать кающимся интеллигентом, подобно тому, как когда-то были у нас кающиеся дворяне. Это — новое явление в русской жизни». Булгаков — представитель того типа религиозной мысли, которую Бердяев называет возрождением православия.
Отходя от марксизма, Булгаков обвиняет Маркса за «бесцеремонное отношение к человеческой индивидуальности». Марксистский воинствующий атеизм является одним из средств упразднения индивидуальности и превращения человечества «в муравейник или пчелиный улей». Если христианство пробуждает личность, то марксизм ее упраздняет. Далее Булгаков говорит, что Марксу свойственно мессианство, в котором «избранный народ, носитель мессианской идеи... заменился "пролетариатом", с особой пролетарской душой и особой революционной миссией».Булгаков (как и Струве и Бердяев) считает, что экономический материализм не имеет философского (гносеологического) обоснования. Чтобы увидеть это обоснование, нужно учитывать идеи Канта. «Разум сам является законодателем природы, сам устанавливает ее законы». Научное знание, дающее законы бытия, покоится на свойствах разума. Но сам разум должен обрести основу в чем-то ином, отличном от себя. Такой основой является религиозная вера.
Булгаков обвиняет русскую интеллигенцию в двух бедах. Мечта русского интеллигента — «быть спасителем человечества или, по крайней мере, русского народа. Для него необходим (конечно, в мечтаниях) не обеспеченный минимум, но героический максимум. Максимализм есть неотъемлемая черта интеллигентского эгоизма». Вторая беда русской интеллигенции в том, что вместо Бога она верит в науку. Но жизнь должна быть основана на религиозной вере. Булгаков выступал за то, чтобы церковь принимала творческое участие во всех областях жизни.
Есть три способа формирования религиозного сознания: отвлеченное мышление, мистическое самоуглубление и религиозное откровение. Но два первых получают надлежащее значение только в связи с третьим и становятся ложными, как «только утверждаются в своей обособленности».
Булгаков (как и Флоренский, Шестов и др.) был сторонником учения об антиномичном характере религиозного сознания. Он говорил о бесконечном расстоянии между человеком и Богом, миром и Богом. «Бог как Абсолютное совершенно свободен от мира» и в то же время он с ним необходимо связан. Вслед за Вл. Соловьевым Булгаков говорит, что Абсолютное должно быть всеединством: «Нет и не может быть ничего, лежащего вне Бога и своим бытием его ограничивающего». Все находится во всем, и все связано со всем.
Мир сотворен. Сотворение абсолютным относительного есть самораздвоение абсолютного. Булгаков говорит о софийности творения. София «есть та универсальная инстинктивно бессознательная или сверхсознательная душа мира... которая обнаруживается в вызывающей изумление целесообразности строения организмов, бессознательных функциях, инстинктах родового начала». «София правит историей». «История организуется из внеисторического и запредельного центра». София — это божественная «Идея», предмет любви Божией, любовь любви. «Как приемлющая свою сущность от Отца, она есть создание и дщерь Божия; как познающая Божественный Логос и Им познаваемая, она есть невеста Сына (Песнь Песней) и жена Агнца (Новый завет, Апокалипсис), как приемлющая излияние даров Св. Духа, она есть Церковь и вместе с тем становится Материю Сына, воплотившегося наитием Св. Духа от Марии, Сердца Церкви, и она же есть идеальная душа твари — красота. И все это вместе: Дочь и Невеста, Жена и Матерь, триединство Блага, Истины, Красоты, Св. Троицы в мире, есть божественная София». София — как солнце, которое светит и греет, оставаясь невидимым для человека.
Булгаков говорит о двух Софиях — божественной и земной, сотворенной. София в Боге является «образом Божиим в самом Боге, осуществленной Божественной идеей, идеей всех идей, осуществленной как красота». Существует и сотворенная София. Любое существо имеет свою идею, которая является его основанием, нормой, энтелехией. Бог отразил себя в тварном мире. «Каждое творение софийно, поскольку оно имеет положительное содержание или идею, которые являются его основанием и нормой». По отношению к миру София — единство идей всех тварей. Булгаков считает, что везде есть софийное, благое начало. Но это лишь одна сторона: с другой стороны, на всем есть печать падшести, небытия. Так, например, искусство способно показать софийность мира, но в нем есть и элемент ущербности.
У каждой твари есть две стороны — положительная, софийная, и отрицательная, низший «субстратум», материя. Идеи наделяются телесностью, причем существуют разные виды и степени телесности. В ходе творения сначала была сотворена земля. Все остальное — отделение света от тьмы, растения и животные сотворены «творческим словом Божиим, но уже не из ничто, а из земли, как постепенное раскрытие ее софийного содержания». При сотворении мира Бог не пользовался никаким материалом извне, а извлек все содержание мира из самого себя.
Булгаков говорит о жизни как о предмете философской рефлексии. Но что такое жизнь? Как бы мы ни старались определить это понятие, его содержание никогда не исчерпывается. Жизнь вневременна и внепространственна. Не жизнь существует в пространстве и времени, а пространство и время суть формы проявления жизни. Все существующее — лишь частичные проявления жизни. Жизнь — это свобода, царящая над необходимостью. Высшее проявление жизни — в человеке.
Природа — пассивное, женственное начало, человек — активное, мужественное. В этом смысле человек — центр мироздания. Будучи частью природы, человек носит в своем сознании образ идеального всеединства. В его сознании проявляется мировая душа, идеальный центр мира.
Взаимоотношение человека и природы Булгаков называет «хозяйством». «Хозяйство есть борьба человечества со стихийными силами природы в целях защиты и расширения жизни, покорения и очеловечения природы, превращения ее в потенциальный человеческий организм». Эта борьба — труд. Мир как хозяйство, по Булгакову, — это объект и продукт труда. Человек призван к трудовой деятельности. Именно в труде обнаруживается острота жизни. Только тот живет полной жизнью, кто способен к труду и действительно трудится. Булгаков говорит о единстве хозяйства, трудовой деятельности и знания. Само хозяйство — процесс и материальный и духовный.
Хозяйство
не существует без знания, знание
есть проективная, моделирующая сторона
в хозяйстве; вместе с тем и знание не
может обойтись без хозяйства,
существует только с ним и в нем, не в
смысле материальной денежной
зависимости, но слитности обеих
деятельностей.
С.
Н.
Булгаков
Человеческая духовность и свобода имеет свое начало в Боге. От Бога индивидуальное человеческое Я получает план своей жизни. «Промысел Божий, путем необходимости ведущий человека, есть... высшая закономерность истории». Но индивидуум, получая план жизни, свободен в его реализации и может его отвергать. Из свободы проистекают различные степени греховности и зла. Хотя Булгаков говорит о значении деятельности и «хозяйства», у него все же звучат мотивы смирения и покорного принятия мира таким, каков он есть, вплоть до смирения перед злом.
Булгаков утверждает, что не существует нерелигиозных людей; всем людям присуще религиозное чувство. «Религия есть активный выход за пределы своего Я, живое чувство связи этого конечного и ограниченного Я с бесконечным и высшим, расширение нашего чувства в бесконечность, в стремлении к недосягаемому совершенству. Только религия установляет поэтому связь между умом и сердцем человека, между его мнениями и поступками. Человек, который жил бы без всякой религии за личный страх и счет своего маленького Я, был бы отвратительным уродом». Именно религия утверждает высшие и последние ценности человека.
В человеческой жизни огромное значение имеет вера. «Только она делает несомненным то, что является сомнительным, как и всякий предмет человеческого знания, только она холодное теоретическое знание согревает жаром сердца и делает основой поведения, не только внешнего, но и внутреннего, не только поступков, но и чувств». «Никакое развитие знаний и блеск материальной культуры не может возместить упадка веры; можно допустить, что человечество лишится своей науки, своей цивилизации, как оно и жило без них в течение веков. Но полная потеря веры в добро означало бы нравственную смерть, от которой не спасли бы никакие силы науки, никакие ухищрения цивилизации».
Вера, по Булгакову, — «способ знания без доказательств». Вера шире, чем обычное дискурсивное мышление; знания, которые дает вера, богаче и глубже, чем те, которые дают наука и метафизика. Булгаков говорит, что именно в вере человеку дается истина, которая невыразима в терминах дискурсивного знания.
Булгаков признает прогресс общества, связывая его с человеком, его нравственностью, свободой, ценностью. «Основные посылки теории прогресса таковы: нравственная свобода человеческой личности (свобода воли) как условие автономной нравственной жизни; абсолютная ценность личности и идеальная природа человеческой души, способная к бесконечному развитию и усовершенствованию». Кроме того, в теории прогресса нужно учитывать, что есть «абсолютный разум», правящий миром и историей, устанавливающий объективный «нравственный миропорядок».
Несмотря на миропорядок, человек обладает свободой воли. Булгаков понимает свободу воли не как беспричинность, а как способность самопричинности, способность «действовать от себя... из себя начинать причинность, по-своему преломлять причинную цепь и тем нарушать принцип всеобщего механизма». Поскольку история обусловливается не только общими причинами, но и свободной деятельностью людей, можно сделать вывод о принципиальной невозможности исторических предсказаний. История неповторима. «Каждая человеческая личность... есть нечто абсолютно новое в истории».
В русле идей Вл. Соловьева о цельности и единстве, связи и гармонии бытия формировались взгляды Павла Александровича Флоренского (1882-1937). Флоренский родился в семье инженера-путейца, который строил железные дороги в Закавказье. Учился он в гимназии в Тбилиси, затем на физико-математическом факультете Московского университета. Молодой Флоренский близко общался с символистами, дружил с Андреем Белым.
П
 осле
учебы в университете Флоренский поступает
в Московскую духовную академию; по
окончании ее в 1908 г. назначен на кафедру
Академии. В 1911 г. принимает священство.
В 1914 г. вышла в свет книга Флоренского
«Столп и утверждение истины», которая
принесла автору известность.
осле
учебы в университете Флоренский поступает
в Московскую духовную академию; по
окончании ее в 1908 г. назначен на кафедру
Академии. В 1911 г. принимает священство.
В 1914 г. вышла в свет книга Флоренского
«Столп и утверждение истины», которая
принесла автору известность.
После Октябрьской революции Флоренский занимается изучением теории искусства, языка, пишет ряд работ по физике. Он работал в Главэнерго, преподавал во Вхутемасе. Хотя Флоренский не выступал открыто против правительственной идеологии, власти относились к нему настороженно. В 1928 г. он был сослан в Нижний Новгород; в том же году освобожден. В начале 1930-х гг. против Флоренского была развернута целая кампания в прессе: публиковались статьи погромного и доносительного характера. В 1933 г. Флоренский был арестован и сослан на Дальний Восток; затем отбывал заключение в Соловецком лагере, а 8 декабря 1937 г. был расстрелян.
Определяя свою философскую позицию, Флоренский останавливается на соотношении обыденного, научного и философского знания. Обыденное, житейское знание обширно, «владеет полнотою всесторонности», но в нем «нет порядка, нет формы». Это хаотичное знание, не опирающееся на определенный метод. Наука как бы «просеивает» житейское мировоззрение на основе определенного метода, определенного закона. Но поскольку наука не есть нечто единое, а целый комплекс наук, то каждая из них по-своему формирует знание, и области наук оказываются «отрезаны» друг от друга. Между науками нет связи. Эту связь устанавливает философия. «Философия есть стремление к «подлинно сущему», «диалектика есть непрерывный опыт над действительностью, чтобы углубиться в последовательные слои ее реальности».
Философия стремится к истине. Именно о понимании истины и размышляет Флоренский. Истина открывается на основе религиозного опыта, религиозного переживания, которое подтверждает «конкретное единство Отца, Сына и Духа Святого». Истина — абсолютная реальность, сверхрациональная цельность.
Согласно Флоренскому, истина — это то, что обосновано. Возьмем некоторое суждение. Оно может быть непосредственно-интуитивно ясным или же обосновываться опосредовано, дискурсивно, другими суждениями. Но непосредственное суждение не обоснованно, а в опосредованном суждении данное суждение имеет основание в другом суждении, которое должно быть обосновано третьим, и т. д., т. е. обоснование уходит в бесконечность. Каков же выход из этой ситуации?
Флоренский говорит о необходимости синтеза интуиции и дискурсии. «Истина есть интуиция-дискурсия». «Дискурсивная интуиция должна содержать в себе синтезированный ряд своих обоснований; интуитивная же дискурсия должна синтезировать весь свой беспредельный ряд обоснований в конечность, в единство, в единицу».
Синтез интуиции и дискурсии приводит к пониманию истины как некоего единства. «Если Истина есть, то она — реальная разумность и разумная реальность; она есть конечная бесконечность и бесконечная конечность, бесконечное, мыслимое как целокупное Единство, как единый, в себе законченный субъект». Это Единое, Истина есть Бог.
Флоренский говорит, что в понимании Бога разум сталкивается с антиномией. Бог — Единое и в то же время он существует в трех ипостасях. «В поисках достоверности мы натолкнулись на такое сочетание терминов, которое для рассудка не имеет и не может иметь смысла. «Троица в Единице и Единица в Троице» для рассудка нашего ничего не обозначает... Мудрость Божественная и мудрость человеческая столкнулись».
Поэтому Флоренский утверждает, что религия по существу антиномична, она заключает в себе несовместимые для разума положения и снимает эти противоречия, совмещает эти противоположности в вере. «Тут-то и требуется свободный подвиг... Нужно само-преодоление, нужна вера».
Флоренский полемизирует с теми, кто старается избежать противоречий. Если сам познаваемый мир противоречив, «надтреснут», если сознающий разум сам себе противоречит, то «бессильное усилие человеческого рассудка примирить противоречия... давно пора отразить бодрым признанием противоречивости». Противоречия в рассудке появляются потому, что мы смотрим на одно и то же явление с разных сторон, используем разные способы познания. Но «в момент благодатного озарения эти противоречия в уме устраняются, но не рассудочно, а сверх-рассудочно». «Как идеальную предельную границу, где снимается противоречие, мы ставим догмат».
Разрешение противоречия, познание истины возможно лишь как результат связи Бога и человека, «вхождения Бога в меня, как философствующего субъекта, и меня в Бога, как объективную Истину». «Не интуиция и не дискурсия дают ведение Истины. Оно возникает в душе от свободного откровения самой Триипостастной Истины, от благодати посещения души Духом Святым». Абсолютная, единая Истина возможна только «там, на небе», а у нас — «множество истин, осколки Истины».
Флоренский продолжает учение о Софии. Он приводит ряд ее характеристик. София есть «Мудрость Божия», есть «творческая Любовь Божия». «В отношении к твари София есть Ангел-хранитель твари, Идеальная личность мира». «София — разум твари, смысл, истина или правда ее», «духовность твари», святость, чистота и непорочность ее, т. е. красота. София — это целомудрие и девственность. Кроме того, София — это церковь».
Он говорит об антиномии Бога и мира, духа и плоти, девства и брака. Мировая закономерность «коренится всецело в Боге-Слове, в личной особенности Сына и в свойственных ему дарах». От Духа Святого человек получает «дары»: вдохновение, творчество, свободу, подвиг, красоту, ценность плоти, религиозную веру и др. В человеке (твари) есть три части: верхняя (голова), срединная (сердце), нижняя (желудок). Если преувеличивается значение первой и последней (мистика головы и мистика чрева), то это плохо. Как и Юркевич, Флоренский подчеркивает важность сердца; мистика сердца — это хорошо.
Чтобы
прийти к Истине, надо отрешиться от
самости своей, надо выйти из себя; а это
для нас решительно
невозможно, ибо
мы — плоть. Но... как же именно в таком
случае ухватиться за Столп Истины? —
Не знаем, и знать не можем. Знаем
только, что сквозь
зияющие трещины человеческого
рассудка видна бывает лазурь Вечности.
Это
непостижимо, но это — так.
П.
А. Флоренский
Цельность личности основана на любви. «Без любви, а для любви нужна прежде всего любовь Божия, — без любви личность распадается в дробность психологических элементов и моментов. Любовь Божия — связь личности». Истинная любовь имеет свой идеал в Христе. «Вне Христа невозможна любовь ни к себе, ни к другому. Господь Иисус Христос есть идеал каждого человека».
Красота мира доступна лишь тому, кто посредством любви освобождается от замкнутости эгоизма. Любовь ставит непременным условием преодоление себялюбия и вступление в новую область бытия, которая повсюду имеет отпечаток красоты. «Истина, Добро и Красота — эта метафизическая триада — есть не три разные начала, а одно. Это — одна и та же духовная жизнь, но под разными углами рассматриваемая». Любовь необходимо развить в себе. Это приводит к духовной красоте, а духовной красоте сопутствует святость тела. Сладость, теплота, благоухание, музыкальная гармония и сияющий свет — таковы характерные признаки плоти, преисполненной Святым Духом.
«Столп Истины» у Флоренского — церковь. Быть в церкви — значит жить особой жизнью, «жить в Духе», прийти к Истине. Хотя это и непостижимо, тем не менее религия — сила, которою устанавливается и держится всеединство. Что дает нам религия? «От чего же спасает нас религия? — Она спасает нас от нас, — спасает наш внутренний мир от таящегося в нем хаоса... А водворяя мир в душе, она умиротворяет и целое общество, и всю природу».
Семен Людвигович Франк (1877-1950) в молодости был сторонником марксизма, затем перешел на позиции религиозно-идеалистической философии. Был профессором философии Саратовского, а затем Московского университета. В 1922 г. Франк выслан из России, долгое время жил в Англии. Основные его работы: «Об основах и пределах отвлеченного знания» (1915), «Душа человека (опыт введения в философскую психологию)» (1917), «Очерк методологии общественных наук» (1922), «Духовные основы общества» (1930), «Непостижимое» (1939), «С нами Бог» (1946).
Философия
по существу есть не логика, не теория
познания, а богопознание. Единственный
предмет философии есть Бог.
С.
Л. Франк
Франк говорит, что человек чувствует, будто за познанным, относительным бытием есть нечто иное. Абсолютное находится «по ту сторону относительного и поверх его». Относительное, объекты мира, «объективное бытие» познаются в понятиях, подчиненных логическим законам тождества, противоречия и исключенного третьего. Но абсолютное всеединство «всегда недоступно для понятийного познания». Однако существует другой тип познания, который направлен на «всеединство» — мистический опыт. Он открывает нам более глубокую сферу бытия, невыразимую в понятиях.
Эта сфера включает непознанное в объективном бытии, непознанное в нашем собственном бытии и тот уровень «реальности, который как первичная основа и всеобъемлющее единство объединяет эти два разнородных мира и обеспечивает их основу». Франк говорит о том, что кроме сферы материального и психического существует третья сфера, которую называет сферой идеального. «Идеальное бытие есть вневременное и внепространственное». Будучи таковой, идеальная сфера занимает более высокую ступень чем телесный и психический мир человека. Эта сфера представляет собою «металогическую реальность».
В последующем Франк трактует металогическую реальность как нечто святое или божественное, которое является основой и источником бытия. В общем духе религиозной философии он говорит о том, что Бог сотворил мир. «Мир имеет свою реальную основу и свою идеальную основу в Боге, а именно это и означает тварность мира». Бог придал миру ценность и смысл. У мира есть абсолютная основа, абсолютное начало и абсолютный конец (абсолютная цель).
Металогическую реальность, божество мы «воспринимаем как непостижимую и несказанную тайну». Но мы приближаемся к пониманию Абсолютного «в диалоге любви, в невыразимой мысленной молитве», в религиозном опыте. Франк приводит ряд характеристик религиозного опыта. Это:
внутреннее общение «души со Святыней»;
опыт нашей непосредственной связи с Богом, «нашего богоподобия и нашей вечности»;
опыт нашей тварности;
опыт нашей свободы;
опыт нашей внутренней слепоты, опыт греха;
величие и блаженство любви;
опыт «вселенского братства людей как детей Божиих».
Религиозный опыт дает человеку веру, религиозное знание. Франк говорит, что религиозное знание ни в коем случае нельзя понимать как «предметное знание», что нужно остерегаться рационализации веры. Вера в Бога — это не какое-то теоретическое суждение, а «итог и как бы кристаллизация живого религиозного опыта», итог «внутреннего переживания».
Эмпирически данный мир содержит в себе добро и зло. Известна проблема теодицеи — оправдания Бога, снятия с него ответственности за зло. Франк утверждает, что проблема теодицеи абсолютно неразрешима, поскольку объяснить зло — значит найти его основание, его смысл, т. е. оправдать его. «Но это противоречит самой сущности зла», как тому, чего не должно быть. Поэтому «единственно правильное отношение к злу заключается в том, чтобы отвергнуть его, устранить его и, конечно, не объяснять его». Происхождение зла нельзя объяснить свободой воли, свободой выбора, так как выбор уже предполагает существование зла. Мы свободно стремимся лишь к добру. Зло воздействует на нас со стороны. «Зло возникает из невыразимого хаоса, который находится как бы на рубеже между Богом и не-Богом».
Для Франка основным религиозно-философским вопросом является вопрос о том, «что такое есть человек и каково его истинное назначение». Этот вопрос теснейшим образом связан с вопросом о природе и смысле общественной жизни, «ибо конкретно человеческая жизнь ведь всегда есть совместная, т. е. именно общественная жизнь».
Общественная жизнь — нечто большее, чем простое выражение страстей и субъективных стремлений. В обществе есть закономерности: например, должен существовать какой-то порядок, должна быть какая-то власть (авторитет). В обществе есть нормативные принципы и идеалы. Человек — проводник этих принципов и идеалов, правда, проводник «не пассивный, а активно соучаствующий в творческом осуществлении этих начал».
Политика — это своеобразное «лечение» и воспитание общества для создания условий и отношений, благоприятных для развития творческих сил общества. Хорошая форма правления обеспечивает наилучшее при данных условиях управление и равновесие между государственным контролем и общественной самодеятельностью. Хорошая экономическая политика содействует наибольшей производительности труда. Хорошая социальная политика обеспечивает наибольшую социальную справедливость.
Франк утверждает необходимость иерархии в обществе. Он за то, чтобы в государстве правила воля меньшинства; иерархии нужно придать родовой, наследственный характер. Франк выступал как против консерватизма, так и радикализма в политике. Он призывает к тому, чтобы избегать крайностей — абсолютизации «коллектива», «общественного целого» и возвышения индивидуального, личного Я. И в том и в другом случае общество претерпевает «болезненное перерождение», свобода срастается с солидарной волей большинства и «превращается в слепое бунтарство, в кипение низших человеческих сил». Возможность равенства в обществе — не более чем иллюзия. Толпа устремляется против «деспотизма власти», не осознавая, что она оказывается в подчинении у нового вождя и попадает под более деспотическое единовластие, чем то, которое она свергла.
По глубокому убеждению Франка, в основе общества лежит духовная жизнь. Во всех человеческих отношениях действует внутренняя духовная связь, «поэтому закон любви к ближнему и должен быть подлинно универсальным законом, которому должна быть подчинена вся наша жизнь».
Любовь к ближнему предполагает как свою первоначальную основу любовь к Богу. Нравственность вообще основана на вере в Бога. «Если нет Бога, то нет смысла подчиняться нравственным требованиям». Все общественное существование должно быть основано на религиозном сознании членов общества. Франк говорит, что современный человек лишен религиозной веры, живет иными идеями, склонен к атеизму. Отсюда как следствие — «разрушение общественного и персонального существования, которое беспокойно мечется между деспотизмом и анархией», кризис гуманизма, «власть тьмы».
Произошло крушение «кумиров» — веры в прогресс, идеалов политики, культуры. В этом главную роль сыграла революция. Франк выступает не только с отрицательной оценкой нашей революции, но и революции вообще. «История революций в бесконечных вариациях и видоизменениях повторяет одну и ту же классически точно и закономерно развивающуюся тему: тему о святых и героях, которые, горя самоотверженной жаждой облагодетельствовать людей, исправить их и воцарить на земле добро и правду, становятся дикими извергами, разрушающими жизнь, творящими величайшую неправду, губящими живых людей и водворяющими все ужасы анархии или бесчеловечного деспотизма».
Какой же выход можно найти из сложившейся ситуации? Франк говорит о том, что нужно бороться со злом, нужно совершенствовать мир и человека «пересозданием и перевоспитанием» общества и человека на религиозной основе. Путеводный ориентир — «надмирный божественный свет». «Чтобы знать, для чего жить и куда идти, каждому нужно в какой-то совсем иной инстанции, в глубине своего собственного духа найти себе абсолютную опору; нужно искать свой путь не на земле, где плывешь в безграничном океане, по которому бессмысленно движутся волны и сталкиваются разные течения, — нужно искать, на свой страх и ответственность, путеводной звезды в каких-то духовных небесах и идти к ней независимо от всяких течений и, может быть, вопреки им».
Интуитивизм
Н
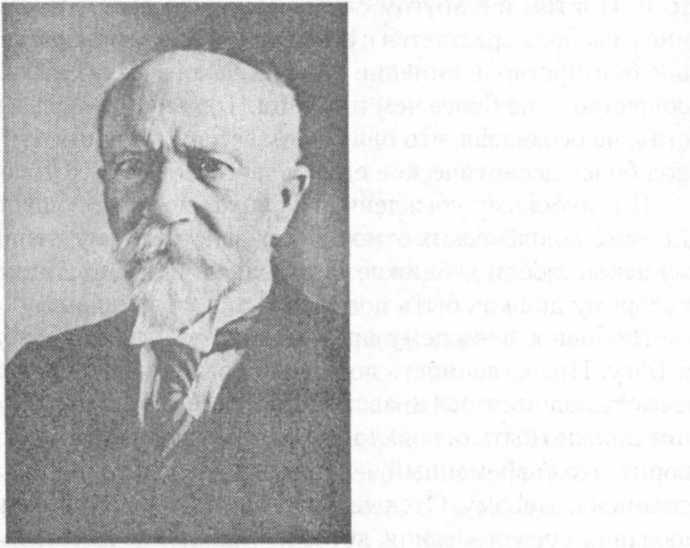 иколай
Онуфриевич Лосский
(1870-1965)
развил
философскую систему, которую сам
называл «идеал-реализмом» или
интуитивизмом. Свое образование Лосский
начинал в классической гимназии в
Витебске. За атеистические высказывания
и сочувствие социалистическим идеям в
1887 г. он был исключен из гимназии без
права поступать в другие учебные
заведения. Лосский уехал за границу,
где слушал курсы философии в Берне на
философском факультете университета.
После возвращения в Россию ему удалось
добиться разрешения продолжить учебу.
иколай
Онуфриевич Лосский
(1870-1965)
развил
философскую систему, которую сам
называл «идеал-реализмом» или
интуитивизмом. Свое образование Лосский
начинал в классической гимназии в
Витебске. За атеистические высказывания
и сочувствие социалистическим идеям в
1887 г. он был исключен из гимназии без
права поступать в другие учебные
заведения. Лосский уехал за границу,
где слушал курсы философии в Берне на
философском факультете университета.
После возвращения в Россию ему удалось
добиться разрешения продолжить учебу.
В 1891 г. Лосский поступил на естественнонаучное отделение физико-математического факультета Петербургского университета, но затем перевелся на историко-филологический факультет для изучения философии. Он занимался переводами работ Канта, Фишера, Ремке. Был на стажировке за границей — у Виндельбанда и Вундта. В 1903 г. Лосский защитил магистерскую диссертацию, затем работал над проблемами истории философии, логики. Он написал книгу «Обоснование интуитивизма», затем занимался изучением религиозно-нравственных проблем.
В августе 1922 г. Лосский был арестован, а в ноябре — выслан в Германию. В последующем жил и работал в Чехословакии, Франции; с 1947 по 1956 г. он был профессором Духовной академии св. Владимира в Нью-Йорке. Скончался в Париже в возрасте 94 лет.
Лосский говорит, что существуют два учения о мире. Согласно первому, «элементы абсолютны, первоначальны и существуют безотносительно». Целое производно и зависит от своих элементов. «Множественность считается первичною и обуславливающее единство как нечто вторичное». Наиболее ярко такой подход выражен «в примитивнейших формах атомистического материализма». Второе учение — это «органическое мировоззрение». Оно исходит из того, что «первоначально существует целое, и элементы способны существовать и возникать только в системе целого».
Лосский принимает вторую концепцию, но не ограничивается ею. Он считает, что «где есть система, там должно быть нечто сверхсистемное». «Последовательное развитие органического мировоззрения приводит к признанию сверхорганического начала».
Существует реальность, бытие, системы. Эта реальность существует в пространстве и времени. Кроме того, есть идеальное бытие (абстрактно-идеальное бытие), например математические идеи, идеи формы, порядка и т. д. Эти «отвлеченно-идеальные начала», например идеи формы, порядка, величины и т. п., необходимы для реального бытия, «однако они недостаточны для осуществления его». Эти «начала» не имеют творческой силы, не могут сами себя реализовать в пространстве и времени.
Но существует и третий вид бытия — «конкретно-идеальное» бытие. «Конкретный идеал-реализм утверждает существование бытия, господствующего не только над пространственно-временными процессами, но и над идеями». Лосский говорит, что в предшествовавшей философии подходами к такому пониманию третьего вида бытия были понятия Нуса, монады, абсолютной идеи. Сам же Лосский вводит понятие о «субстанциальных деятелях».
Субстанциальные деятели, «обладая творческою силою, творят события, то есть реальное бытие, сообразно тем или иным идеям». Субстанциальные деятели образуют некоторую иерархию, «могут быть расположены в ряд по степеням своего достоинства: Бог, Дух, душа, материя». Субстанциальные деятели могут причинно воздействовать друг на друга, но только в пределах одного уровня или на низшие сферы.
Высший субстанциальный деятель — Абсолют, Бог. «Мир... не может быть первоначальным; он может существовать не иначе как благодаря творческому акту Абсолютного». Мир создан Абсолютом. При этом «для сотворения мира Бог не нуждался в том, чтобы брать какой-либо материал как из себя, так и извне; он сотворил мир как совершенно новое бытие, иное, чем он сам».
Субстанциальные деятели формируют неживую и живую природу. Лосский предлагает положить понятие о субстанциальном деятеле в основу учения о жизни в биологии. «Согласно этому учению, в основе организма лежит субстанциальный деятель, подчиняющий себе все остальные субстанциальные элементы организма; как сверхпространственное начало он господствует над пространством, именно находится в непосредственном отношении сразу со всеми органами тела — и с глазом, и с сердцем, и с мышцами ноги, как бы далеко они не находились друг от друга в пространстве».
Человеческое Я также является субстанциальным деятелем. По отношению к реальным личностям «оно есть возможность их, потенция, но не в смысле отвлеченного понятия, а как творческий первоисточник их, т. е. сущая, живая возможность, творящая сила или, вернее, обладатель сил».
Субстанциальные деятели индивидуальных Я «суть носители невременных отвлеченных идей, как формальных, например идей временных отношений, пространственных отношений, всевозможных математических идей, так и материальных, например идеи гекзаметра, идеи готического стиля или идеи определенного типа жизни — лошадности, ландышевости, земной человечности. Все общие идеи принадлежат к области отвлеченно-идеального бытия, и существуют они не иначе как в составе конкретных субстанциальных деятелей».
Субстанциальный деятель «я» является источником психических и материальных процессов в человеке. Всякая конкретная личность наделена качествами, которые при правильном использовании дают ей возможность достигнуть полноты жизни. Полнота жизни является абсолютной ценностью. Именно в ней заключается цель жизни человека.
Лосский говорит, что в мире есть и гармония, и вражда. Вражда, зло проистекают из эгоизма субстанциальных деятелей. Для преодоления зла, во-первых, необходимо личное творчество, посвященное созданию моральной добродетели, красоты и истины. Во-вторых, необходимо взаимное дополнение людей, их участие в жизни друг друга посредством любви. Эгоизм преодолевается единодушным, соборным творчеством. «Каждый член царства божьего должен внести свой индивидуальный, т. е. особый, неповторимый и неизменный вклад в общее творчество: только в этом случае деятельность членов будет взаимно дополняющей, создающей единое, исключительно прекрасное целое». Нужно любить Бога больше всего в мире, затем нужно любить ближнего, как самого себя, наконец, нужно любить «безличные абсолютные ценности» — истину, добродетель, красоту, свободу. «Любовь может быть только свободным выражением личности». Лосский говорит о возможности «слияния человеческого существа с Богом... когда человек чувствует и переживает Бога так же непосредственно, как свое, "Я"».
Наиболее интересным моментом в философских взглядах Лосского является так называемый интуитивизм. Лосский говорит, что в теории познания важнейший вопрос заключается в том, находится ли объект знания «вне процесса знания или в самом этом процессе?» Он рассказывает, что его долго мучила следующая проблема: «Я знаю только то, что имманентно моему сознанию, но моему сознанию имманентны только мои душевные состояния, следовательно, я знаю только свою душевную жизнь». Но вот «блеснула мысль»: «все имманентно всему». Но как это понимать?
Лосский утверждает, что «объект знания находится в процессе знания», что «предметы внешнего мира могут вступать в подлиннике в кругозор моего сознания», что познанный объект включается непосредственно в структуру личности.
Бытие внешнего мира дается познающему субъекту непосредственно. Интуитивизм, по Лосскому, — «учение о том, что познанный объект, даже если он составляет часть внешнего мира, включается непосредственно сознанием познающего субъекта, так сказать, в личность и поэтому понимается как существующий независимо от акта познания». Таким образом, «в знании присутствует не копия, не символ, не явление познаваемой вещи, а сама эта вещь в оригинале».
Термин «интуиция» у Лосского обозначает «непосредственное созерцание» субъектом не только своих переживаний, но и предметов внешнего мира. Предметы внешнего мира в интуиции «имманентны» сознанию.
Но почему же объекты внешнего мира становятся «имманентными» нашему сознанию? Лосский отвечает на этот вопрос, исходя из связи между субстанциальными деятелями, благодаря которой мир является целостным универсумом. Существует координация познающего субъекта «со всеми существами и процессами всего мира», поэтому бытие внешнего мира непосредственно дается познающему субъекту. В конечном счете эта координация имеет свое основание в Абсолютном.
Поскольку мир — органическое целое, между субъектом и объектом всегда есть гносеологическая координация, даже тогда, когда нет познания.
Обычно различаются Я и не-Я. Не-я — это «данные» мне переживания, Я — «принадлежащие мне». Так, например, белая стена — не-Я, а всякое переживание, ассоциации, размышления по поводу белой стены — это Я. Но Лосский считает, что следует освободиться от разделения Я и не-Я. Воля человека выбирает, что брать, созерцать из внешнего мира; жизнь Я вся состоит из этих действий, т. е. осуществления воли. Поэтому есть «объединенность Я и не-Я, благодаря которой жизнь внешнего мира дана познающему Я так же непосредственно, как и процесс его собственной внутренней жизни».
Лосский предлагает так называемую координационную теорию восприятия. Он считает, что воздействия на отдельный орган чувств и физиологический процесс в коре головного мозга — не причина, производящая содержание восприятия, а стимул, побуждающий познающее Я направлять свое внимание и акты различения на реальные объекты мира. Между субъектом и объектом существует гносеологическая координация, отношение, при котором возможна интуиция.
Однако Лосский не отрицает дискурсивное мышление и умозрение. Благодаря им мы знаем о связи реальных элементов, об идеальном бытии. Он говорит о чувственной и интеллектуальной интуиции. Но есть еще и реальность субстанциальных деятелей во главе с Абсолютом. Абсолютное не может быть выражено в понятиях, дано в чувственной или интеллектуальной интуиции. Абсолютное постигается особой, мистической интуицией.
Лосский предлагает специфическое понимание истины. Классическая теория истины рассматривает истину как соответствие знания объекту. Но у Лосского предмет знания находится в самом знании. Отсюда следует: «Истина есть не копия действительности, не символическое воспроизведение ее и не явление ее, сообразное с законами познавательной деятельности, а сама действительность в дифференцированной форме... Критерием истины может быть только наличность самой познавательной действительности, наличность познаваемого бытия в акте знания. Эта наличность несомненна в том случае, когда содержание познания "дано" мне, а не произведено деятельностью, которая чувствуется мною как "мое" субъективное усилие, когда содержание знания присутствует и развивается в акте знания само собою, а я только следую за ним, сосредоточивая на нем внимание и дифференцируя его путем сравнивания». Еще раз возвращаясь к своему пониманию интуиции, Лосский говорит, что интуиция — «непосредственное созерцание бытия в подлиннике».
Иррационализм
О
 собое
место в русской религиозной философии
принадлежит Л. И. Шестову. Лев
Исакович Шестов (1866-1938,
настоящая фамилия Шварцман) учился
сначала на физико-математическом, затем
на юридическом факультете Московского
университета. В молодости Шестов
увлекался марксизмом, писал статьи по
финансовым и экономическим вопросам.
В 1920 г. эмигрировал. 15 лет Шестов
преподавал на Русском историко-филологическом
факультете при Парижском университете.
Основные работы Шестова: «Достоевский
и Ницше» (1903), «Апофеоз беспочвенности»
(1905), «Добро в учении Толстого и Ницше»
(1907), «Ключи власти» (1923), «Ночь в
Гефсиманском саду» (1925), «На весах Иова»
(1929).Мировоззрение Шестова проникнуто
крайним скептицизмом, иррационализмом,
в нем звучит тема трагической сущности
человеческого бытия, человеческого
страдания. У Шестова нет единой
систематизированной философской
концепции, да и трудно ожидать ее
наличия от представителя скептицизма
и иррационализма. Он вообще сомневался
в возможности существования внутренне
целостных, непротиворечивых философских
систем.
собое
место в русской религиозной философии
принадлежит Л. И. Шестову. Лев
Исакович Шестов (1866-1938,
настоящая фамилия Шварцман) учился
сначала на физико-математическом, затем
на юридическом факультете Московского
университета. В молодости Шестов
увлекался марксизмом, писал статьи по
финансовым и экономическим вопросам.
В 1920 г. эмигрировал. 15 лет Шестов
преподавал на Русском историко-филологическом
факультете при Парижском университете.
Основные работы Шестова: «Достоевский
и Ницше» (1903), «Апофеоз беспочвенности»
(1905), «Добро в учении Толстого и Ницше»
(1907), «Ключи власти» (1923), «Ночь в
Гефсиманском саду» (1925), «На весах Иова»
(1929).Мировоззрение Шестова проникнуто
крайним скептицизмом, иррационализмом,
в нем звучит тема трагической сущности
человеческого бытия, человеческого
страдания. У Шестова нет единой
систематизированной философской
концепции, да и трудно ожидать ее
наличия от представителя скептицизма
и иррационализма. Он вообще сомневался
в возможности существования внутренне
целостных, непротиворечивых философских
систем.
Я
говорил, говорю и не устану повторять:
миф о существовании логически
законченных, не заключающих в себе
противоречий философских систем нужно
считать ушедшим в прошлое.
Л.
И. Шестов
Шестов говорит о тайне бытия, тайне жизни: эта тайна не познается в понятийном логическом мышлении. «Какое бы понятие мы не сплели — никак не уловишь в нем реальности... Действительность, точно вода из решета, вытекает из понятия». Научное познание не приближает, а отдаляет нас от тайн бытия, жизни.
Одна из тайн бытия — постоянство явлений мира. «Вообще нужно признаться, что постоянство явлений природы в высокой степени загадочно и таинственно, я даже готов сказать, что оно имеет какой-то противоестественный характер. Сколько сил и хлопот нужно употребить, пока мы доведем какое-нибудь сознательное существо хоть бы до относительного постоянства. А лучи света — постоянны, камни — постоянны, металлы — постоянны, да еще в такой степени и с такой неизменной точностью идут однажды намеченным путем, о которой ни один математик не смеет мечтать. Откуда взялось это загадочное постоянство? Отчего за миллионы лет существования мира ни один луч ни разу не пошел по кривой, ни один камень никогда не плавал по воде и ни разу из свекловичного семени не вырос ананас?»
Разум
столько раз обманывал нас, что, в
сущности, у нас есть все основания так
же мало доверять ему, как и внешним
чувствам, которые, как показывает
повседневный опыт, являются еще
более обманчивыми... Переживания у
нас есть, есть у нас и субъективные
утверждения, очевидность которых
неоспорима для всех, — но где же найти
последнюю высшую санкцию, поруку в том,
что мы все, весь species
homo
не
живем в мире призраков и что там, где
мы видим истину, есть действительно
истина, а не заблуждение?
Л.
И. Шестов
По мнению Шестова, нельзя доверять ни разуму, ни чувствам, нет основания считать, что мы живем в реальном, а не в призрачном мире.
Окруженный тайной, человек обречен на трагическое существование: «Что-то властное, непреоборимое связывает нашу свободу и направляет нас к целям, нам не известным и непостижимым... Время бесконечно, пространство бесконечно, миров несчетное множество, жизненные богатства и жизненные ужасы неисчерпаемы, тайны мироздания непостижимы — как может ущемленное меж столькими вечностями существо знать, что ему делать, и определять свой выбор?»
Поскольку истина рационально непостижима и нельзя положиться на разум, человеку остается положиться на веру, Откровение, на всемогущество Бога. «Истина лежит по ту сторону разума и мышления». «Там, где Откровение, ни наша истина, ни наш разум, ни наш свет ни на что не нужны. Когда разум обессиливает, когда истина умирает, когда свет гаснет — тогда только слова Откровения становятся доступны человеку».
«Вне наших общих принципов, помимо нашего осознающего разума, протекают наиболее замечательные и значительные события нашего существования. Можно сильнее сказать — при всякой попытке нашего разума проверить своими критериями действительность таких переживаний нами сами переживания мгновенно превращаются в ничто, словно бы их никогда не было. Здесь нельзя проверить, нельзя фиксировать... От всякой попытки прикоснуться щупальцами разума к вере — вера гибнет, она может жить лишь в атмосфере безумия. Она не делится своей властью ни с кем. И вопрос ставится именно так: либо разум, либо вера».
Вера не нуждается в доказательствах, она живет «по ту сторону» доказательств. Но и в отношении веры Шестов проявляет определенный скептицизм. «Людям "вера" и не нужна вовсе, а нужен только авторитет, незыблемый порядок, тем более прочный, чем меньше известно, откуда он пришел».
Шестов выступает против всяких абсолютов, авторитетов. Он спорит с Сократом, утверждавшим связь знания и добродетели. Включаясь в полемику вокруг смысла истории, Шестов пишет: «Ищут смысла истории и находят смысл истории. Но почему такая история должна иметь смысл? Об этом не спрашивают. А ведь если бы кто спросил, может, он сперва бы усомнился в том, что история должна иметь смысл, а потом убедился бы, что вовсе истории и не полагается иметь смысл, что история сама по себе, а смысл сам по себе». Точно так же мы не видим смысла жизни человека и не знаем ответа на вопрос, как жить. «Кто заставит нас жить, как следует, когда наше собственное существо было, есть и, видно, всегда останется для нас неразгаданной тайной».
Философия права
И
 ван
Александрович Ильин
(1883-1954) — один из наиболее известных для
западной философской среды русских
философов-эмигрантов. Ильин был
профессором философии права в
Московском университете. Выслан из
России в 1922 г. Главные работы Ильина:
«Философия Гегеля как учение о конкретности
Бога и человека» (1918), «О сопротивлении
злу силой» (1925), «Путь духовного
обновления» (1937), «О монархии и
республике» (1954).
ван
Александрович Ильин
(1883-1954) — один из наиболее известных для
западной философской среды русских
философов-эмигрантов. Ильин был
профессором философии права в
Московском университете. Выслан из
России в 1922 г. Главные работы Ильина:
«Философия Гегеля как учение о конкретности
Бога и человека» (1918), «О сопротивлении
злу силой» (1925), «Путь духовного
обновления» (1937), «О монархии и
республике» (1954).
Ильин говорит, что в истории философии был этап, когда «писались трактаты о методе», а сам предмет философии оставался в тени. «Все только рассматривали очки вместо того, чтобы смотреть в них; все только чистили оружие вместо того, чтобы сражаться им». Теперь нужно разрабатывать сам предмет философии.
Смысл философии Ильин видит в том, что она должна помогать людям познать Бога и божественную основу мира, помогать понять истину, добро и красоту, исходящие от Бога. Человек только тогда живет правильно, когда целью его жизни является не удовлетворение его личных потребностей и достижение личного успеха, а когда он имеет главную цель, «по отношению к которой все субъективные цели окажутся лишь подчиненным средством». За эту цель стоит бороться и умереть. «Жизнь человека оправдывается только тогда, если душа его живет из единого, предметного центра, — движимая подлинной любовью к Божеству, как верховному благу».
Ильин утверждает первенство духовного начала в человеке, обществе, истории. Именно духовное начало — основная сила. «Как бы ни было велико значение материального фактора в истории, с какой бы силою потребности тела не приковывали к себе интерес и внимание человеческой души, — дух человека никогда не превращается и не превратится в пассивную, недействующую среду, покорную материальным влияниям и телесным зовам».
Человек не может жить без веры. Человек верит в то, что он представляет как главное в своей жизни, как то, чего он желает, что доставляет ему радость, за что он «хотел бы отдать свою жизнь». Конечно, у человека могут быть различные цели и ценности. У некоторых людей такие ценности, о которых они предпочитают умолчать. Но в любом случае ценности, в которые человек верит, формируют саму человеческую личность. «Есть некий духовный закон, владеющий человеческой жизнью; согласно этому закону, человек сам постепенно уподобляется тому, во что он верит».
В основе общественной жизни лежит самопознание и самопреобразование человеческого духа. Моральное разложение индивидуальных душ делает невозможным нормальную жизнь общества. Кризис современного общества — следствие неверного способа духовной жизни людей. «Такая потрясающая духовная неудача человечества, как поток неслыханных войн и небывалых революций, свидетельствует с непререкаемой силой и ясностью о том, что все стороны духовного бытия жили и развивались по неверным путям, все они находятся в состоянии глубокого и тяжелого кризиса».
Ильин призывает к духовному обновлению на основе веры; вера в его понимании — это любовь к совершенному и стремление к совершенному. «Истинная религиозность есть преданность совершенству, а эта преданность вызывает деятельное служение ему, творческое осуществление его на земле. Вера не только мертва без дел, ее просто нет». Преодоление кризиса современного общества — в возвращении к духовным основам бытия — вере, любви, свободе, совести, семье, родине, нации. Человек должен не просто обуздать свои страсти, а облагородить и преобразовать их.
Ильин призывает также научиться свободе, т. е. «совестному акту»; необходимо научиться строить семейный очаг; научиться духовному патриотизму. Совесть — это стремление к совершенному, «источник чувства ответственности», «акт внутреннего самоосвобождения», «источник справедливости». Совесть двойственна — это и «положительный зов», и «укоры». Совесть — основа упорядоченной и расцветающей культурной жизни.
О патриотизме, национализме Ильин говорит как о любви к духу своего народа, к его духовному своеобразию. Но что значит любить свой народ? «Любить свой народ — не значит льстить ему или утаивать от него его слабые стороны, но честно и мужественно выговаривать их и неустанно бороться с ними. Национальная гордость не должна вырождаться в тупое самомнение и плоское самодовольство; она не должна внушать народу манию величия». Ильин говорит о необходимости национального воспитания через язык, песню, молитву, сказку, жития святых и героев, национальное искусство, армию, территорию, хозяйство. Он замечает при этом, что сама духовная жизнь народа дана лишь тому человеку, в душе которого есть нечто священное.
Ильин рассматривает вопрос справедливости. Он связывает его с вопросом о равенстве или неравенстве людей. «Французская революция восемнадцатого века провозгласила и распространила вредный предрассудок, будто люди от рождения или от природы "равны", будто вследствие этого со всеми людьми надо обходиться "одинаково". Этот предрассудок естественного равенства является главным препятствием для разрешения нашей основной проблемы. Ибо сущность справедливости состоит именно в неодинаковом обхождении с неодинаковыми людьми». Люди не равны, не одинаковы «ни телом, ни душой, ни духом», поэтому справедливо не уравнивать неравных.
Ильин развил концепцию борьбы со злом, которая вызвала дискуссию и ожесточенные нападки на него как со стороны «белых», так и «красных». Излагая свою концепцию, он, в частности, говорит, что в природных явлениях самих по себе нет ни добра, ни зла, хотя в них есть противодействие, борьба. Зло и добро начинаются там, где начинается человек, причем не в его телесных состояниях, а в его душевно-духовном мире. «Добро есть одухотворенная... любовь, зло — противодуховная вражда». Зло связано с присущей каждому человеку склонностью «к расширению своей власти и к полноте захвата».
Ильин выступал против концепции Толстого о непротивлении злу, в которой говорилось, что борьба со злом — это насилие, а насилие лишь увеличивает зло, что борьба со злом — вмешательство во внутреннюю жизнь другого человека, а последняя находится в руках Бога. Ильин усматривает в этих рассуждениях определенную нелепость. «Когда какой-нибудь негодяй наносит оскорбление честному человеку или развращает ребенка, это, очевидно, совершается по Божьей воле; но когда честный человек пытается помешать негодяю — это происходит не по воле Бога».
Сопротивление
злу силой и мечом позволительно
не тогда, когда оно возможно, но когда
оно необходимо, потому что нет других
средств.
И.
А. Ильин
Ильин предлагает своеобразные правила борьбы со злом:
распознавать зло, отличать его от «явлений, сходных с ним по внешней видимости»;
стремиться знать те пути, по которым живет зло в человеческой душе, и технику его внутреннего «одоления»;
«начинать с духовных средств, нисходя к мерам внешней борьбы лишь постольку, поскольку духовные средства оказываются неосуществимыми, недействительными и недостаточными»;
быть уверенным, что в борьбе со злом ты лично прав.
В целом в борьбе со злом Ильин предлагает такую последовательность действий: «неодобрение, несочувствие, огорчение, выговор, осуждение, отказ в содействии, протест, обличение, требование, настойчивость, психическое понуждение, причинение психических страданий, строгость, суровость, негодование, гнев, разрыв в общении, бойкот, физическое понуждение, отвращение, неуважение, невозможность войти в положение, пресечение, безжалостность, казнь».
Для борьбы со злом необходимо самовоспитание, преодоление своего «не хочется». Здесь также очень важна взаимная духовная помощь людей друг другу. Ильин говорит о некотором универсальном правиле: «Противиться злу из любви». Бороться со злом нужно не только в других людях, но и в себе. И даже после победы над злом в себе нужно «обезвредить и погасить в себе всевозможные следы незаметно проникшей заразы».
Ильин разрабатывает концепцию права, правосознания, государства. Он исходит из того, что наряду с эстетическим вкусом, голосом совести человеку присуще правосознание. Оно есть у каждого, кто сознает, что кроме него существуют и другие люди.
Развитое правосознание необходимо для нормальной жизни общества. Ильин подчеркивает важность понимания народом правовых норм. «Люди, не ведающие своих обязанностей, не в состоянии и блюсти их, не знают их пределов и бессильны против вымогательства "воеводы", ростовщика и грабителя».
Право в развитом виде — совокупность норм поведения (позволенное, предписанное или воспрещенное), указывающих людям, что они должны действовать определенным образом, — и тогда они будут правы. Правовые нормы устанавливаются государственной властью. В отличие от законов природы, нормы права — это нормы долженствования; они могут быть нарушены, и тогда возникает произвол. Правовые нормы обычно сопровождаются санкциями, указанием на те последствия, которые должны постигнуть нарушителя норм. Хотя правовые нормы отличаются от законов природы, Ильин говорит об объективности правовых норм в том смысле, что правовая норма обязательно действует от ее установления до отмены.
Право должно создать в душе человека мотивы для хорошего поведения. Если человек подчиняется праву, внутренне не понимая или не желая его принять, то это приводит к озлоблению. Ильин пишет: «Первое правило правосознания гласит: соблюдай добровольно действующие законы и борись лояльно за новые, лучшие». (Лояльно — значит в соответствии с конституцией государства.)
Непризнание, нарушение законов приводит вовсе не к свободе, а к анархии, бесправию и гибели. «Человек может быть свободным только под законом и через закон. А эта законная свобода будет тем прочнее и полнее, чем больше он опирается на внутреннюю свободу — на лояльное самообязывание здорового правосознания».
Ильин говорит, что есть естественное право — как признание духовного братства и равенства, духовной свободы, духовной самостоятельности и достоинства. Но в силу некоторой незрелости человеческих душ, кроме естественного права необходимо «положительное право». «Положительное право» существует для поддержания естественного права. «Основная задача положительного права состоит в том, чтобы принять в себя содержание естественного права, развернуть его в виде ряда правил внешнего поведения, приспособленного к условиям данной жизни и к потребностям данного времени, придав этим правилам смысловую форму и словесное закрепление и, далее, проникнуть в сознание и к воле людей в качестве авторитетного связующего веления».
Положительное право должно приучить человека к самоограничению; чтобы добиться нормального правосознания, человек должен сам управлять своим поведением в соответствии с положительным правом. Ильин полагает, что «положительное право будет становиться все менее нужным по мере того, как оно само будет приближаться к духу и смыслу естественного права, а правосознание будет расти, углубляться и укрепляться».
Ильин говорит о трех аксиомах (законах) правосознания: «закон духовного достоинства, закон автономии и закон взаимного признания».
Достоинство заключается в служении добру, истине, красоте. Достоинство не терпит лести, подкупа, насилия. Достоинство относится не только к отдельным людям, но и к государственной власти. Государственная власть, а также армия, должны блюсти свое достоинство. Ильин подчеркивает, что тоталитарная власть строит свой режим на подавлении и извращении чувства собственного достоинства. При этом часто имеет место стандартный набор — национализм, идеология самоидеализации, самовосхваление.
Автономность правосознания заключается в том, что каждый человек сознательно, по личному убеждению принимает право.
Взаимное признание — это взаимное духовное доверие (в частности, народа и правительства). Ильин выступает против классовой борьбы, взаимной вражды и подозрения.
Ильин считает, что в основе государства лежит духовная связь людей, их духовная солидарность. Государство строится не по принципу конфликта, а по принципу солидарности. «Сущность государства состоит в том, что все его граждане имеют и признают — помимо своих различных и частных интересов и целей — еще единый интерес и единую цель».
Государство стремится примирить и исключить столкновения частных или классовых интересов. При этом, однако, Ильин выступает за частную собственность, так как если будет отвергаться частная собственность, то при этом будет отвергаться и «начало личного духа», а это подорвет всю жизнь страны.
Власть в государстве должна принадлежать лучшим людям. «Государство, поставившее к власти худших людей или тем более выносящее наверх общественные подонки, — переживает смертельный недуг; государство, "изгоняющее" или убивающее своих лучших людей, — нуждается в "перевороте" (Гераклит); государство, не умеющее выделить лучших граждан, обречено на прострацию и вырождение».
Ильин — противник «черни». «Люди становятся чернью тогда, когда они берутся за государственное дело, движимые не политическим правосознанием, но частного корыстью; но именно поэтому они не ищут лучших людей и не хотят передавать им власть. К черни может принадлежать всякий: и богатый и бедный, и темный человек и "интеллигент"». Критерий лучших — «способность к бескорыстному служению духу и способность к социальной организации братства». В этом состоит этический и политический «ценз».
Политическая программа государства должна преследовать общий интерес. Если та или иная партия не имеет такой программы, то это «противогосударственная партия». «Химерические» и утопические программы и затеи подрывают в народе доверие к власти, разлагают и губят государство.
Ильин говорит, что одна из основных задач государственной власти — политическое воспитание народа, развитие демократии, общественного самоуправления. Но и здесь существуют определенные проблемы. «"Демократия" не есть легко вводимый и легко устрояемый режим. Напротив — труднейший... Демократия предполагает исторический навык, приобретенный народом в результате долгого опыта и борьбы, она предполагает в народе культуру законности, свободы и правосознания; она требует от человека — политической силы суждения и живого чувства ответственности. А что же делать там, где всего этого нет? Где у человека нет ни имущественной, ни умственной, ни волевой самостоятельности? Где все подготовлено для своекорыстия к публичной продажности? Где дисциплина не сдерживает личного и совместного произвола? Где нет ни характера, ни лояльности, ни правосознания? Все-таки вводить демократический строй? Для чего же? Чтобы погубить государство и надругаться над всеми принципами демократии? Чтобы все кончилось коррупцией, безобразной смутой и разложением государства? И все во имя Доктрины?»
Ильин считал, что весь уклад русской души и русского быта делают наиболее предпочтительным для России самодержавно-монархический строй. Республика чужда русскому национальному характеру и политическим традициям русского народа. Но Ильин выступал за такую монархию, которая связана с идеей правового государства, со свободой личности.
В заключение процитируем одну из любимых идей Ильина: «В основе всей правовой и государственной жизни лежит способность человека к внутреннему самоуправлению, к духовной, волевой самодисциплине».
Мистицизм
В начале XX в., особенно после революции 1905 г., усиливается интерес к мистицизму, оккультизму, теософии, йоге. Значительная часть интеллигенции отказывается от идеологии революционной деятельности в пользу мистики. Характерная фигура этого направления философии — Петр Демьянович Успенский (1878— 1949).
Успенский родился в Москве, после гимназии получил математическое образование; кроме математики и естествознания он увлекался поэзией и живописью. В начале века сотрудничал как журналист с «левыми» изданиями. В 1907 г. в мировоззрении Успенского произошел своеобразный перелом: у него пробудился интерес к эзотерическим учениям. В путешествиях по Западной Европе Успенский знакомится с европейскими оккультными, теософскими учениями, на Востоке — с индуизмом и йогой. Он создает ряд работ, суммируя их основные идеи в книге «Tertium organum» («Третий инструмент»), которая, по его словам, служит «ключом к загадкам мира, тайнам пространства и времени».
Весной 1915 г. Успенский встречается с Г. И. Гурджиевым. Успенского привлекает идея так называемого четвертого пути, техника достижения «высших измерений», ведущая к особой переструктуризации сознания субъекта, причем этот путь не требует исключения из активной социальной жизни. Эту встречу и свое отношение к идеям Гурджиева Успенский описывает в книге «В поисках чудесного» (вышла посмертно). В 1921 г. он уезжает в Англию, где публикует книгу «Новая модель Вселенной» (1931, на английском языке), лекции «Психология возможной эволюции человека».
Излагая свою концепцию, Успенский говорит, что существуют два исходных, очевидных факта: существование мира, в котором мы живем, и существование нашего сознания. Эти факты нам известны. Но кроме того, существуют пространство, время, количество, масса, энергия, жизнь и т. д. О них мы говорим, но на самом деле не знаем, что это такое. Успенский задается вопрос о том, что собой представляют пространство и время.
Успенский напоминает о концепции Канта, который утверждал, что когда мы разделяем вещи по категориям пространства и времени, необходимо помнить, что эти разделения существуют только в нас, в нашем познании вещей, а не в самих вещах, что настоящего отношения вещей друг к другу мы не знаем. Успенский говорит, что Кант только поставил вопрос, а пути к разрешению его не указал. «Первые проблески» правильного понимания и «первые намеки» на возможный путь решения проблемы Канта, говорит Успенский, мы находим у С. X. Хинтона, автора книг «Новая эра мысли» и «Четвертое измерение». Хинтон призывает развивать чувство пространства, расширять пределы деятельности нашего сознания, создавая новые понятия, усиливая способность аналогии. Изменяя условия восприятия, мы приблизимся к истинному пониманию. «Путь, который открывается перед нами в будущем, заключается в применении понятия четырехмерного пространства к явлениям природы и к исследованиям того, что может быть найдено этими новыми способами познания».
Успенский включается в обсуждение проблемы многомерных пространств. Он обосновывает возможность четвертого измерения пространства следующим образом. В геометрии линия рассматривается как след от движения точки, поверхность — как след от движение линии, тело — как след от. движения поверхности. Но нельзя ли, продолжив ряд, рассматривать «тело четырех измерений» как след от движения тела трех измерений? А можно рассуждать и так: точка — разрез линии, линия — разрез поверхности, поверхность — разрез тела. По аналогии можно рассматривать трехмерное тело как разрез четырехмерного. Мы наблюдаем трехмерное пространство, а четвертое измерение чувственно недоступно.
Обращаясь к вопросу о сути времени, Успенский говорит, что временем мы называем расстояние, разделяющее события в порядке их последовательности и связывающее их в нечто целое. Это расстояние иного вида, чем расстояние в трехмерном пространстве. Если же мы это «расстояние» будем мыслить как особое направление в пространстве, то его можно понимать как четвертое измерение пространства. Но оно несоизмеримо с измерениями трехмерного пространства (как «год» несоизмерим с «Петербургом»), оно перпендикулярно ко всем направлениям трехмерного пространства и не параллельно ни одному из них.
Всякая
вещь и всякое явление нашего мира есть
проявление в нашем разрезе какого-то
непонятного нам сознания из другого
разреза.
П.
Д. Успенский
После этих рассуждений Успенский несколько неожиданно говорит, что пятое измерение следует рассматривать не как нечто, лежащее вне сознания, а как свойство самого сознания, как линию или направление, по которому должно расти сознание.
В последующем в книгах «В поисках чудесного» и «Новая модель Вселенной» Успенский продолжает свои рассуждения. Он говорит, что существует семь измерений: от нулевого до шестого. «Только шестимерное тело вполне реально. Пятимерное тело — лишь неполный вид шестимерного. Четырехмерное — неполный вид пятимерного» и т. д. «Видимый, феноменальный мир мы с полным основанием можем рассматривать как разрез какого-то другого бесконечно более сложного мира, в данный момент для нас проявляющегося в первом».
Явления жизни, биологические явления, говорит Успенский, очень похожи на результат прохождения через наше пространство каких-то кругов четвертого измерения. Жизнь любого существа начинается в одной точке (рождение) и кончается всегда в одной точке (смерть). Но это одна и та же точка. Жизнь отдельного существа, начавшись рождением, должна закончиться смертью, которая есть возвращение к точке отправления. Нам представляется, что нечто рождается и умирает, но на самом деле это не так. В действительности круг жизни есть только разрез чего-то, и это что-то существует до рождения, т. е. до появления круга в нашем пространстве, и продолжает существовать после смерти, т. е. после исчезновения круга из нашего поля зрения.
Мир для нас как пространство — «бесконечная сфера». В ней идет постоянная смена картин, образов, отношений. Эта сфера представляется нам экраном кинематографа, а наше сознание — светом, который бросает на экран отражения наших впечатлений, картин. Эти отражения мы называем жизнью. Само же сознание человека — это функция некоторого другого мира, отличного от трехмерного, в котором функционирует тело человека. Высшее измерение «есть линия, соединяющая все сознания мира, образующая из них одно целое».
Итак, Успенский приходит к выводу, что существует некий «потусторонний мир». Он не трехмерен. «А главное, там не может быть ничего несознательного. В мире причин все должно быть сознательно, потому что он сам есть сознание — душа мира».
Что же собой представляет этот иной мир? Попытки осмыслить его в наших обычных познавательных процедурах здесь не могут помочь. Успенский пишет: «Наука, философия, религия, искусство — формы познания. Метод науки — опыт; метод философии — умозрение; метод религии и искусства — моральное или эстетическое эмоциональное внушение». Но они недостаточны. Истинное познание дается интуицией. «Цель всякого познания — переход к интуитивному познанию. А в интуитивном познании разные формы познания — наука, философия, религия и искусство — должны сливаться одно с другим, образуя единое целое, ту теософию — мудрость богов, к которой давно стремится человечество».
Успенский говорит, что люди неоднократно пытались перейти к этому новому сознанию и познанию. Поэзия, мистика, идеалистическая философия всех времен и народов сохраняет следы этих переходов. Древние и новые мыслители оставили нам много ключей, которыми мы можем отпереть таинственные двери, много магических формул, перед которыми эти двери отворяются сами. Но мы не понимаем цели этих ключей и значения этих формул. В этом плане Успенский высоко оценивает деятельность Гурджиева.
До сих пор, говорит Успенский, иной мир противопоставляется нашему, но это неправильно. Мир един, но многосложен. С помощью несовершенных способов познания нельзя проникнуть в то, что доступно только совершенным. Какие же возможности имеют люди для такого познания?
Успенский ссылается на ощущение бесконечности как пустоты и тьмы, о чем говорится в мистической литературе всех народов. Ощущение бесконечности порождало страх и ужас, но сквозь этот страх и ужас человек на границе нового мира слышит звуки небес, испытывает чувство необыкновенного расширения сознания. В теософской, мистической литературе часто говорится о том, что, переходя в «астральный» мир, человек начинает видеть новые краски, небесный свет, испытывает новые ощущения, «невероятное блаженство». Эти ощущения человек испытывает в момент раскрытия сознания.
Но ощущение света, блаженства, жизни дает подготовленному уму представление о новом мире. Неподготовленному уму соприкосновение с бесконечностью, иным миром дает ощущение тьмы и ужаса. Чтобы не испытать ужаса от нового мира, нужно признать его или эмоционально (верой или любовью), или интеллектуально. С другой стороны, чтобы избежать ужаса от потери старого мира, нужно от него добровольно отказаться, тоже или верой и любовью, или умом. Нужно признать мир, в котором мы живем, иллюзорным. Следует не бояться этого понимания, а радоваться ему. В евангельском символе «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» выражена глубочайшая философская истина. Ибо в этой «нищете» человек видит, что за фантомами этого мира есть реальные сущности, к которым он стремится.
Что же дает нам интеллект? Успенский говорит, что попытки подойти к иному миру с позиций нашей логики, логики отношений феноменального мира, бессмысленны. Логического в нашем понимании там быть не может. Что же делать? Успенский ссылается на развитие математики: в ней существуют количественные отношения, которым ничто не соответствует в реальном, т. е. трехмерном мире. Аналогичным образом мы должны найти какие-то новые логические принципы для понимания иного мира, сбросить оковы «трехмерной логики», перейти к иному мышлению.
Успенский говорит, что кроме дедуктивной и индуктивной логики в различных философских системах присутствовали элементы этой логики (например, у Плотина в трактате «О красоте»), но они были не поняты, поэтому следует развивать эту логику.
Систему такой логики Успенский назвал «Tertium organum», потому что для нас это третье орудие мысли после Аристотеля и Бэкона. Финальный тезис Успенского весьма оригинален. Он говорит, что аксиомы этой новой логики «не могут быть формулированы на нашем языке. Если их все-таки пытаться формулировать, они будут производить впечатление абсурдов». Можно попробовать представить главную аксиому так: А есть Л и не Л, или всякая вещь есть и Л, и не А, или всякая вещь есть Все. «Но это только попытки выразить аксиомы этой логики в понятиях. В действительности идеи высшей логики в понятиях невыразимы».
Даниил Леонидович Андреев (1906-1959), сын писателя Леонида Андреева, родился в Берлине. После смерти матери воспитывался в семье тетки в Москве. Он окончил гимназию, но в университет, будучи сыном «непролетарского» писателя, поступить не смог. Андреев закончил Высшие литературные курсы. Для заработка работал художником-шрифтовщиком; параллельно писал стихи и прозу. Великая Отечественная война прервала его работу над романом «Странники ночи». Рядовой Андреев прошел через Ладогу в Ленинград, хоронил убитых в братских могилах, читал над ними заупокойные молитвы. В конце 1942 г. по состоянию здоровья был демобилизован.
После возвращения в Москву Андреев снова стал работать над романом и стихами. В апреле 1947 г. его арестовали. По приговору Особого совещания Андреев был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Во время пересмотра дел политзаключенных (при Хрущеве) срок был уменьшен до 10 лет. В апреле 1957 г. Андреев был выпущен «на волю» в тяжелом состоянии после перенесенного в тюрьме в 1954 г. инфаркта. В тюрьме Андреев написал ряд произведений, которые удалось спасти. Там было написано и его основное произведение — «Роза Мира». В начале 90-х годов после публикации «Розы Мира» взгляды Андреева привлекли внимание определенных кругов интеллигенции, интересующейся нетрадиционными религиозно-философскими концепциями.
Андреев был глубоко религиозной личностью и страстно любил историю. Еще в юности, а впоследствии и в тюрьме, он переживал состояния особого видения — видения каких-то иных слоев мира, своего выхода за пределы земного пространства, контакта с какими-то иными духовными существами. Андреев писал: «Видел ли я их самих во время этих встреч? Нет. Разговаривали ли они со мной? Да. Слышал ли я их слова? И да, и нет. Я слышал их не физическим слухом. Как будто они говорили откуда-то из глубины моего сердца. Многие слова их, особенно новые для меня названия различных слоев Шаданакара и иерархий, я повторял перед ними... Многие из нездешних слов... сопровождались явлениями световыми, но это был не физический свет... Скорее даже это были не фразы, а чистые мысли, передававшиеся мне непосредственно, помимо слов». У Андреева были видения светлых и темных сил, борьбы между ними. Он говорит, что аналогичные видения были и у других (Сведенборг, Штайнер, Рерих, Блаватская).
Андреев говорит о сути, принципах и назначении «Розы Мира», о метаистории Мира и России, в частности; последней он посвящает значительную часть своей книги. Андреев пишет, что его книга направлена против двух зол: мировой войны и единоличной тирании. «Роза Мира» — это принципиально новый тип объединения людей. Сегодня люди объединяются государством. Но государство основано на принципе насилия. Сегодня люди поклоняются технике, науке. Но наука ограничена и во многом не отвечает нуждам людей. Культура развивается однобоко. Люди разобщены различными религиозными конфессиями. Андреев считает, что назрела необходимость создания «всечеловеческой интеррелигии», на основе которой будет достигнута наибольшая гармония между свободой личности и интересами человечества. На земле должна наступить эпоха, когда жизнь объединившегося человечества будет направляться единой этической инстанцией. Андрееву представляется международная политическая и культурная организация — Всемирная Федерация государств. Будет создан Верховный Ученый Совет, или Лига, который возьмет под свой контроль научную, культурную и техническую деятельность. Во главе «естественнее всего стоять тем, кто совместил в себе три величайших дара: дар религиозного вестничества, дар праведности и дар художественной гениальности».
Андреев следующим образом характеризует «духовно-исторические задачи» Розы Мира: «объединение земного шара в Федерацию государств с этической контролирующей инстанцией над нею, распространение материального достатка и высокого культурного уровня на население всех стран, воспитание поколений облагороженного образа, воссоединение христианских церквей и свободная уния со всеми религиями светлой направленности, превращение планеты — в сад, а государств — в братство. Но это — задачи лишь первой очереди. Их осуществление откроет путь к разрешению задач еще более высоких: к одухотворению природы».
Пафос «Розы Мира» — в сочувствовании и соверовании всему светлому, что есть в различных религиях, в преодолении межрелигиозной вражды, в стремлении ко всечеловеческому братству и духовному обновлению мира. Роза Мира станет итогом соборного творчества людей, объединения духовного опыта всего человечества. «Розу Мира можно сравнить с опрокинутым цветком, корни которого — в небе, а лепестковая чаша — здесь, в человечестве, на земле. Ее стебель — откровение, через него текут духовные соки, питающие и укрепляющие лепестки — благоухающий хорал религий». В Розе Мира произойдет синтез богословия, философии, психологии, культуры, организации.
Результатом Розы Мира должно стать обеспечение каждому занятия, отдыха, досуга, спокойной старости, культурного жилища, удовлетворения всех материальных и духовных потребностей. Задача Розы Мира — преобразование социального типа человечества, совершенствование внутреннего типа человека.
Как устроен мир? Каково место человека в мире? Андреев рисует картину мироздания в виде нескольких многослойных структур. Мир физический, в котором мы живем («энроф»), — только один из слоев в системе слоев («брамфатуры») планеты Земля. Другие миры (слои) граничат с нашим, пронизывают друг друга, как пронизывают планету магнитные поля. Различные слои отличаются друг от друга «либо числом пространственных, либо числом временных координат». Мы не ощущаем другие слои в обычном состоянии. Система слоев Земли («Шаданакар») включает 242 слоя. Кроме брамфатуры Шаданакара существуют брамфатуры Солнца, Юпитера, звездных миров и Вселенной. В различных слоях живут различные существа. Для обозначения слоев и существ, их населяющих, Андреев вводит большой список терминов и имен.
Откуда Андреев знает об этих слоях и существах? Он говорит, что у людей есть возможность выхода «эфирного тела» из «физического вместилища» и странствия по иным слоям (это происходит, когда человек спит). Обычно немногие сохраняют воспоминания об увиденном. О себе же он говорит, что у него были встречи с существами, населяющими другие миры, и что у него приоткрыта «дверь между глубинной памятью и сознанием».
Другие слои — «иноматериальны». Духовных слоев как слоев не существует. Андреев приписывает духовность прежде всего Богу. «Дух творится только Богом, эмануирует из Него». Бог также творит «монады» как некие неделимые духовные единицы. Монады создают материальное. Дух Божий «вездесущ». «Без Него не может существовать ничто, даже то, что мы называем мертвой материей. И если бы Дух Божий покинул ее, она перестала бы быть — не в смысле перехода в другую форму материи или в энергию, но совершенно». Монады участвуют в создании конкретных материальных вещей, а также создании людей. Монады создают «шелы», затем — астральное тело, далее — эфирное тело, наконец, — физическое тело. Это — процесс спуска; в последующем возможен и процесс восхождения от физического тела к монаде.
Андреев дает отличную от традиционной трактовку божественной Троицы. С одной стороны, он понимает Бога Отца как Дух Святой, а с другой — считает, что Богу Сыну сопрестольны неразрывное единство Отца, Приснодевы-Марии. Троица, таким образом, понимается как единство Отца, Приснодевы-Марии и Сына. Андреев отмечает, что важным понятием для духовного опыта людей является культ Великой Женственности, чувство Мирового Женственного начала, Божественной женственности.
Монады обладают свободой воли. Поэтому и существует свобода воли человека; ценно лишь то, что совершается человеком по его свободной воле, а не по принуждению. Личность содержит в себе способность творчества и любви.
Поскольку у монад есть свобода воли, есть «демонические» монады, которые отпали от Бога, отвергли основной объединяющий принцип мироздания — любовь. Поэтому происходит борьба светлых и темных сил. Ареной этой борьбы стала Земля. В жизни человека выбор предопределяется тремя факторами: силами провиденциальными (в основе их законы природы и общества, установленные божеством), силами демоническими и волей.
Переходя к характеристике общественного развития, Андреев вводит понятие метаистории. Метаистория — «совокупность процессов, протекающих в тех слоях инобытия, которые, будучи погружены в другие потоки времени и в другие виды пространства, просвечивают иногда сквозь процессы, воспринимаемые нами как история. Эти потусторонние процессы теснейшим образом с историческим процессом связаны, собою в значительной степени его определяют, но отнюдь с ним не совпадают». У некоторых людей есть способность познавать эти процессы. Андреев, ссылаясь на свой опыт, дает следующую картину метаистории.
В глубине времен некий дух («Люцифер») как свободная монада отпал от Творца. Вслед за ним появились другие «демонические» монады. Они мечтали стать владыками Вселенной, пытались создавать свои миры. В Шаданакар вторгся сподвижник Люцифера — Гагтунгр. «Замысел Гагтунгра — превращение всех в жертвы». Поэтому идет борьба сил света с силами зла и тьмы, противостояние любви и насилия.
Андреев также полагает, что над культурами на Земле стоят некие метакультуры, определяющие культуру различных исторических эпох и стран. Одна из них — «небесная Россия», идеальная Соборная Душа русского народа. Вершины мета-культур — «затомисы», их пространство четырехмерно, они отличаются друг от друга числом временных координат. Всего существует 19 затомисов.
В метакультурах есть высшие и низшие слои. В метакультуру вторгаются демонические силы (уицраоры), которые вступают в борьбу с творческим демиургом метакультуры. Арена их борьбы — человечество. Андреев трактует русскую историю как результат борьбы и преобладания той или иной стороны в метакультуре. Так, Иван Грозный был послан на землю дьяволом, но не смог до конца выполнить все поставленные перед ним задачи. Демоническими силами инспирирована и деятельность Сталина. А перед Петром I «народоводитель Российской метакультуры» поставил позитивную задачу, которую и старался решить Петр.
Борьба добра и зла проявляется и в судьбе людей. Андреев говорит, что есть высшие, светлые миры и миры возмездия, в которых люди после смерти «развязывают узлы своей кармы», т. е. искупают грехи. И чем больше грехов, тем глубже человек погружается в темные миры и тем больше времени и усердия требуется для искупления.
Андреев говорит, что для разрешения исторических задач в культуре появляются «вестники». «Вестник — это тот, кто, будучи вдохновляем даймоном, дает людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого слова высшую правду и свет, льющиеся из миров иных». В России вестниками были Пушкин, Лермонтов, А. К. Толстой и др. Андреев полагает, что некоторые выдающиеся деятели искусства вместе с созданными ими образами попадут в высшие слои метакультуры (Толстой, Достоевский и другие вместе с их героями).
России предстоит особая роль. Именно из России начинает шествие Роза Мира, именно Россия призвана «стать во главе создания интеррелигии и интеркультуры». Но Роза Мира — не конец истории. Андреев описывает пришествие демонических сил, «князя мира», господство сил зла. Но «князь мира» неизбежно падет, наступит анархия, последняя мировая война. Зло просуществует недолго, поскольку оно несет в себе самоуничтожение. В конце истории явится Христос, произойдет просветление всех слоев мира, на Земле не останется зла, страданий, болезней, смерти. Таким будет новое состояние человечества. Добро победит зло. В космосе воцарится мир и покой.
Вопросы для повторения
Какие изменения в идеологии интеллигенции характерны для начала века?
Что означал призыв к «смене вех»?
Как оценивали европейскую культуру евразийцы?
В чем евразийцы видели специфику России?
К какому обновлению религии призывал В. В. Розанов?
О каких тайнах мира говорил Д. С. Мережковский?
Что такое «мэон» у Н. А. Бердяева?
О каких видах свободы говорил Н. А. Бердяев?
Что значит «антроподицея» у Н. А. Бердяева?
В чем заключается антиномия русской души и русская идея у Н. А. Бердяева?
Как понимает С. Н. Булгаков Софию?
Что такое «хозяйство» у С. Н. Булгакова?
В чем состоит антиномичность религии по П. А. Флоренскому?
Что П. А. Флоренский понимает как «Столп Истины»?
Какую структуру религиозного опыта предложил С. Л. Франк?
Что такое «субстанциальные деятели» у Н. О. Лосского?
В чем состоит интуиционизм Н. О. Лосского?
Как И. А. Ильин рассматривает соотношение материального и духовного начал в человеке, обществе, истории?
Какие правила борьбы со злом предлагает И. А. Ильин?
О каких аксиомах (законах) правосознания говорил И. А. Ильин?
Как П. Д. Успенский приходит к концепции многомерных пространств и «потустороннего мира»?
Что говорит П. Д. Успенский о возможности познания «потустороннего мира»?
Что такое «Роза Мира» у Д. А. Андреева?
Как представлял структуру мироздания Д. А. Андрееев?
Что такое метаистория и метакультура у Д. А. Андреева?
