
Билет №3.
1. Софокл (биография, его вклад в развитие театрального искусства). Трагедии «Царь Эдип», «Эдип в Колоне», «Антигона», «Электра».
2. Актеры, хор, зрители в Древнегреческом театре.
3. Комедия масок – ателлана.
4. Римский театр эпохи Республики (сер. III – конец I в. до н.э.) Появление литературной драмы в Риме. Ливий Андроник. Создатель паллиаты и тогаты – Гней Невий.
***
Ответы на билет №4.
1. Софокл (биография, его вклад в развитие театрального искусства).
Годы жизни: 496 – 406 до н.э.
Софокл происходил из зажиточной семьи владельца оружейной мастерской и получил хорошее образование. Его художественная одаренность появилась еще в раннем возрасте: в 16 лет он руководил хором юношей, прославлявших обеду при Саламине, а позже сам выступал как актер в собственных трагедиях, пользуясь большим успехом. В 468 г. до н.э. он одержал победу над Эсхилом.
Софокл принимал участие и в государственной жизни, занимая высокие посты. Так он был избран стратегом (военачальником) и вместе с Периклом участвовал в экспедиции против острова Самоса, решившего отделиться от Афин. После смерти Софокла сограждане почитали его не только как великого поэта, но и как одного из славных афинских героев.
До нас дошли только семь трагедий Софокла. Всего Софоклом было написано свыше 120 трагедий. Трагедии Софокла несут в себе новые черты. Если у Эсхила главными героями были боги, то у Софокла действуют люди, хотя и несколько приподнятые над действительностью. Поэтому о Софокле говорят, что он заставил трагедию спуститься с неба на землю. Основное внимание Софокл уделяет человеку, его душевным переживаниям. Конечно, боги иногда появляются в его трагедиях и они все также могущественны, но Софокл рисует, прежде всего, борьбу человека за осуществление своих целей, его мысли и чувства, показывает страдания, выпавшие на его долю.
У героев Софокла обычно такие же цельные характеры, как и у героев Эсхила. Сражаясь за свой идеал, они не знают душевных колебаний. Борьба вовлекает героев в величайшие страдания, а иногда заканчивается гибелью. Но отказаться от нее они не могут, потому что ведет их на борьбу гражданский и нравственный долг. Как и Эсхил, Софокл верил в могущество богов и отрицал целый ряд убеждений софистов. Например, он отвергал положение Протагора о том, что человек есть мера всех вещей. Наоборот, в трагедиях Софокла не раз говорится о том, что человек ограничен в знаниях и о том, что по поведению человек может совершить ошибку и тем самым обречь себя на муки. Но вера в богов не приводит Софокла к уничижительному изображению человека. Именно в страданиях выявляются лучшие черты его героев, прежде всего благородство и стойкость духа. Герои трагедий Софокла связаны с коллективом граждан: это – воплощение идеала гармонической личности, который был создан в годы расцвета Афин. Поэтому Софокла называют певцом афинской демократии.
Однако творчество Софокла сложно и противоречиво. Его трагедии отразили не только расцвет, но и назревающий кризис афинской демократии, закончившейся гибелью системы. Греческая трагедия достигает своего совершенства в творчестве Софокла. Именно он ввел третьего актера, увеличил диалоги – эписодии и уменьшил партии хора. Действие стало наиболее живым и достоверным, так как нас цене могли выступать и давать мотивировку своим поступкам и действиям одновременно три персонажа. Однако хор у Софокла продолжал играть важную роль.
Интерес переживания к отдельным личностям побудил Софокла отказаться от трилогий, где прослеживалась обычно судьба целого рода. По традиции он представлял на состязания три трагедии, но каждая из них была самостоятельным произведением. С именем Софокла связано также введение декорационной живописи.
Трагедии «Царь Эдип», «Эдип в Колоне», «Антигона», «Электра».
Трагедии Софокла. Одной из важнейших театральных реформ Софокла было то, что он ввел в спектакль третьего актера – тритагониста и тем самым сделал развитие действия более динамичным, придал характерам большую контрастность и разнообразие.
Увеличение числа актеров до трех (дальше этого количества греческий театр не пошел) привело Софокла к важному нововведению. Впервые мы встречаемся с перипетией – отклонением драматического действия от ведущей к катастрофе прямой линии, т.е. ложное поражение сквозного действия.
Наиболее известные трагедии Софокла: «Царь Эдип», «Эдип в Колоне» и «Антигона». В основе этих трагедий, написанных и поставленных в разное время, лежит миф о фиванском царе Эдипе и о несчастьях, обрушившихся на его род.
Трагедия Софокла «Царь Эдип» (ок. 429 г. до н.э.).
В городе Фивах правили царь Лай и царица Иокаста. От дельфийского оракула царь Лай получил страшное предсказание: «Если ты родишь сына, то погибнешь от его руки». Поэтому, когда у него родился сын, он отнял его у матери, отдал пастуху и велел отнести на горные пастбища Киферона, а там бросить на съедение хищным зверям. Пастуху стало жалко младенца. На Кифероне он встретил пастуха со стадом из соседнего царства — Коринфского и отдал младенца ему, не сказавши, кто это такой. Тот отнес младенца к своему царю. У коринфского царя не было детей; он усыновил младенца и воспитал как своего наследника. Назвали мальчика — Эдип. Эдип вырос сильным и умным. Он считал себя сыном коринфского царя, но до него стали доходить слухи, будто он приемыш. Он пошел к оракулу спросить: чей он сын? Оракул ответил: «Чей бы ты ни был, тебе суждено убить родного отца и жениться на родной матери». Эдип был в ужасе. Он решил не возвращаться в Коринф и пошел, куда глаза глядят. На распутье он встретил колесницу, на ней ехал старик с гордой осанкой, вокруг — несколько слуг. Эдип не вовремя посторонился, старик сверху ударил его стрекалом, Эдип в ответ ударил его посохом, старик упал мертвый, началась драка, слуги были перебиты, только один убежал. Такие дорожные случаи были не редкостью; Эдип пошел дальше. Он дошел до города Фивы. Там было смятение: на скале перед городом поселилось чудовище Сфинкс – женщина с львиным телом, она задавала прохожим загадки, и кто не мог отгадать, тех растерзывала. Царь Лай поехал искать помощи у оракула, но в дороге был кем-то убит. Эдипу Сфинкс загадала загадку: «Кто ходит утром на четырех, днем на двух, а вечером на трех?» Эдип ответил: «Это человек: младенец на четвереньках, взрослый на своих двоих и старик с посохом». Побежденная верным ответом, Сфинкс бросилась со скалы в пропасть; Фивы были освобождены. Народ, ликуя, объявил мудрого Эдипа царем и дал ему в жены Лаеву вдову Иокасту.
Прошло много лет, и вдруг на Фивы обрушилась страшная чума. Народ обратился к Эдипу за помощью. Эдип ответил, что отправил своего помощника Креонта за мудрым советом к оракулу. Вернувшийся помощник принес весть от оракула: «Эта божья кара — за убийство Лая; найдите и накажите убийцу!».
Эдип объявляет свой царский указ: найти убийцу Лая, отлучить его от огня и воды, от молений и жертв, изгнать его на чужбину, и да падет на него проклятие богов! Он не знает, что этим он проклинает самого себя. Вскоре он об этом узнаёт.
В Фивах живет слепой старец, прорицатель Тиресий: не укажет ли он, кто убийца? «Не заставляй меня говорить, — просит Тиресий, — не к добру это будет!» Эдип гневается: «УЖ не сам ли ты замешан в этом убийстве?» Тиресий вспыхивает: «Нет, коли так: убийца — ты, себя и казни!» — «УЖ не Креонт ли рвется к власти, уж не он ли тебя подговорил?» — «Не Креонту я служу и не тебе, а вещему богу; я слеп, ты зряч, но не видишь, в каком живешь грехе и кто твои отец и мать». — «Что это значит?» — «Разгадывай сам: ты на это мастер». И Тиресий уходит. Хор поет испуганную песню: кто злодей? кто убийца? неужели Эдип? Нет, нельзя этому поверить! Входит взволнованный Креонт: неужели Эдип подозревает его в измене? «Да», — говорит Эдип. «Зачем мне твое царство? Царь — невольник собственной власти; лучше быть царским помощником, как я». Они осыпают друг друга жестокими упреками. На их голоса из дворца выходит царица Иокаста — сестра Креонта, жена Эдипа. «Он хочет изгнать меня лживыми пророчествами», — говорит ей Эдип. «Не верь, — отвечает Иокаста, — все пророчества лживы: вот Лаю было предсказано погибнуть от сына, но сын наш младенцем погиб на Кифероне, а Лая убил на распутье неведомый путник». — «На распутье? где? когда? каков был Лаий с виду?» — «По пути в Дельфы, незадолго до твоего к нам прихода, а видом был он сед, прям и, пожалуй, на тебя похож». — «О ужас! И у меня была такая встреча; не я ли был тот путник? Остался ли свидетель?» — «Да, один спасся; это старый пастух, за ним уже послано». И тут в действии происходит поворот. На сцене появляется неожиданный человек: вестник из соседнего Коринфа. Умер коринфский царь, и коринфяне зовут Эдипа принять царство. Эдип омрачается: «Да, лживы все пророчества! Было мне предсказано убить отца, но вот — он умер своею смертью. Но еще мне было предсказано жениться на матери; и пока жива царица-мать, нет мне пути в Коринф». «Если только это тебя удерживает, — говорит вестник, — успокойся: ты им не родной сын, а приемный, я сам принес им тебя младенцем с Киферона, а мне тебя там отдал какой-то пастух». «Жена! — обращается Эдип к Иокасте, — не тот ли это пастух, который был при Лае? Скорее! Чей я сын на самом деле, я хочу это знать!» Иокаста уже все поняла. «Не дознавайся, — молит она, — тебе же будет хуже!» Эдип ее не слышит, она уходит во дворец, мы ее уже не увидим. Хор поет песню: может быть, Эдип — сын какого-нибудь бога или нимфы, рожденный на Кифероне и подброшенный людям? так ведь бывало! Но нет. Приводят старого пастуха. «Вот тот, кого ты мне передал во младенчестве», — говорит ему коринфский вестник. «Вот тот, кто на моих глазах убил Лая», — думает пастух. Он сопротивляется, он не хочет говорить, но Эдип неумолим. «Чей был ребенок?» — спрашивает он. «Царя Лая», — отвечает пастух. Теперь наконец все понял и Эдип. «Проклято мое рождение, проклят мой грех, проклят мой брак!» — восклицает он и бросается во дворец. Хор опять поет: «Ненадежно людское величие! Нет на свете счастливых! Был Эдип мудр; был Эдип царь; а кто он теперь? Отцеубийца и кровосмеситель!» Из дворца выбегает вестник. За невольный грех — добровольная казнь: царица Иокаста, мать и жена Эдипа, повесилась в петле, а Эдип в отчаянии, охватив ее труп, сорвал с нее золотую застежку и вонзил иглу себе в глаза, чтоб не видели они чудовищных его дел. Дворец распахивается, хор видит Эдипа с окровавленным лицом. «Как ты решился?..» — «Судьба решила!» — «Кто тебе внушил?..» — «Я сам себе судья!» . Верный Креонт, забыв обиду, просит Эдипа остаться во дворце: «Лишь ближний вправе видеть муки ближних». Эдип молит отпустить его в изгнание и прощается с детьми: «Я вас не вижу, но о вас я плачу…» Хор поет последние слова трагедии: «О сограждане фиванцы! Вот смотрите: вот Эдип! / Он, загадок разрешитель, он, могущественный царь, / Тот, на чей удел, бывало, всякий с завистью глядел!.. / Значит, каждый должен помнить о последнем нашем дне, / И назвать счастливым можно человека лишь того, / Кто до самой до кончины не изведал в жизни бед».
Трагедия Софокла «Эдип в Колоне» (поставлена в 401 году до н.э. после смерти Софокла).
После долгих странствий, очищенный страданием и прощенный богами, Эдип чудесным образом умирает – его поглощает земля. Это происходит в пригороде Афин – Колоне. Могила страдальца становится святыней афинской земли.
Трагедия Софокла «Антигона» (ок. 442 г. до н.э.).
Сюжет третьей трагедии – «Антигона» - взят из заключительной части мифа, в котором речь идет о братоубийственной распре из-за власти между сыновьями Эдипа – Этеоклом и Полиником, об одновременной их смерти и о погребении тела Полиника его сестрой Антигоной.
Трагедия Софокла «Электра».
Здесь разрабатывается тема “Хоэфор” Эсхила. Правота Ореста не вызывает сомнений у Софокла. Как и у Эсхила, он выполняет волю Аполлона. Орест не испытывает угрызений совести, его не преследуют Эриннии. Но, в отличие от трагедии Эсхила, главной героиней у Софокла становится Электра, которая своим величием напоминает Антигону. Она сознательно выбирает своим уделом страдание. В течение ряда лет она остается единственной носительницей протеста против власти Клитемнестры и Эгисфа, подвергаясь всческим унижениям. Непримиримость Электры оттеняется полной покорностью ее сестры Хрисофемиды. Электра у Софокла менее схематична, чем у Эсхила. Это страстная натура, чывства которой проявляются бурно – и в горе (узнав о мнимой смерти брата), и в негодовании на мать, и в радости (от встречи с живым Орестом). Орест же, наоборот, более человечен у Эсхила. Перед убийством матери он растерянно спрашивает у друга: “Пилад, что делать?” У Софокла он беспощаден: он выполняет волю Аполлона. Образ Клитемнестры лишен тово трагического величия, которым наделил ее Эсхил.
2. Актеры, хор, зрители в Древнегреческом театре.
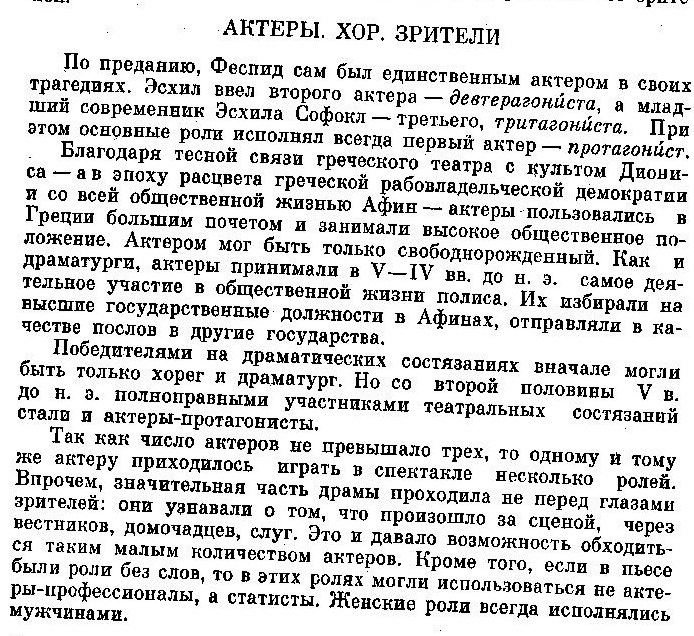

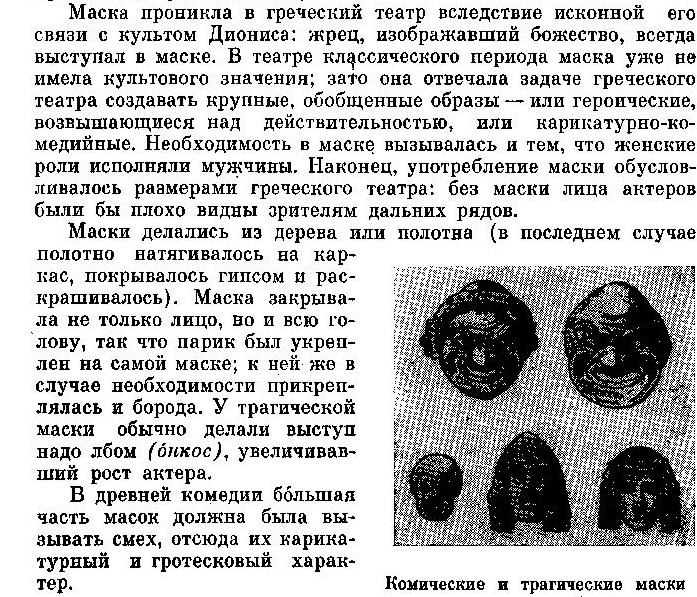
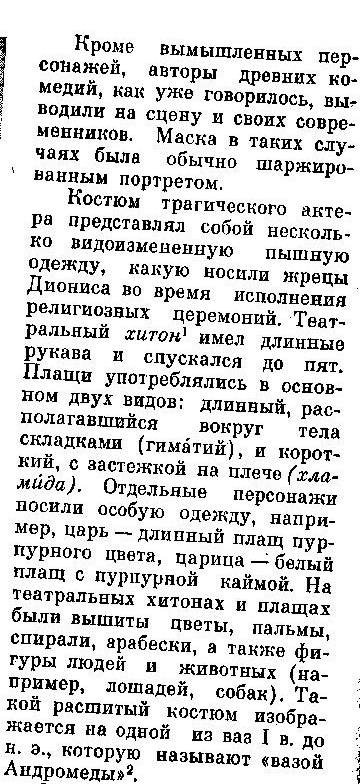
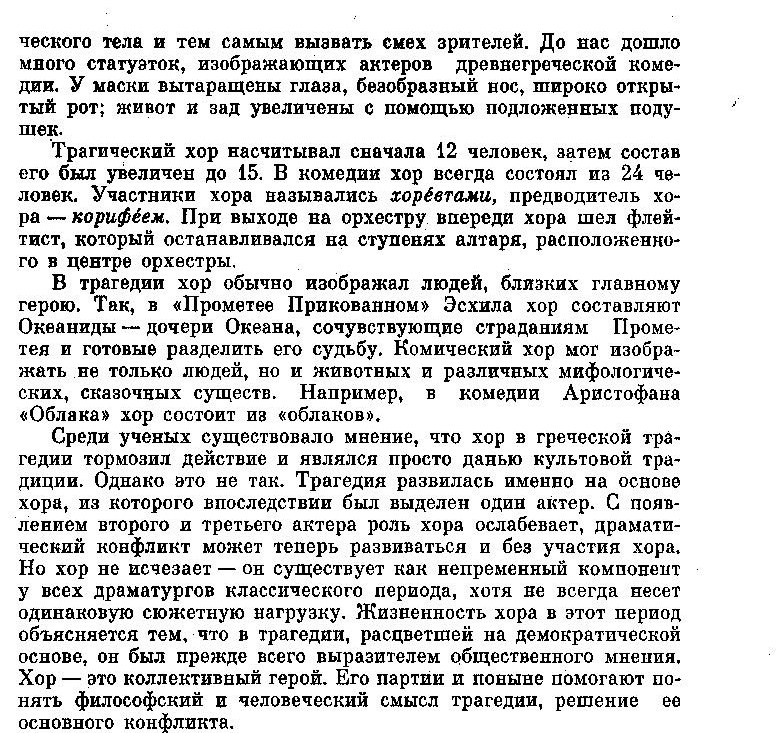
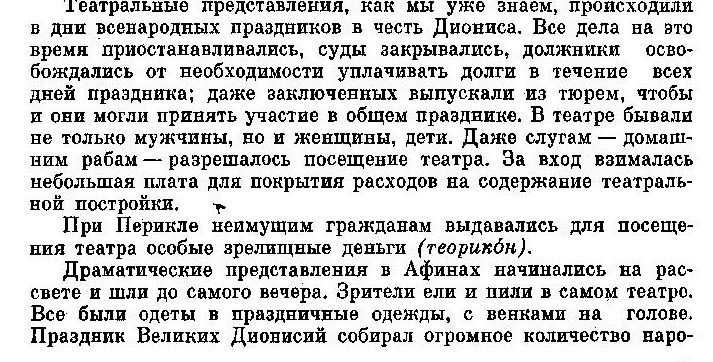
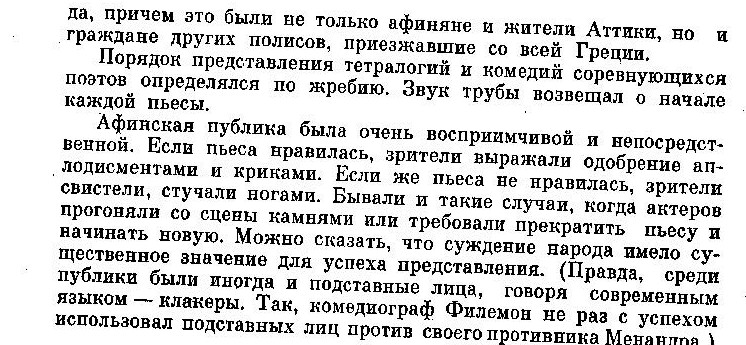
3. Комедия масок – ателлана.
Ещё одним видом ранних драматических представлений, также комического характера, были ателланы. Римляне заимствовали их от племени осков, живших на юге Италии в городке Ателла. Ателланы – это короткие фарсовые выступления в духе буффонады, отличались большой грубости и писались нелитературным латинским языком (нецензурной лексикой). Молодежь увлеклась этими играми и стала устраивать их в дни праздников. Участие в таких представлениях не несло в те времена никакого бесчестья для граждан, тогда как позже, когда у римлян появилась литературная драма, актерская профессия стала считаться постыдной.
В ателлане действовали четыре постоянных комических персонажа – Макк, Буккон, Папп и Доссен. Макк представлял собой дурака, которого все обманывали и били. Он был обжорой и в то же время крайне влюбчивым, что создавало массу комических ситуаций. Его изображали лысым, с крючковатым носом, ослиными ушами и в короткой одежде. Буккон был смышленым парнем с раздутыми щеками и отвисшими губами. Он тоже любил хорошо поесть, но губы отвисли у него нет от обжорства, а от чрезмерной болтовни. Папп – богатый, скупой и глупый старик. Доссен – хитрый горбун, невежда и шарлатан, который умел своей болтовнёй внушать тёмным людям уважение к себе.
Эти четыре персонажа – маски были главными героями ателланы, к ним могли присоединиться другие персонажи народного театра. Твёрдого текста ателланы не имели, поэтому при их исполнении открывался широкий простор для импровизации.
Таким образом, в Риме существовали примерно те же самые обрядовые игры, что и в Греции. Но дальше слабых зачатков развитие народной драмы не пошло. Жанры ранних драматических представлений (ателлана, мимические пляски) были заимствованы римлянами у соседних племён. Это объясняется общим консервативным укладом римской жизни и сопротивлением жрецов. Поэтому в Риме не сложилось самостоятельной богатой поэтическими образами мифологии, которая в Греции послужила «почвой и арсеналом» искусства, в том числе драмы.
4. Римский театр эпохи Республики (сер. III – конец I в. до н.э.) Появление литературной драмы в Риме. Ливий Андроник. Создатель паллиаты и тогаты – Гней Невий.
Римляне взяли готовую драму у греков и перевели её на латинский язык, приспособив к своим понятиям и вкусам. Объясняется это исторической обстановкой того времени. Завоевание южноиталийских городов, обладавших всеми сокровищами греческой культуры, не могло бесследно пройти для римлян. Греки впервые оказались в Риме в качестве пленных, заложников дипломатических представителей, педагогов. Знание греческого языка все шире распространяется среди нобилей. Греческое культурное влияние усиливается во время Пунических войн (264-241 гг до н.э. и 218-201 гг до н.э.), порожденных экономическим и политическим соперничеством Рима и Карфагена. Войны окончились победой Рима.
В 240 г. до н.э. во время праздничных игр, посвященным победе в первой Пунической войне было решено устроить драматическое представление. Постановку поручили грек Ливию Андронику, попавшему в Рим в качестве военнопленного. Он стал рабом римского сенатора, от которого и получил свое римское имя Ливий. Отпущенный затем на волю, Ливий Андроник стал обучать греческому и латинскому языкам сыновей римской знати. Этот школьный учитель и поставил во время игр трагедию, переработанную с греческого образца. Эта постановка дала первый толчок развитию римского театра.
Ливий Андроник написал 14 трагедий и 3 комедии. Все эти произведения не отличались совершенством. По словам Цицерона, они были так плохи, что прочитать их второй раз было невозможно. Однако заслуга Андроника состоит в том, что он стал родоначальником римской драматургии.
С 235 г. до н.э. начинает ставить на сцене свои пьесы драматург Гней Невий (280-201 гг до н.э.) Он был уроженцем латинского городка в Кампании и принадлежал к плебейскому роду. Принимал участие в первой Пунической войне, после которой поселился в Риме и стал заниматься литературной деятельностью.
Гнея Невия с полным основанием можно назвать первым самобытным римским поэтом. Его стихи (сатуры), драмы, поэма «Пуническая война» отличались самостоятельностью в художественном и в идейном отношении.
Гней Невий старался сделать литературу актуальной, он рассматривал театр как арену бичевания пороков и раболепства. В ряде его произведений звучат насмешки над нарушавшими демократические принципы римскими государственными деятелями, например над могущественным в то время родом аристократов Метеллов. Метеллы потребовали наказание Невия и он был заключен в тюрьму, откуда ему удалось освободиться лишь благодаря заступничеству народных трибунов. Но все же Невий не смог жить в Риме – он был вскоре изгнан и умер в безвестности в одной из римских колоний в Северной Африке.
В начале своей деятельности Невий писал трагедии по греческому образцу на тему троянского цикла мифов. Но вскоре он выступил с трагедиями на сюжеты из римской истории. Такая трагедия называлась у римлян – претекста.
Однако наибольшей славы Гней Невий достиг в области комедии. Невий был создателем паллиаты – литературной комедии, которая представляла собой переработку новоаттической, т.е. бытовой греческой комедии. Аристократический сенат Рима никогда бы не допустил политической комедии, подобной греческой комедии Аристофана.
Паллиата ставилась в Риме в течении III-II века до н.э. Свое название она получила от греческого широкого плаща – паллия, так как действие всегда происходило где-нибудь в Греции и ее герои носили греческую одежду.
Хотя Невий и придерживался греческих оригиналов, обрабатывал он их гораздо свободнее, чем Ливий Андроник. Невий первый применил контаминацию – соединение в римской комедии сюжетных линий двух или трех греческих.
Возможно, что Невий был основоположником римской национальной комедии – тогаты.
Одновременно с Невием и после него писали трагедии и другие поэты – Энний (239-169 г. до н.э.), Пакувий (220 – ок.130 г. до н.э.), Акций (170 – ок.85 г. до н.э.) Они брали для переработки всех трех великих греческих трагиков. Но наиболее любимым оригиналом был Еврипид. Его творчество с элементами бытовой драмы и стремлением к жизненному правдолюбию оказалось понятнее римскому зрителю, чем произведения Софокла и Эсхила.
Роль хора в римской трагедии значительно уменьшилась по сравнению с греческой. Хоровые партии переделывались в монодии и дуэты актеров. Как и греческая, римская трагедия писалась стихами.
Ни смотря на попытки римских драматургов приспособить греческую трагедию к римским вкусам, она оказывалась сложной для большей части римской публики. Простой народ с большим удовольствием смотрел комедию: она была проста и ближе к жизни.
Ни комедии, ни трагедии этой поры до нас не дошли. Имеются только небольшие фрагменты, отрывки, оценки и отзывы современников.
