
- •Тема 2. Общее учение о субъектах административно-правовых отношений
- •Тема 3. Система и структура органов исполнительной власти
- •3. По положению в системе государственных органов
- •Тема 4. Государственная служба
- •Тема 6. Административный процесс
- •Право на представление доказательств
- •Тема 7. Методы государственного управления. Виды административной деятельности
- •Тема 8. «Свободная» деятельность государственной администрации – деятельность, не связанная с ограничениями прав частных лиц
- •2008 Год Данные, воспроизведенные на Слушаниях в Государственной Думе (цифры мягко говоря странные)
- •Тема 9. Административная деятельность, связанная с ограничением частной свободы (принуждение в широком смысле)
- •Тема 10. Административный контроль и надзор за деятельностью частных лиц. Административное принуждение.
- •Тема 11. Административная ответственность
- •Тема 12. Производство по делам об административных правонарушениях
- •Общие административно-судебные принципы (принципы, характерные для всех видов юрисдикционных производств – как административных, так и судебных)
- •Особенность производства по делам об административных правонарушениях
Тема 11. Административная ответственность
Понятие и особенности административной ответственности
Административная ответственность – вид юридической ответственности, которая выражается в применении в рамках административной юрисдикции (во внесудебном порядке) уполномоченным органом административного взыскания к лицу, совершившему административное правонарушение.
Это разновидность административного принуждения и особое охранительное административное правоотношение
Административная ответственность рассматривается в отечественном административном праве как вид, определенная форма административного принуждения. Именно поэтому сначала мы рассмотрели все прочие виды и формы административного принуждения и только потом дошли до административной ответственности – тоже разновидности принуждения, но достаточно специфической разновидности, имеющей целый ряд особенностей.
Собственно ответственность как таковую тоже можно рассматриваться как форму государственного принуждения. Наряду с административной ответственностью можно говорить о том, что уголовная ответственность в конечном счете тоже мера принуждения, которая обеспечивает исполнение обязательных предписаний и т. д.
Но в отличие от административной ответственности уголовная ответственность реализуется с участием судов и в этом отношении механизм привлечения к уголовной ответственности предполагает не исключительно административные отношения, но и появление неких процессуальных отношений, связанных с рассмотрением уголовных дел, органы исполнительной власти же могут лишь инициировать возбуждение дела, но они не могут окончательно принимать решение о привлечении к ответственности.
Административная же ответственность в большей степени остается специфическим видом именно административного принуждения в связи с тем, что она по природе своей реализуется в рамках административных правоотношений, т. е. в рамках отношений между органами исполнительной власти и частными лицами. Можно говорить о том, что административная ответственность обладает сразу признаками и вида юридической ответственности (наряду с гражданской, уголовной, дисциплинарной), и одновременно является мерой административного принуждения. Конечно, глядеть на административную ответственность можно под разным углом зрения: можно выделять тот или иной аспект, составляющую и считать ее главной, рассматривать в качестве наиболее существенного элемента природы соответствующего явления – одни делают акцент на том, что административная ответственность должна быть вписана в общую систему административного принуждения и это было характерно для советского административного права, где административная ответственность мало чем отличалась от мер, связанных с принудительной реализацией требований закона органами государственного управления. Тогда административная ответственность была определенным инструментом реализации функций органа государственного управления, одним из инструментов достижения поставленных перед органами государственного управления целей и задач.
Сегодня делать акцент именно в этом ключе, наверное, будет неправильно – сегодня административная ответственность в результате определенной эволюции, которую она претерпела с начала 60-х годов, может рассматриваться в контексте неких общих стандартных представлений о мерах юридической ответственности и не столько как инструмент реализации полномочий органов исполнительной власти, выполнения ими своих функций, сколько как более общий комплексный правовой институт, система мер, направленных на обеспечение действия правовых норм, а не на обеспечение реализации полномочий органов исполнительной власти.
Об административной ответственности принято говорить выделяя некоторые ее особенности и отличия от определенных смежных явлений, в т. ч. отличия от уголовной ответственности, которая имеет с административной ответственностью много общего:
Как административная, так и уголовная ответственность – это ответственность публично-правового характера, , наступающая перед государством, связанная с неисполнением норм действующего законодательства и направленная на установление неблагоприятных последствий, санкций, размер которых напрямую не связан с размером причиненного вреда, т. е. имеющая не компенсационный, а карательный характер, другими словами сопряженная не с возмещением причиненного вреда, а с негативной оценкой и стимулированием правонарушителя больше не совершать правонарушений. Соответственно, и в АО, и УО присутствует целый ряд специфических особенностей, причем если до законодательного закрепления административной ответственности и появления судей в числе должностных лиц, осуществляющих привлечение к административной ответственности, она рассматривалась больше в рамках принудительной реализации полномочий государственных органов, то с законодательным развитием данного института она все больше стала напоминать уголовную ответственность.
Для многих само по себе сравнение АО и УО покажется странным, потому что речь идет об ответственности за совершенно несоизмеримые по общественной опасности деяния, однако с юридической точки зрения, условий механизма, принципов реализации АО, у нее очень много общего с УО.
История развития института административной ответственности. Примерно с середины 20-х годов стали появляться нормативные акты, которые предусматривали полномочия органов государственного управления, причем речь шла, например, о местных исполкомах, по установлению и применению штрафов, налагаемых в административном порядке. Причем в тех актах установление штрафа было привязано к возможности в принципе издать какое-то нормативное предписание. Если, например, местный исполком издавал какую-нибудь инструкцию, устанавливаемые в ней обязанности должны были подкрепляться санкцией за их неисполнение. С точки зрения логики управления это было очень разумно, правильно и обосновано, потому что никакая правовая норма в нашей стране не вызывает уважения до тех пор, пока за ее неисполнение не будет предусмотрена какая-нибудь санкция. Соответственно, местные исполкомы, получая возможность издавать нормативные акты, одновременно получали полномочия в них же устанавливать ответственность за несоблюдение этих нормативных актов, более того, это было вменено им в обязанность и никакой нормативный акт в соответствии с декретами, издаваемыми Совнаркомом в середине 20-х годов, не должен был оставаться без раздела об установлении ответственности за неисполнение этого нормативного акта.
С тех самых 20-30 годов административная ответственность продолжала рассматриваться как обеспечительная часть любой административной деятельности, как разновидность принудительных норм, обеспечивающих исполнение административных предписаний.
К началу 60-х годов руководство советского государства стало осознавать, что передача возможностей устанавливать меры административной ответственности на местный уровень или уровень отдельных регионов государства потенциально несет большую угрозу для граждан (тогда с организациями было сложнее, административная ответственность в советском варианте существовала для граждан, в лучшем случае – должностных лиц, но никогда – для организаций, поскольку все они имели характер государственных и наказать их было практически невозможно, потому что единственное наказание, которое способно эффективно воздействовать на организацию – это имущественные санкции, налагать же на государственную организацию имущественные санкции совершенно бессмысленно, это будет перекладывание из одного государственного кармана в другой)
Соответственно, в результате осознания того, что меры административной ответственности в отношении граждан должны быть как-то систематизированы и упорядочены, в 1961 году был принят указ Президиума Верховного совета СССР об ограничении установления штрафов, налагаемых в административном порядке – его смысл заключался в том, чтобы создать на общегосударственном уровне систему санкций и определить условия, при которых эти санкции могут устанавливаться.
С 1961 года это установление административной ответственности как неотъемлемая часть административного регулирования, реализации функций органов исполнительной власти понемногу стало преодолеваться, и постепенно административная ответственность стала отрываться от тех актов, в которых содержались нормы, неисполнение которых должно было повлечь наступление административной ответственности.
И эта тенденция продолжилась, когда в 1981 году появились основы законодательства СССР об административных правонарушениях, а вслед за ними – кодексы республик об административных правонарушениях. В РСФСР такой кодекс был принят в 1984 году и просуществовал до принятия ныне действующего кодекса 2001 году, выполняя функцию акта, систематизировавшего административную ответственность, все санкции, которые могут рассматриваться как меры административной ответственности.
Когда происходило это общее системное закрепление механизмов административной ответственности, последнюю оторвали от собственно актов исполнительной власти и тем самым способствовали изменению теоретического взгляда на природу этой ответственности. Административную ответственность в том варианте, в котором она существовала до 60-х годов, можно было считать исключительно мерами административного принуждения. В том виде, в котором она стала существовать после 60-х годов, она стала рассматриваться как вид ответственности, наступающей за совершение правонарушений необязательно административного характера.
Как известно, правоотношения могут быть регулятивными и охранительными. Цель охранительных правоотношений – обеспечить реализацию прав и обязанностей сторон в регулятивном правоотношении. Административная ответственность до тех пор, пока ее не оторвали и не вывели на самостоятельный уровень законодательного регулирования, была охранительной системой, действовавшей для обеспечения реализации именно регулятивных административных правоотношений. После того, как она оторвалась от административных актов, она стала обеспечивать реализацию прав и обязанностей гражданских, трудовых, конституционных и всех прочих видов правоотношений, ее предмет стал расти, и она постепенно превратилась в «малую уголовную» ответственность. Как уголовная ответственность не ограничена охраной какой-то отдельной группы норм, а обеспечивает охрану любых правоотношений, если их нарушение сопряжено с существенной общественной опасностью, также и административная ответственность стала обеспечивать реализацию мер защиты разнообразных по отраслевой принадлежности регулятивных правоотношений
В советском праве на эту тему мало у кого возникали размышления, потому что деятельность практически любых государственных органов и государственных учреждений так или иначе попадала в сферу административно-правового регулирования. Ситуация, которая у Белова вызывала вопросы и недоумение очень давно: Когда в общественном транспорте устанавливается ответственность – штраф за безбилетный проезд. Какова природа этой ответственности? До кодекса 2001 года ответственность была установлена в кодексе об административных правонарушениях. Если считать административные меры реализацией и обеспечением только административных актов, то в этом случае возникает вполне закономерный вопрос – причем здесь административная ответственность, если речь идет о неисполнении обязательств по договору перевозки? В этом случае отношения носят чисто гражданско-правовой характер и почему здесь вмешивается административное право и устанавливается административная санкция – малообъяснимо. Были попытки в этом случае сослаться на то, что существуют правила пользования общественным транспортом. Правила пользования могут рассматриваться как административный акт, но примерно такой же административный акт как правила продажи отдельных видов товаров – сам по себе этот административный акт не меняет природы тех отношений, на упорядочение которых он направлен. То, что в правилах пользования написано, что каждый пассажир обязан оплатить проезд, не превращает эту обязанность в административную, потому что она никак не связана с реализацией функций управления, а связана с оказанием услуг и эта обязанность, хотя и предусмотренная административным актом, все равно по природе своей остается гражданско-правовой. Сегодня КоАП санкции за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте, кроме междугородного и международного сообщения не устанавливает – это отдано субъектам федерации.
Этот пример демонстрирует, что в этом случае объектом охраны становится не административное регулятивное правоотношение, а правоотношение гражданско-правовое. Если рассматривать административную ответственность в координатах административного принуждения, то возникнет закономерный вопрос – почему административное принуждение вмешивается в сферу гражданско-правовое регулирования? Ответить на этот вопрос можно только обозначив предмет административной ответственности более широко, нежели это делали до 60-х годов. Меры административной ответственности – это система мер, обеспечивающих юридическими средствами реализацию положений правовых актов, которые необязательно связаны с регулированием именно административных правоотношений. Именно по этому административную ответственность сегодня нет оснований рассматривать в качестве средства реализации функций органов исполнительной власти.
Но это законодательное развитие института административной ответственности не отменяет целого ряда родовых признаков, которые остались у административной ответственности, в т. ч. реализации ответственности в административном порядке, который упрощен по сравнению с порядком привлечения к уголовной ответственности. Этот порядок касается, во-первых, того, кто осуществляет привлечение к ответственности – это не суд, а орган административной юрисдикции, в основном это именно органы исполнительной власти, в редких случаях – судьи, но все равно не суды, Во-вторых процедуры привлечения к ответственности, которая упрощена по сравнению с механизмом состязательного уголовного процесса, в том виде, в котором он реализован при привлечении к уголовной ответственности
Административная ответственность конечно может вызывать вопросы с точки зрения ее конституционно-правового образования и в этом отношении довольно часто возникает вопрос – следует ли считать административную ответственность ограничением прав и можно ли такое ограничение прав считать допустимым именно в административном порядке с точки зрения конституционности.
КС РФ рассматривал эту проблему применительно к некоторым видам административных санкций (в частности, применительно к конфискации имущества в административном порядке) и пришел к выводу, что некоторые санкции в административном порядке не могут реализовываться в принципе, потому что Конституция прямо требует ограничения права собственности только в судебном порядке (ст. 35), но другие меры ответственности, в т.ч. например административный штраф, могут реализовываться в административном порядке и хотя это ограничение прав, оно может рассматриваться как реализуемое с правовой точки зрения в рамках именно административных правоотношений. Соответственно, можно обосновывать, почему именно, например, административные штрафы могут применяться в административном порядке, а никакие более суровые меры ответственности (например, штрафы, предусмотренные уголовным законодательством) в административном порядке, вне состязательной судебной процедуры, применяться не могут. Обычно в обоснование приводится два основных аргумента
Санкции, которые реализуются в рамках административной ответственности не столь значительны и не представляют собой слишком серьезного ограничения прав.
Реализация мер административной ответственности именно в административной порядке необходима как элемент оперативной, требующей постоянного достаточно быстрого реагирования со стороны органов исполнительной власти реализации их полномочий и в этом отношении когда речь идет о привлечении к административной ответственности, она должна быть реализована быстро в виду необходимости обеспечить, например, безопасность.
В начале 90-х годов обсуждался вопрос об обоснованности существования ее как таковой. Некоторые горячие головы говорили о том, что в демократическом государстве органы исполнительной власти не должны обладать юрисдикционными полномочиями, а любе санкции должны применяться только судом.
Сегодня достаточно очевидно, что административная ответственность, даже если она таковой не называется, как явление существует практически во всех странах мира и ничего недемократического в самой природе административной ответственности, в самом факте ее существования и механизме ее реализации нет (За нарушение правил парковки полицейский может выписать штраф практически в любом государстве мира и это не требует предварительного судебного рассмотрения).
Отличия административной ответственности от уголовной
Принципиальных различий нет. Есть только некоторые особые черты, которые отличают административную ответственность от уголовной.
Общественная опасность. По этому поводу в административно-правовой литературе велись дискуссии о том, обладает ли вообще административное правонарушение таким признаком как общественная опасность. Многие пытались обосновывать точку зрения о том, что если уголовное преступление посягает на сами устои общества, на какие-то глобальные общественные ценности и глобальные характеристики правопорядка, то административное правонарушение такой опасности не имеет. Следовательно, можно говорить только о неком вреде, который оно причиняет общественным отношениям, но не об общественной опасности.
Именно этой точкой зрения видимо руководствовался законодатель, который в ст. 2.1 КоАП не указал на общественную опасность как на признак административного правонарушения.
Но в то же время есть другая позиция, которая с практической точки зрения весьма удобна, хотя и тоже отвечает далеко не на все вопросы. Сводится она к тому, что любое правонарушение так или иначе общественно опасно, оно представляет собой опасность для общества. Другое дело, что степень общественной опасности может быть разной, и если преступление – это общественно опасное деяние, то административное правонарушение – это деяние, которое отличается меньшей степенью общественной опасности. Меньшая степень может иметь разные измерения, может формализовываться разным способом либо наступают менее тяжкие последствия. Скажем до тех пор, пока ДТП не связано с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью – это административное правонарушение, как только появляются жертвы – это становится преступлением. По размеру причиненного ущерба: до 1500 рублей – мелкое хищение (административное правонарушение), свыше – преступление.
Во-вторых, меры административного наказания носят менее суровый характер по сравнению с уголовным наказанием в видах наказания, размерах отдельных видов наказаний и пределах ограничения прав. Среди санкций в рамках административной ответственности самая суровая – это административный арест, продолжительностью до 15 суток (по общему правилу, но все равно это сроки, исчисляемые буквально сутками, в то время как в рамках уголовной ответственности арест или лишение свободы могут представлять собой гораздо более длительное наказание). Размеры штрафов – законодатель формализует и достаточно четко показывает границу: до 2500 рублей – это административный штраф, свыше 2500 рублей – это уже уголовный штраф.
В-третьих, административная ответственность несут не только физические, но и юридические лица, из чего вытекают экономические черты административной ответственности. Это то, что стало особенностью административной ответственностью в 90-е годы 20 века и то, что сейчас явственно отличает в российском законодательстве административную ответственность от уголовной. Публично-правовая ответственность юридических лиц – это явление довольно своеобразное, специфическое. Глобально наличие такого субъекта меняет представление о характере, содержании, природе ответственности, потому что ответственность физических лиц и ответственность юридических лиц принципиально разная. В сухом остатке - Соответственно административная ответственность может охватить в том числе и юридических лиц как субъектов правонарушения.
Наконец, в-четвертых, привлечение к административной осуществляется в упрощенном порядке, по административно-юрисдикционной процедуре, не требующей состязательного процесса и позволяющей реализовать меры ответственности более оперативно.
Законодательство РФ об административных правонарушениях
Рамочный закон – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ – КоАП РФ Не путать с
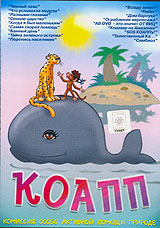
Действующий кодекс имел довольно длинную и сложную историю. Его начали разрабатывать в замен кодекса РСФСР 1984 года в конце 90-х годов, считая, что в целом все советское законодательство, так или иначе не отвечающее требованиям новых реалий, должно быть заменено. И первый вариант кодекса об административных правонарушениях был рассмотрен и принят государственной думой РФ, одобрен советом федерации в 2000 году. Этот первоначальный проект «завернул» президент – он наложил вето. Такое явление как применение вето президентом, особенно в условиях нынешней политической системы – это из ряда вон выходящее событие, особенно в тех случаях, когда речь идет о таком существенном, фундаментальном и объемном документе как Кодекс об Административных Правонарушениях.
Президент его вернул, указав на целый ряд недостатков, в основном связанных с юридической определенностью некоторых условий и принципов привлечения к административной ответственности и указав в том числе на то, что кодекс излишне карателен. Например, в вето президента упоминалось про том, что административный арест должен быть исключен из числа видов административных наказаний, потому что для такого упрощенного вида ответственности как административная столь серьезного ограничения прав не должно быть. И вот именно это в кодексе осталось - новый проект, принятый в 2001 году сохранил административный арест.
Если проследить историю, сейчас перечень законов, которые изменяли КоАП 2001 года, наверное, состоит из нескольких десятков и общую тенденцию можно охарактеризовать как постоянное ужесточение административной ответственности – и по видам наказаний, и по широте их применения, и по размерам наказаний. Кодекс сегодня представляет собой гораздо более суровый документ по сравнению с тем, что было в 2001 году.
Про кодекс об административных правонарушениях часто говорят, что это основной акт, систематизирующий один институт административного права, но систематизирующий достаточно полно, включающий практически все нормы, которые касаются административных правонарушений. Но это не совсем так. Поговорим, из чего состоит законодательство об административных правонарушениях.
До 2001 года федеральное законодательство не допускало установление административной ответственности на уровне субъектов РФ. В 2001 году руководствуясь целым рядом соображений, в основном – тем, что ст. 72 Конституции РФ относит административное, административно-процессуальное законодательство к совместному ведению РФ и субъектов РФ.
По сути дела законодатель исходил из необходимости дать субъектам федерации инструмент по обеспечению действия тех правовых норм, которые сами субъекты РФ устанавливают. Если субъект наделен полномочием по изданию каких-то правовых норм, он эти правовые нормы издает, а вот обеспечить их реализацию у него средств нет. Поскольку тут еще Конституция как раз удачно упомянула административное законодательство в числе предметов совместного ведения, Федеральное Собрание и решило «О, как раз мы и дадим возможность субъектам устанавливать административную ответственность».
Но это естественно породило вопросы, сомнения в конституционности. Эти сомнения остались на уровне доктрины, но зато в доктринальных источниках каждый третий упоминает о проблеме установления ответственности на уровне субъектов РФ. А проблема заключается в том, что если ответственность есть ограничение прав, то ограничение прав должно вводится федеральным законом. Соответственно если административная ответственность вводится субъектом федерации, то это требование Конституции не выполняется.
Но практическим контраргументом этим теоретическим построениям стало то, что само по себе административное законодательство, с какой стороны его не поверни, в любом случае связано с ограничением прав. Сама административная деятельность носит властный характер, а любая власть кого-то ограничивает, следовательно, административное право априори связано с ограничениями и нет особой нужды выделять именно административную ответственность как большую проблему. «Давайте уж тогда вообще задумаемся, насколько Конституция РФ обосновано именно к совместному ведению отнесла административное законодательство».
Примерно так, видимо, рассуждал законодатель и если уж субъектам РФ предоставлено право регулировать какие-то административные отношения, значит должна быть возможность и обеспечить защиту тех норм, которые ими установлены.
Но при этом законодатель (на сегодня более подробно, чем 2001 году) распределил предметы ведения в сфере регулирования административной ответственности между федерацией и субъектами. Из этого распределения субъектам фактически досталось только установление конкретных составов административных правонарушений и подведомственности рассмотрения дел об этих составах. Все остальное – виды административных наказаний, правила их назначения, принципы административной ответственности, порядок привлечения (т. е. производство по делу об административном правонарушении и исполнение постановлений) – должно быть урегулировано на федеральном уровне. В этом отношении субъект РФ получает что-то вроде (не воспринимать как строго юридическую характеристику) делегирования полномочий от федерации на установление административной ответственности.
И в то же время законодатель в одном месте прокололся. Ст. 4.2 КоАП РФ, где речь идет о перечне смягчающих обстоятельств – вопросе, носящем общий, хотя не то чтобы совсем сильно принципиальный, характер, предполагает, что перечень смягчающих обстоятельство может быть дополнен субъектом РФ. С точки зрения логики здесь есть определенный аргумент, почему это сделано именно в данном случае – потому что смягчающие обстоятельства это улучшение положения лица и, соответственно, дополнительные гарантии могут быть предоставлены на уровне субъекта, а вот дополнить перечень отягчающих обстоятельств, субъект федерации не может(поскольку это представляло бы собой дополнительные ограничения). В этом отношении это могло бы выглядеть оправданным, но, наверное, перечнем смягчающих обстоятельств нельзя ограничивать те дополнительные гарантии, которые субъект федерации мог бы установить в своем законодательстве.
Некоторые субъекты пытаются издать кодексы об административных правонарушениях или некие иные систематизированные нормативные акты. В 2010 году законодательство СПБ об административной ответственности было систематизировано, кодекс, конечно, не приняли, но издали закон, в котором урегулированы все вопросы административной ответственности. Так вот вопрос формирования общих положений, некой общей части, такого законодательного акта, вызывает большие сомнения, потому что ничего общего субъект федерации фактически регулировать не может.
В то же время, несмотря на предоставление субъектам права устанавливать отдельные составы административных правонарушений, осталась в кодексе определенная проблема, причем проблема мягко говоря имеющая явно практический смысл. Речь идет о том, в каких случаях субъекты федерации могут издавать законы, устанавливающие административную ответственность?
Как уже говорилось, основная мысль федерального законодателя была в том, чтобы дать субъекту федерации возможность установить санкции, обеспечивающие действие норм, им же устанавливаемых. В этом отношении в ст. 1.3 КоАП были предусмотрены правила о том, что на уровне субъекта РФ может устанавливаться административная ответственность, если она не вводится на федеральном уровне, а точнее – к исключительному ведению федерального законодателя в области административной ответственности относится установление мер административной ответственности в случае, если речь идет о нарушении федерального законодательства и если правонарушение имеет общефедеральное значение. Соответственно в этом случае законодатель считает, что никаких различий в субъектах РФ быть не может и, следовательно, нужно установить унифицированные меры ответственности на всю Российскую Федерацию.
Но здесь возникает другая проблема, связанная не столько с административным законодательством, сколько с принципами нашей федерации вообще. Дело в том, что в законодательстве РФ очень сложно найти область, которая была бы полностью защищена от вмешательства федерального законодательства и оставалась бы в сфере регулирования только субъекта РФ. Соответственно, законодатель субъекта, пытаясь установить любые меры ответственности, неизбежно рискует наткнуться на федеральный закон, который придется как-то тоже защищать вместе со своим собственным законодательством, а защищать федеральный закон субъект федерации не должен.
Фактически то, что не вызывает сомнений и то, что осталось очевидно субъектам федерации – это установление административной ответственности в сфере благоустройства. Вот с благоустройством, если оно не касается градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологических норм и стандартов, вопросов организации дорожного движения, то это может считаться собственной сферой регулирования субъекта РФ. Если строго смотреть, то вопросов благоустройства, не подпадающих под все перечисленное, почти не останется.
Проблемы, которые возникали в судах, были разнообразны
Во-первых, проблема соотношения федерального законодательства и законодательства субъектов получила разрез подведомственности. Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2004 N 137-О была связано с такой проблемой: у законодателя, когда он конструировал КоАП, было явное намерение все составы, которые в КоАПе сформулированы, отнести к подведомственности федеральных органов исполнительной власти, что в общем было логично – если состав установлен на федеральном уровне, значит и привлекать должны федеральные органы исполнительной власти. Но получилось так, что, например, ст. 15.14 КоАП РФ («нецелевое расходование бюджетных средств») оказалась работающей только на федеральном уровне, потому что проверка целевого использования бюджетных средств на уровне субъектов федерации или на уровне муниципальных образований непосредственно никак не связана с контрольной деятельностью федеральных органов власти и в этом случае реализовать меры ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств, если это правонарушение было выявлено Счетной палатой субъекта РФ, можно было только обратившись к федеральному органу (например, в прокуратуру) с просьбой возбудить производство по делу об административном правонарушении. В итоге получалась полная ерунда: весь финансовый контроль в соответствии с бюджетным законодательством сосредоточен на уровне субъекта федерации, а то, что касается реализации мер ответственности – обращайтесь в федеральные органы. Соответственно. КС РФ, посмотрев на это, сказал, что наверное, в принципе конечно субъектам РФ нужно было бы предоставить право продублировать соответствующие санкции в своем законе, но написать, что это имеет отношение к бюджету соответствующего субъекта РФ и, например, ответственность за нецелевое расходование средств бюджета Санкт-Петербурга установить в законе СПБ (а обращался комитет финансов Санкт-Петербурга). Сама по себе позиция КС РФ, наверное, оправдана с точки зрения логики и здравого смысла, но она никак не совпадает с тем, что написано в КоАП. В итоге Федеральный законодатель счел за лучшее передать на уровень субъектов РФ некоторые полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях, но оставив за собой возможность устанавливать общие санкции.
Зачастую составами, предусмотренными КоАП, не охватываются все возможные варианты объективной стороны правонарушения возможно ли дополнение в законах субъектов имеет неоднозначное решение в судебной практике (см. Мицкевич Л. А. Законодательство субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях // Административная ответственность: Вопросы теории и практики / Отв. ред. Н. Ю . Хаманева. М.: ИГП РАН,2004.)
Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2005 N 5: когда речь идет либо об охране отношений, которые уже получили защиту в КоАП РФ, либо о применении ответственности за нарушение федеральных нормативно-правовых актов, субъекты устанавливать ответственность в своих нормативных актах не должны.
Первая проблема связана с составом законодательства на федеральном уровне. Дело в том, что сама идея принятия кодекса предполагает отмену всех нормативных актов федерального уровня, которые устанавливают административную ответственность.
В этом русле было принято довольно много поправок в действующее законодательство в части, например, отмены всех положений, касающихся ответственности в Таможенном Кодексе РФ. Это + та формулировка, которая содержалась в ст. 1.1 КоАП, позволило многим утверждать, что законодатель стремится исчерпывающим образом урегулировать администартивную ответственность в КоАП
Но когда дело дошло до практики применения, оказалось, что далеко не из всех законодательных актов были изъяты положения об ответственности.
Сохранили свою силу положения об ответственности
Налогового кодекса РФ (Раздел VI Первой части),
НК устанавливает ответственность за налоговые правонарушения. Соответственно при издании КоАП в него были включено ряд составов, которые почти текстуально совпадали с нормами налогового кодекса, а в определенной части ответственность, предусмотренная НК РФ, осталась отдельной и непокрываемой положениями КоАП. В связи с этим первая идея, которая была высказана представителями налогового права, состояла в том, что такое положение дел со стороны законодателя подтверждает самостоятельность налоговой ответственности как вида юридической ответственности, что дескать от АО законодатель налоговую обособил.
С практической точки зрения были затруднения по поводу того, как одновременно применять положения двух кодексов, которые устанавливают почти одинаковые санкции. По этому поводу Сорокин в одной из своих последних статей писал, что у правоприменителя совершенно странная свобода усмотрения : он почетным дням может применять НК РФ, по нечетным – КоАП.
На самом деле это было преувеличение. В действительности законодатель все таки разграничил составы и если смотреть внимательно, то можно увидеть, что субъекты ответственности в НК РФ и КоАП разные: в НК ответственность несет налогоплательщик, в КоАП – должностные лица. В этом отношении получилось, что по смыслу очень похожие составы применяются на основании разных нормативных актов и действуют параллельно.
Конечно, идея о самостоятельности налоговой ответственности поддерживалась в том числе и тем, что в НК механизм привлечения к ответственности установлен иной, нежели в КоАП, он предполагает более широкое участие судов, тогда как в рамках КоАП речь идет о судьях и о процедуре, которая не предполагает обычные условия судопроизводства, состязательности и т. д. Эта идея, конечно, имела под собой некоторые объективные основания в законодательстве, но если говорить о природе этих видов ответственности правильнее считать, что налоговая ответственность есть разновидность административной ответственности.
статьи 27 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ Об обязательном пенсионном страховании,
статьи 74 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)». Судебная практика признала, что в определенном смысле эти санкции действуют автономно, независимо и применяются не в той процедуре, которую закрепляет КоАП. По общему правилу процедура, предусмотренная в КоАП, действует в отношении составов, закрепленных в КоАП или в законах субъектов РФ.
В этом отношении, то, что предполагалось создать на федеральном уровне единый, абсолютно монолитный и исчерпывающим образом регулирующий вопросы административной ответственности правовой акт – эта цель не была достигнута. Соответственно, возник целый ряд вопросов соотношения ответственности в КоАП и других законодательных актах. В одних случаях суды считали возможным применение общих положений КоАП к ответственности, установленной в других законодательных актах, в других случаях – категорически отрицали.
Судебная практика идет по пути параллельного применения КоАП и других федеральных законов: см.
Постановление Пленума ВАС от 27.01.2003 №2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5
Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 N 443-О
Общий смысл разъяснений – нельзя ст. 1.1 читать буквально, ее нужно толковать более широко и считать, что другими федеральными законодательными актами тоже может быть установлена ответственность.
Законодательство субъектов РФ:
установление составов нарушений собственного регионального законодательства, установление подведомственности производства по этим составам и создание специальных органов для рассмотрения дел об административных правонарушениях.
на уровне ряда субъектов законодательство об административной ответственности кодифицировано, в других – носит разрозненный характер. Кодификация техническая.
Что касается административной ответственности на уровне субъектов РФ, то это было новеллой в КоАП 2001 года, до этого субъектам РФ напрямую право устанавливать административную ответственность не предоставлялось. КоАП это право предоставил. Общие споры по поводу правомерности такого решения законодателя касались, например, оценки того, можно ли АО считать мерой или способом ограничения прав и не является ли передача таких нормотворческих полномочий субъектам РФ нарушением положений ч. 3 ст. 55 Конституции. Но ссылаясь на другую статью – ст. 72 – на то, что административное законодательство включено в предмет совместного ведения и системно положения конституции, законодатель посчитал возможным предоставление субъектам РФ права устанавливать собственные меры ответственности.
Однако при этом были ограничены и определены в ст. 1.3. те предметы ведения, которые относятся к субъектам РФ. Самое принципиальное, что было сделано – это был установлен полный запрет регулировать какие бы то ни было общие вопросы административной ответственности. Субъекты РФ не могут устанавливать принципы, общие правила, виды наказаний, условия назначения наказаний, никакие вопросы производств по делам об административных правонарушениях – они обязаны применять то, что в этом отношении зафиксировано в КоАП РФ.
Субъекты РФ могут осуществлять регулирование путем установления конкретных составов административных правонарушений и подведомственности дел, возбуждаемых по этим составам.
Субъекты РФ могут устанавливать составы, но в этом вопросе они тоже ограничены КоАП РФ. В КоАП установлены правила о том, что законами субъектов может устанавливать ответственность за нарушение законодательства субъектов. За нарушение федеральных актов (ФЗ, подзаконных актов федерального уровня), ответственность должна вводится на федеральном уровне. Это достаточно логично, потому что если за нарушение одной и той же нормы в разных субъектах будет наступать разная ответственность – это будет неправильно. Кроме того, именно федеральный законодатель должен подумать о том, как будут обеспечиваться санкции федерального уровня.
Все было бы хорошо, если бы федеральный законодатель вовремя устанавливал все необходимые санкции и при этом учитывал специфику субъектов РФ. К сожалению такого не происходит. Субъекты получили объективную необходимость в определенных случаях вторгаться в вопросы федерального ведения. В одних случаях это было задано объективно – представить себе сферу ведения субъекта, которая абсолютно не была затронута актами федерального уровня практически невозможно, нет такого законодательства субъектов РФ, которое бы не испытывало влияния федерального. Так или иначе получилось, что субъекты имели очень мало возможности определить ту сферу, в которой они непосредственно могут устанавливать ответственность.
С 1 января 2011 года вступил в силу новый закон СПб об административных правонарушениях в СПБ. Там были систематизированы все вопросы административной ответственности и в нем достаточно хорошо видно, как узок по сравнению с КоАП круг тех вопросов, за которые устанавливается отвественность на уровне субъектов. В основном это:
- Вопросы благоустройства.
-Штрафы для владельцев собак
В некоторых субъектах РФ суды посчитали допустимым разрешать законодателю субъекта вводить ответственность во всех тех случаях, когда ответственность не введена на федеральном уровне. Например, в целом ряде субъектов РФ, если федеральный законодатель забывал обеспечить санкцией какую-то норму, пусть даже федерального закона, но так или иначе связанного с деятельностью органов государственной власти субъектов, за субъектами признавалось право ввести ответственность на собственном уровне.
Появилась и другая объективная проблема. Имеются в виду ситуации, когда состав сформулирован в КоАПе, но при этом по сфере своего возможного применения, он распространяется не только на федеральный уровень, но и на уровень субъекта РФ. В КС РФ в 2004 году обжаловались нормы ст. 15.14, 15.15, 15.16 КоАП, связанные с нарушениями в бюджетной сфере.
Например, ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств. Получалось так, что с одной стороны формировать бюджет субъект РФ может самостоятельно, исполнять и контролировать исполнение –это тоже компетенция органов власти субъекта, но как только дело доходит до ответственности, нужно прибегать к помощи федеральных органов, их должностных лиц, которые должны возбудить производство, потому что органы власти субъекта этого сделать не могут. Фактически это отсутствие оговорок, что речь идет только о федеральном бюджете, мягко говоря не соответствовало общей системе бюджетных отношений и распределению предметов ведения в бюджетной сфере между федерацией и субъектом РФ.
КС РФ, посмотрев на эту ситуацию, выдал очень невнятное, трудно понимаемое определение, в котором написал, что в принципе субъекты конечно не лишаются возможности воспроизвести норму федерального закона, установив за нее свою меру ответственности. Главное, чтобы последствия привлечения к этой ответственности не пересекались с ответственностью на федеральном уровне.
Как вы понимаете, сделать это и избежать пересечения с федеральной ответственностью практически невозможно. Просто КС РФ сказал, что «да, вообще ситуация, действительно, не очень хорошая и нужно бы как-нибудь ее решать». В итоге федеральный законодатель в определенных ситуациях прямо наделил органы исполнительной власти субъектов полномочиями по рассмотрению дел по составам, предусмотренным КоАП.
В сухом остатке - Получилось так, что фактически федерация стала ограничивать возможность, которую сама же предоставила – возможность установления ответственности на уровне субъектов РФ. Полноценной ответственности на уровне субъекта, кроме вопросов благоустройства, нет. В этом отношении довольно странно звучит идея систематизации законодательства об административных правонарушениях на уровне субъектов РФ. В некоторых субъектах даже приняли кодексы об административных правонарушениях. Но при этом говорить о том, что это полноценная кодификация, не приходится. Да, все нормы собраны в одном законе, но это еще не кодекс, потому что кодекс предполагает наличие общей части, а общие положения субъект федерации регулировать не может. Следовательно, получается, что смысла в принятии кодифицированного акта на уровне субъекта федерации никакого нет.
Применительно к законодательству об административных правонарушениях еще есть проблема действия во времени и пространстве.
Действие во времени – проблема соотношения последствий изменения охранительной и регулятивной норм.
Применительно к действию во времени ст. 1.7 КоАП устанавливает правило о том, что Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
Этому общему принципу корреспондирует положение из 24 главы, где устанавливаются основания прекращения производства по делу, из 31, 32 глав, которые устанавливают порядок исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях.
Проблемы бы особой не возникало, если бы не разрывались с точки зрения формы закрепления норма, за нарушение которой наступает ответственность, и норма, которая устанавливает ответственность. Если речь идет об административной ответственности, это более актуально, нежели применительно к ответственности уголовной.
В случае с административной ответственностью проблема возникает в отношении тех случаев, когда нормы, устанавливающие административную ответственность, остаются без изменений, а нормы, за нарушение которых устанавливается ответственность, меняются. Например, КоАП устанавливает ответственность за несоблюдение правил подачи налоговой декларации. Для конкретного лица может возникнуть ситуация, когда он не выполнил требования закона, устанавливающего обязанность подачи декларации, а когда его начали привлекать к ответственности, сам закон, устанавливающий обязанность, был отменен. С нормой, которая устанавливает ответственность, ничего не произошло – она как устанавливала ответственность за нарушение правил подачи налоговой декларации, так и устанавливает. Но в конкретном случае для конкретного гражданина обязанности подавать декларацию уже в регулятивном отношении не существует.
Конфликт, который в этом случае возникает, судами рассматривается по разному. В одних случаях суды строго толкуют статью 1.7 и говорят о том, что она устанавливает правила только в отношении законодательства об административных правонарушениях. В других случаях они говорят, что речь идет о любом законе, который так или иначе улучшает положение лица и поскольку отмена регулятивной нормы действительно улучшает положение лица, она должна послужить основанием для освобождения этого лица от ответственности.
В целом суды сейчас склоняются к первой позиции, особенно это касается арбитражных судов.
Белову кажется, что законодатель не имел в виду освобождение от ответственности. Принципиально именно то, что статья 1.7 говорит о действии законодательства об административных правонарушениях во времени и если законодатель условно говоря продолжает признавать общественную вредность (опасность?) за нарушением каких-либо правил, то неважно каких именно правил.
Действие в пространстве – проблема обязательности выполнения резидентами РФ административно-правовых обязанностей (например, связанных с валютным контролем) за пределами РФ и возможность их привлечения за невыполнение этих обязанностей в Российской Федерации.
Казалось бы, что такого особенного – действие в пространстве это общий принцип, который характерен для любых отраслей законодательства: Законы, принятые в РФ, действуют на ее территории.
Но когда речь идет о действии в пространстве, возникает вопрос – как быть с ситуациями, когда само правонарушение фактически совершено за пределами РФ и есть достаточно примеров в административно законодательстве, когда правонарушение может быть совершено резидентом РФ, но за пределами РФ. Применительно к теперешней ситуации этот вопрос получил еще большую актуальность в связи с созданием Таможенного союза и в этом случае РФ получила систему таможенного законодательства, унифицированную с Белоруссией и Казахстаном, а вот система ответственности в каждом государстве осталась своя. Получается так, что фактически деяние может быть совершено на территории другого государства, последствия могут наступить на территории РФ, и возникает вопрос – кто должен привлекать к ответственности.
Применительно к ТС в целом, не на общем принципиальном уровне, но в качестве необходимого практического принципа, было установлено, что именно место совершения деяния независимо от места наступления последствий должно рассматриваться как место производства по делу об административном правонарушении. Однако и это тоже далеко не во всем может обеспечить определенность в отношении того, какое административное законодательство будет действовать (не говоря о том, что санкции разные)
В итоге по общему правилу законодательство об АП действует на территории РФ в отношении деяний, совершенных на территории РФ, но в случаях, предусмотренных законом, ответственность может наступать за деяния, которые совершены резидентами РФ, за пределами ее территории.
Административное правонарушение как основание административной ответственности
Административным правонарушением считается противоправное и виновное деяние, за которое предусмотрена административная ответственность (ст.2.1 КоАП РФ)
Отсутствие в законодательстве указания на необходимость общественной опасности (вредности), хотя бы даже меньшей по сравнению с преступлением. Это вопрос с одной стороны сугубо теоретический, с другой стороны он имеет и практическую плоскость, потому что если в отношении уголовной ответственности можно возражать против включения в УК РФ каких-то деяний, явно не представляющих общественной опасности, то применительно к КоАП этого сделать нельзя.
Виды:
по элементам состава
по источникам закрепления в законодательстве (закрепленные в федеральном законодательстве или законодательстве субъекта РФ)
Состав административного правонарушения
Элементы состава:
субъект административного правонарушения
В общем виде можно говорить о том, что есть субъект общий – это физические и юридические лица, и есть специальные субъекты, которые также должны отвечать признакам общего субъекта (достижение 16 лет и вменяемость), но при этом отличающиеся особым правовым положением, с которым связана специфика привлечения их к административной ответственности – к ним относится 4 категории физических лиц, которые несут административную ответственность в особом порядке:
должностные лица. Понятие должностного лица в КоАП воспроизведено практически то же самое, которое в свое время было дано в примечании к одной из статей УК РФ (по крайней мере конструкция должностного лица как субъекта ответственности очень похожа)
Примечание к ст. 2.4 КоАП. Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций несут административную ответственность как должностные лица.
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено иное.
Кроме понятия должностного лица как представителя власти в примечании к статье 2.4 говорится еще о двух категориях - лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах и частных организациях (коммерческих и некоммерческих). Что представляют собой эти функции? В КоАП этого не раскрыто, это не сделано и в УК РФ, но применительно к УК РФ, в котором эти категории существуют уже много лет, есть разъяснение судебной практики (постановление пленума ВС РФ от 2000 года № 6).
Организационно-распорядительные функции – это функции по управлению персоналом. Организационно-распорядительные функции включают в себя, например, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий
Административно-хозяйственные функции – функции по распоряжению материальными ресурсами. К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п.
лица, подпадающие под действие дисциплинарных уставов. Это военнослужащие и иные лица. Теоретически с точки зрения доктрины административного права в этом случае специфика ответственности объясняется тем, что ответственность по дисциплинарным уставам тоже в каком-то смысле осуществляется в рамках административных правоотношений, т. е. дисциплинарная ответственность в том случае, если речь идет об указанных лицах, в каком то смысле есть разновидность ответственности по административному праву – не административная ответственность, но ответственность, реализуемая в рамках административных правоотношений. Соответственно эта специфическая ответственность может рассматриваться как какая-то альтернатива, замена административной ответственности.
иностранные граждане и лица без гражданства. Вопрос гражданства с одной стороны в целом мало влияет на ответственность, даже напрямую не связан именно с составом правонарушения, но связан с механизмом привлечения к ответственности, а именно главная особенность состоит в том, что иностранные граждане могут быть выдворены из РФ, что в отношении граждан РФ не допускается.
собственники транспортных средств. Эта категория субъектов появилась относительно недавно. По сути дела эта особая категория отвечает на особых условиях в тех случаях, когда правонарушение зафиксировано камерами, работающими в автоматическом режиме – в этом случае не действует презумпция невиновности.
Собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы (т. е. собственник (владелец) обращается с жалобой и доказывает эти обстоятельства) на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное в соответствии с частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.
субъективная сторона административного правонарушения
объект административного правонарушения
объективная сторона административного правонарушения
Субъект административного правонарушения. Юридические лица
Нужно сказать, что советское право принципиально не признавало возможность административной ответственности юридических лиц, также как и возможность их уголовной ответственности. Юридические лица были, а вот ответственность их ограничивалась гражданско-правовой ответственностью.
Почему это было сделано – вполне понятно. Любая ответственность организации может носить только имущественный характер. Соответственно в условиях государственной плановой экономики никакого смысла в возложении ответственности на юридические лица не было. Но такой смысл появился с появлением рыночных отношений и самостоятельных экономических субъектов.
Впервые идея административной ответственности юридических лиц появилась в 1992 году в Законе РСФСР «Об административной ответственности предприятий, учреждений, организаций и объединений за административные правонарушения в области строительства».
Соответственно с 1992 года велись споры относительно того, возможно ли наступление административной ответственности юридического лица. Законодатель последовательно вводил в разных сферах административную ответственность юридических лиц. Закончилось все КоАП РФ.
Кто-то считает, что в нашей правовой системе административная ответственность юридических лиц – это замена уголовной ответственности организаций. Это утверждение имеет под собой все основания, потому традиционно наша доктрина уголовного права не допускает уголовной ответственности организаций, а вот в административном праве такая ответственность появилась и учитывая, что даже в уголовном праве ответственность бы сводилась к назначению штрафов или иных имущественных санкций, административная ответственность юридических лиц есть ровно то же самая, чем могла бы стать уголовная ответственность юридических лиц.
Единственное, что есть определенная специфика, связанная с привлечением к ответственности. Заседание экспертно-консультативного совета в Совете Федерации: там прозвучало и Белову кажется это справедливым – механизм привлечения к ответственности юридического лица должен быть принципиально иной, нежели механизм привлечения физического лица. В отношении юридического лица нет особого смысла вести предварительное следствие, т. е. если органам необходимо собрать доказательства – это пожалуйста, но предварительное следствие с участием самого лица, в отношении которого ведется производство – это в отношении юридического лица неоправданно и кроме того, если сейчас установлен необходимый и достаточно разумный порядок привлечения к ответственности юридических лиц в арбитражных судах, то вряд ли имеет смысл от этого порядка отказываться.
Не может не возникнуть вопрос – почему административное законодательство использует категорию юридического лица. Здесь есть определенное расхождение между концепцией, терминологией и доктриной публичного права и частного права. Публичное право только в ограниченных случаях использует в качестве субъекта юридическое лицо. Но применительно к административной ответственности законодатель говорит именно о юридическом лице.
Этому есть определенное объяснение – если ответственность связана с возложением имущественных санкций, то предполагается, что эти санкции могут быть удовлетворены только за счет обособленного имущества. А обособленное имущество в соответствии с гражданским законодательством есть только у юридических лиц.
Естественно если мы полностью используем понятие юридического лица из гражданского права, то у нас возникнет вопрос, а применимо ли для определения того, что есть субъект административной ответственности понятие, которое сформулировано в ст. 48 ГК РФ.
С одной стороны имущественная обособленность в данном случае нам действительно необходима, но все ли виды юридических лиц могут быть полноценными субъектами административной ответственности? Здесь есть масса примеров, когда это экономически становится бессмысленным:
Государственные организации. Как правило, в тех случаях, когда речь идет об организациях, финансируемых из бюджета, на практике ответственность несут не юридические лица, а должностные лица непосредственно за неисполнение каких-то должностных, служебных обязанностей, что в общем логично.
Возложение ответственности на государственный орган в экономическом смысле совершенно бесцельно – бюджет сам себя накажет, из одного кармана переложит в другой.
Ответственность филиалов и представительств юридических лиц. Это проблема, которая фактически законодателем не решена. Здесь законодатель в каком-то смысле пошел по более простому пути – он взял и использовал общее понятие юридического лица, не учитывая специфику административных правоотношений. Дело в том, что в определенных случаях, например некоторых налоговых правоотношениях, филиалы и представительства юридических лиц участвуют от своего имени, сами выступают субъектами правоотношений. Получается, что субъектами правоотношений выступают филиалы и представительства, а ответственность несут не они, а в целом все юридическое лицо. Здесь даже не просто какое-то несовпадение регулятивных и охранительных норм, можно более широко увидеть проблему - Получается, что для других видов административных правоотношений филиалы и представительства могут быть субъектами правоотношений, а вот для административных правоотношений, связанных с ответственностью, филиалы и представительства не субъекты – только в целом юридическое лицо.
Когда мы говорим об административной ответственности юридических лиц, смысл этой ответственности состоит в том, чтобы сделать противоправную деятельность экономически нецелесообразной.
Условно говоря, любое юридическое лицо имеет выбор между противоправным поведением и правомерным поведением и чаще всего, особенно если речь идет о выполнении каких-то специальных административных обязанностей, правомерное поведение требует дополнительных расходов. Соответственно, для того, чтобы юридическое лицо приняло правильное решение, т. е. действовало правомерно и понесло необходимые расходы, нужно предположить угрозу того, что если оно поступит неправомерно, на него будет возложен такой штраф, что в итоге «лучше бы уж мы поставили очистные сооружения».
Применительно к ст. 2.10, которая определяет условия ответственности юридических лиц, фактически та особенность, про которую говорилось выше – экономический характер ответственности – в ст. 2.10 наиболее ярко видна.
3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.
4. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо.
5. При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено административное правонарушение.
6. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.
Иными словами законодатель фактически исходит из того, что обязанность юридического лица понести административную ответственность – это некая имущественная обязанность, которая существует независимо от личности юридического лиц, применительно к юридическому лицу нет принципа персональной ответственности, важно, что экономически расходы на уплату штрафа останутся в качестве имущественной обязанности, что бы не происходило с юридическим лицом (кроме ликвидации).
Субъективная сторона административного правонарушения.
Применительно к субъективной стороне закон фактически устанавливает два вида вины, абсолютно разные по конструкции, смыслу, составу и условиям применения –
Вина физических лиц
Вина для физических лиц конструктивно очень похожа на вину в уголовном законодательстве. Вина физического лица в совершении административного правонарушения – это психическое отношение физического лица к совершаемому им деянию.
Есть несколько отличий от уголовного права. В административном праве ответственность по общему правилу наступает как за умысел, так и за неосторожность. Это обстоятельство делает во многом вину в административной ответственности если не совсем бессмысленным элементом состава административного правонарушения, то почти таковым. Доказывать неосторожность чаще всего не имеет никакого смысла, потому что если конструкция неосторожности предполагает, что лицо не предвидело, но должно было и могло было предвидеть, то естественно можно предположить, что во всех случаях, когда человек совершает правонарушение, он так или иначе не проявляет необходимого предвидения. При рассмотрении дела почти никогда не происходит освобождения от административной ответственности в связи с отсутствием вины.
Деление форм вины формально в законе есть, но в отличие от УК РФ оно двухчастное – либо умысел, либо неосторожность
Статья 2.2. Формы вины
1. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.
2. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.
Есть еще одно обстоятельство, которое влияет на квалификацию – формальность составов. При формальном составе лицо не может иметь никакого отношения к определенным последствиям, потому что последствия не устанавливаются, они юридически безразличны, соответственно, отношение может быть к противоправности своего поведения, но никак не к тем последствиям, которые могут наступить в результате этого поведения.
Вина юридических лиц
Вина юридического лица. Проблемы применения
Поскольку в России никогда не существовало уголовной ответственности для юридических лиц, в доктрине не было разработано полноценной теории вины юридического лица для целей привлечения к публично-правовой ответственности. Соответственно, когда в начале 90-х годов появилась практическая потребность и стали появляться законодательные акты, устанавливающие административную ответственность юридических лиц, возник вопрос о том, как следует конструировать их вину.
I этап – ответственность без вины, т.к. для юридических лица вина вообще не характерна: пример – наступление для них ответственности во всех случаях, кроме действия непреодолимой силы – ст.231 Таможенного кодекса РФ от 18.06.1993.
Первая мысль, которая пришла на ум законодателю заключалась в том, что для юридических лиц вообще не должно существовать никакой вины – ответственность ЮЛ должна наступать во всех случаях кроме ситуаций действия непреодолимой силы, когда явно не может быть поставлено в вину юридическому лицу совершение противоправных действий, поскольку ситуация была полностью неподконтрольна юридическому лицу. Такая позиция была отражена в Таможенном кодексе 1993 г. и просуществовала в таможенном законодательстве достаточно долго.
По сути дела то, что касается этой ответственности, если о распределении бремени доказывания, презумпции невиновности Конституционный суд что-то писал применительно к юридическим лицам, то в отношении того, что требуется вина, у КС РФ ни в одном решении сказано не было.
Но законодатель тем не менее стал постепенно двигаться в сторону необходимости учитывать какие-то обстоятельства, связанные с виновностью, с тем, насколько юридическое лицо стремилось к противоправному поведению или сознательно допускало противоправные последствия.
II этап – вина юридического лица – это вина его работников, представляющих юридическое лицо в конкретном правоотношении: статья 110 Налогового кодекса РФ (ч.I, 1998 год).
Следующим шагом после таможенного кодекса стало принятие НК РФ – в ст. 110 было установлено, что вина ЮЛ определяется через вину его работника. Причем в этом отношении налоговое законодательство вроде как неявно отсылало к гражданскому законодательству, в том смысле, что действия ЮЛ совершаются его работниками, а соответственно, отношение работников к тому, что они делают, и есть отношение ЮЛ к совершаемым действиям. В этом отношении небрежность работников фактически становится небрежностью организации в целом. Такая позиция явно отличалась от общей позиции гражданского законодательства именно в отношении ответственности, потому что оно все таки различает субъектов ответственности и считает юридическое лицо самостоятельным субъектом, устанавливает самостоятельную конструкцию вины для юридического лица.
III этап – заимствование категории «объективной вины» из ст. 401 ГК
При разработке КоАП подход налогового законодательства был расценен как неприемлемый. Наверное, в каком-то смысле двигаясь по пути постоянного ужесточения ответственности законодатель посчитал необходимым перейти на качественно новый уровень и если налоговое законодательство ограничивает публично-правовую ответственность ответственностью только самого налогоплательщика, т. е. юридического лица, то в КоАП, уже в самом первом проекте, было заложена самостоятельное, параллельное, независимое привлечение к ответственности работника ЮЛ, должностного лица ЮЛ и самого юридического лица – за одно и то же деяние нужно было привлечь сразу 3 субъектов. Естественно, в этом случае определять вину одного субъекта через вину другого стало невозможно.
В итоге в первом проекте КоАП, который был принят ГД ФС РФ, одобрен СФ ФС РФ, но не прошел подписание президентом, понятия вины юридического лица вообще не было. Законодатель это оставил на умолчание, предполагая, что этот пробел будут ликвидировать уже непосредственно правоприменители. С такой позицией категорически не согласился Президент и вето, которое было направлено в ГД ФС РФ после неодобрения первого варианта КоАП, указывало и на то, что проект не определяет вину юридического лица.
Соответственно, при доработке проекта в ГД ФС РФ учли замечания президента и придумали ответственность юридического лица на основании вины, сконструировав это понятие и включив его в ст. 2.1 КоАП. Даже по структуре видно, что это более позднее положение, добавленное после разработки КоАП. Его добавили в статью, где идет речь о понятии правонарушения (довольно странное место). Самое главное, что конструкцию использовали ту, которая сильно напоминает конструкцию из ст. 401 ГК РФ
Ст. 401 ГК устанавливает условие гражданско-правовой ответственности, в т. ч. ответственности за неисполнение обязательств и, соответственно, в гражданском законодательстве несмотря на то, что действия юридического лица есть действия его работников, вина юридического лица определяется отдельно от вины его работников. Поскольку это единственное место в законодательстве, где было сконструировано понятие вины юридического лица, законодатель не счел для себя невозможным воспользоваться конструкцией частноправовой. Только он несколько ее ухудшил – ужесточил условия и явно ухудшил положение юридического лица, привлекаемого к ответственности.
ст. 401 ГК: Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. вполне понятно и определенно – где границы вины. Это так называемая конструкция объективной вины. Здесь объективность складывается по следующему критерию: есть некий средний участник гражданского оборота – добросовестный, заботливый, осмотрительный. Но это именно средний участник со средней степенью всего вышеперечисленного. Соответственно, если этот средний участник гражданского оборота мог догадаться о том, какие меры следует предпринять, то он этим меры должен предпринять. Если он их не предпринял, значит он виновен в совершении правонарушения. Если он предпринял все меры, которые ему могли прийти в голову, значит все нормально и вины его нет, и даже если правонарушение состоялось, то оно лежит уже вне сферы его контроля
ст. 2.1 КоАП РФ: Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Здесь уже отсутствуют «характер обязательства и условия оборота», отсутствует стоящее за конструкцией объективной вины представление о неком среднем участнике. Здесь уже речь идет об объективной возможности - в ст. 401 говорится об объективной вине, но она все равно сводится к усмотрению какого-то конкретного физического лица. Когда же КоАП формулирует так, что достаточна любая возможность для соблюдения правил и норм, т. е. объективная возможность, и лицом не были предприняты все зависящие от него меры – не те меры, которые бы предпринял обычный добросовестный разумный участник, а любые меры.
Норма становится совершенно безграничной, вина может быть растянута беспредельно.
Обратить внимание: Несовместимость объективной вины с презумпцией невиновности. В ГК говорится о признании лица невиновным, а в КоАП – о признании лица виновным. Это связано с общими принципами привлечения к ответственности. Гражданское законодательство предполагает презумпцию вины ответчика. В КоАП с одной стороны речь идет о презумпции невиновности, с другой стороны появляется «возможность для соблюдения» и «все зависящие от него меры». Главное – возможность, она действительно может доказываться тем органом, который возбуждает производство. Но уж то, что данным лицом не были предприняты все зависящие от него меры, явно перелагает бремя доказывания (сконструировано также, как в ГК): лицо должно доказать, что предприняло все зависящие от него меры, потому что иное логически невозможно. Как орган может доказывать, что не предприняты какие-то меры? - в данном случае просто нарушается элементарная логика, здравый смысл и процессуальная аксиома о том, что отрицательные факты не подлежат доказыванию – нельзя доказать, что чего-то не было, можно доказать только то, что что-то было. Соответственно, если какие-то меры предпринимались, то можно доказать, что они предпринимались, но нельзя доказать, что они не предпринимались.
Отсюда получается, что конструкция вины юридического лица в КоАП
сконструирована на неких объективных категориях, т. е. принципиально отличается от вины физического лица
Фактически предполагает безграничное количество мер, которые следовало предпринять
Перелагает бремя доказывания на само лицо, в отношении которого возбуждено производство
Соответственно в реальности результатом наличия такой формулировки стало фактически полное отсутствие на практике возможности освобождения ЮЛ от ответственности в связи с отсутствием вины с его стороны. КоАП по существу вернул ситуацию обратно к тому, что было в 1993 году в ТК РФ – фактически только доказав действие непреодолимой силы или злой умысел со стороны третьих лиц юридического лицо может доказать, что его вина в совершении правонарушения отсутствовала. Во всех остальных случаях – будет отвечать.
Типичный судебный спор относительно вины юридического лица касался ситуации, когда правонарушение совершалось работником ЮЛ и представитель юридического лица при производстве начинал доказывать, что юридическое лицо предприняло все возможные меры к тому, чтобы это предотвратить. Ну как, например, можно предотвратить правонарушение в виде неиспользования контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов с населением, как организация в целом может предотвратить это правонарушение? – установить аппарат, обеспечить его расходными материалами, научить работника пользоваться этим аппаратом и строго-настрого его проинструктировать, чтобы он обязательно пользовался контрольно-кассовым аппаратом + наверное, это строгое принуждение может сопровождаться разными посулами, в т. ч. обещанием выгнать с работы, если будет допущено правонарушение. Но даже если юридическое лицо все это сделало, оно все равно понесет ответственность в случае, если забывчивый кассир не выдаст покупателю кассовый чек. По крайней мере так стали рассуждать суды, были отдельные решения, когда суды на том основании, что все меры были предприняты, освобождали от ответственности, а общая практика (и эта практика была поддержана ВАС РФ) стала исходить из того, что если правонарушение совершено, значит все меры по его предотвращению предприняты не были. Какие конкретные меры должны были еще предприниматься? – ну мы строго говоря не обязаны за вас думать, должны были что-то еще придумать (поставить за кассиром контроля, за ним – еще одного контролера и т. д.) в чистом виде объективное мнение
Еще появилась такая процессуальная идея у ВАС РФ – когда юридическое лицо предпринимает какие-то меры, это делают его конкретные должностные лица или работники. Соответственно, когда не выдан кассовый чек, ЮЛ говорит – мы все сделали как надо, но нас самих этот работник обманывает и он, имея злой умысел не только против государства, но и против своего родного работодателя, не выдает кассовые чеки. В этом отношении мы пострадали не меньше, чем публичный интерес и он виновными своими действиями причинил вред и охраняемым общественным отношениям, и нам как работодателю. На что арбитражные суды заявляют следующее – установление вины конкретных физических лиц не входит в компетенцию арбитражных судов, устанавливаются только вину организации. Соответственно, раз не были предприняты все зависящие меры, значит вина на лицо. (п. 16 Постановление Пленума ВАС РФ от 2.06.2004 №10:
арбитражный суд в судебном акте не вправе указывать на наличие или отсутствие вины должностного лица или работника в совершенном правонарушении, поскольку установление виновности названных лиц не относится к компетенции арбитражного суда)
Как можно было бы рассуждать о вине юридического лица? Что есть собственно вина юридического лица – это определенная политика фирмы. Если организация строит свою политику на том, чтобы нарушать закон и всем работникам потихоньку говорит «ну если вы видите, что покупатель мало похож на проверяющего, то вы ему кассовый чек не выдавайте», то это как раз и есть в чистом виде вина юридического лица. Если же организация наоборот стремится добросовестно осуществлять свою деятельность и всячески создает систему, предотвращающую совершение правонарушений, то признать организацию виновной нельзя. Но для того, чтобы установить политику организации, общую направленность деятельности, нужно проводить довольно объемные расследования, опрашивать много свидетелей, в конце концов совершать много процессуальных действий и вообще немножко думать. А когда для административных органов стоит задача привлечь к ответственности как можно больше юридических лиц и реализовать ответственность как можно быстрее, потому что вот-вот истекут два месяца срока давности привлечения к ответственности, никаких возможностей закапываться в вопросы того, имеет ли место действительно виновное поведение организации в целом, или это просто отдельный работник напортачил, особенно разбираться некогда и вообще не охота и гораздо проще привлечь к ответственности юридическое лицо. + есть очевидный экономический элемент: если штрафы для юридических лиц исчисляются сотнями тысяч и доходят до миллиона (это примерно со 100 физ лиц можно собрать), будет гораздо больше заслуг перед государством у того государственного органа, который добыл в бюджет такую внушительную сумму
Объект административного правонарушения
Возникало изначально административная ответственность изначально для того, чтобы охранять административные регулятивные правоотношения. С тех пор много воды утекло, ответственность оторвалась от тех актов, которые она охраняет, ответственность была выведена на законодательный уровень и в результате этого получилось, что она оторвалась от непосредственного объекта своей охраны. Отсюда объектом правонарушения стали становится самые разнообразные общественные отношения, в т.ч. такими объектами стало возможным считать неадминистративные правоотношения, отношения иной отраслевой принадлежности – гражданские, конституционные, трудовые и т. д.
Применительно к объектам вопрос имел бы исключительно теоретическое, схоластическое значение, если бы не придавались определенные процессуальные последствия отнесения конкретного правонарушения к тому или иному типу по объекту посягательства.
В постановлении пленума ВС РФ от 24.03.2005 N 5 ВС РФ довольно существенный процессуальный вопрос увязал с родовым объектом посягательства – это вопрос переквалификации. Собственно производство по делам об АП предполагает составление протокола, а потом вынесение постановления по делу. В протоколе уполномоченное должностное лицо обязано дать первоначальную квалификацию – указать ту статью КоАП или закона субъекта, которая устанавливает ответственность за соответствующее правонарушение. Эта первоначальная квалификация по тексту закона не имеет никаких правовых последствий, вообще. При рассмотрении дела должна быть дана окончательная квалификации, т. е. тот орган, должностное лицо или судья, который рассматривает дело, принимает окончательное решение о том, какая статья устанавливает ответственность за конкретное деяние.
Но ВС РФ, проанализировав эту ситуацию пришел к выводу, что абсолютно свободная переквалификация недопустима. В частности он написал, что переквалификация недопустима, если она приводит к ухудшению положения лица, привлекаемого к ответственности (в КоАП для этого нет абсолютно никаких оснований. По поводу вообще запрета поворота к худшему у нас и КС РФ не считает этот запрет абсолютным в рамках уголовного процесса, а уж в рамках производства по делу об административном правонарушении это тем более странно. Но это последовательная позиция ВС РФ, она отражается в целом ряде решений и поскольку она улучшает положение граждан, сильно с ней спорить не стоит).
Но то, что касается другого условия переквалификации, ВС РФ его привязал к родовому объекту правонарушения. В чем смысл родового объекта. Глобально можно найти только один процессуальный довод в пользу того, что переквалификация должна ограничиваться родовым объектом. Потому что предполагается, что в пределах родового объекта соответствующими полномочиями по возбуждению дел обладают должностные лица определенных органов. Если это налоговое правонарушение, то, естественно, только налоговые органы могут возбуждать эти дела, глобально это описывает сферу определенной компетенции органа, возбуждающего дело. Если допустить переквалификацию на состав другого родового объекта, то тем самым может возникнуть ситуация, когда неважно – кто и о чем составляет протокол, «а там по ходу дела разберемся – кого и за что привлекать к ответственности».
Естественно такая ситуация недопустима с точки зрения полномочий по возбуждению дела и в этом смысле ВС РФ можно понять. Но если бы это было четко написано, то это было бы достаточно определенно. Вместо того, чтобы написать, что переквалификация возможна только на статью, которая относится к полномочиям того же органа, который возбудил дело, ВС РФ зачем-то использовал довольно неопределенную теоретическую категорию родового объекта.
И вот когда мы определяем родовой объект у нас возникает необходимость классификации всех составов по родовому объекту посягательства. И здесь мы сталкиваемся со значительными трудностями – что считать родовым, видовым и непосредственным объектом посягательства.
Когда речь идет о классификации объектов правонарушений есть два варианта
Следовать той структуре, которая установлена вторым разделом КоАП. Второй раздел разбит на 16 глав, каждая глава устанавливает ответственность за правонарушения в какой-то определенной сфере.
В ст. 4.5 или ст. 28.6, где перечисляются группы составов административных правонарушений путем указания на области законодательства (антимонопольное законодательство, таможенное законодательство, законодательство о рынке ценных бумаг)
Получается, что сам КоАП предлагает как минимум две классификации объектов правонарушений. Что считать родовым – главу из особенной части или область законодательства. По сути дела ответа на этот вопрос четкого ответа нет. Белову представляется, что правильнее использовать более узкий подход, т. е. считать родовым объектом область законодательства, например не вся предпринимательская деятельность, а только антимонопольное регулирование как область законодательства представляет собой тот самый объект посягательства, который может считаться родовым, и только в пределах этого родового объекта возможна переквалификация.
Объективная сторона административного правонарушения
Составы административных правонарушений формальны. Это значит, что административным правонарушением будет любое нарушение установленных правил независимо от того, наступили ли последствия и какие последствия наступили. В этом отношении по объективной стороне можно в каком-то смысле разграничивать административные правонарушения с преступлениями. Проблема здесь может быть рассмотрена по-разному, в т. ч. ВС РФ смотрит на нее двояко.
Проблема разграничения с уголовным преступлением по объективной стороне: 2 позиции (п.15 (абз. 4) Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5)
С практической точки зрения здесь можно рассуждать следующим образом: любое нарушение влечет административную ответственность, если нарушение привело к тем последствиям, которые делают административное правонарушение преступлением, наступает уголовная ответственность, которая исключает административную. Такой подход может кому-то показаться не очень совместимым с особым значением и свойствами уголовной ответственности, но, представляется, особые свойства уголовной ответственности в данном случае не должны влиять на характеристику объективной стороны, достаточно того, что мы берем определенные последствия и на основании последствий разграничиваем составы административных правонарушений и преступлений. Скажем, ПДД – если они нарушены и никаких последствий не наступило или наступили, условно говоря, несерьезные последствия, то это административный проступок; если наступили последствия в виде тяжкого вреда здоровью или смерти потерпевшего, это преступление,
причем если такие последствия наступили, то административная ответственность должна быть исключена. Последнее – самое неочевидное. В практике есть ситуации, когда за одно и то же правонарушение физическое лицо привлекают к уголовной ответственности, а юридическое – к ответственности административной. Одно и то же деяние, достаточно серьезное по последствиям, формально подпадает под критерии и того, и другого, потому что пределы формулирования объективной стороны состава административного правонарушения настолько растянуты, что они охватывают все, в т. ч. уголовную ответственность. Наверное это неправильно, нельзя одно и то же деяние для одного субъекта характеризовать как преступление, а для другого – как административное правонарушение. Но это неправильно с точки зрения одного лица, потому что он либо совершил преступление, либо административное правонарушение. Когда речь идет о разных лицах, то мы уже говорили, что фактически административная ответственность заменяет у нас уголовную ответственность юридических лиц ввиду отсутствия таковой в нашем законодательстве – вот вам пример того, как она реально ее заменяет, когда одно лицо отвечает по одному кодексу, второе – по другому.
Применительно к объективной стороне еще есть такой немаловажный аспект как длящееся правонарушение. Пленум ВС РФ в постановлении 2005 г. № 5 обратил внимание на эту проблему в следующем виде.
В связи с чем вообще эта проблема возникает: дело в том, что ст. 4.5 КоАП, устанавливая срок давности привлечения к ответственности, различает срок давности применительно к длящимся и недлящимся правонарушениям. В отношении недлящихся срок давности начинает исчисляться с момента окончания правонарушения, а для длящихся – с момента выявления и, естественно, в этом отношении государственные органы всегда хотят записать любое правонарушение в длящиеся, потому что когда у них руки дойдут до привлечения ответственности за это правонарушение, тогда они его обнаружат и начнут исчислять срок давности.
Соответственно, возникает вопрос – как же на самом деле нужно различать длящиеся и недлящиеся правонарушения? ВС РФ сформулировал позицию, которая вызывает сомнения и критику, но критику со стороны именно государственных органов. ВС РФ написал следующее
длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей, возложенных на нарушителя законом. Невыполнение предусмотренной нормативным правовым актом обязанности к установленному в нем сроку не является длящимся административным правонарушением. При этом необходимо иметь в виду, что днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения.
Если речь идет об исполнении обязанности, которая должна быть исполнена к определенному сроку, то в этом случае правонарушение не может считаться длящимся – оно будет окончено в момент наступления соответствующего срока.
Естественно административные органы спорят с этим следующим образом. Они говорят, что если административная ответственность в целом направлена на то, чтобы обеспечить исполнение административной обязанности лицом, получается, что после того, как срок прошел, но административная обязанность так и не выполнена, привязка срока давности к моменту, когда обязанность должна была быть исполнена, фактически повлечет ослабление ответственности, получится так, что, например, налогоплательщик, не подав декларацию, выжидает два месяца, а после этого, перекрестившись, забывает о декларации навсегда, понимая, что больше привлечь его к ответственности не могут. А налоговый орган в свою очередь считает, что при неисполнении обязанности она должна быть исполнена хотя бы когда-нибудь. Да, нарушение срока это правонарушение, но если впоследствии налогоплательщик представит декларацию, то можно в этом случае считать, что свою обязанность он исполнил, хотя и с нарушением установленного срока.
Сфера строительства. Для непосредственного начала строительных работ нужно получить разрешение на строительство. Разрешение на строительство не получено, начинаются работы. Дальше если работы начались 1 июня, а административный орган, который осуществляет надзор за строительством, появился на стройплощадке 1 сентября, то получается, что он уже сделать ничего не может, привлечь к ответственности уже нельзя. В этом случае административные органы начинают говорить, что обязанность, которая не исполняется к определенному сроку, не перестает юридически существовать как административная обязанность, а, следовательно, она должна быть обеспечена какой-то санкцией. В результате того, что слишком много бы правонарушителей бежало от ответственности, исходя из того, что административный орган не в состоянии отслеживать и контролировать все действия, которые совершают граждане или организации, нужно применительно к любому длительному неисполнению обязанности применять правила о длящемся правонарушении и если обязанность продолжает неисполняться, значит правонарушение продолжает совершаться (когда обнаружим, тогда и привлечем к ответственности).
Белов думает, что наиболее взвешенной и нейтральной была бы позиция, когда обнаружение правонарушения было связано с тем, как именно должна была быть исполнена административная обязанность. Если административная обязанность исполняется по месту нахождения государственного органа, например, налоговый орган ждет от налогоплательщика декларацию, и если он не получил декларацию, то он может считать, что в данном случае у него есть все основания рассматривать налогоплательщика как правонарушителя). Если же речь идет о ведении строительной деятельности где-то там на территории, которая не столь эффективно контролируется государственным органом, то там требовать, чтобы орган непосредственно совершал обход каждый вечер своей территории и проверял, не ведется ли строительство чего-нибудь, было бы неправильно. Соответственно, в зависимости от того, где фактически совершается правонарушение, должно быть поставлено признание обязанности неисполняемой в качестве длящегося правонарушения или в качестве недлящегося.
Проблема длящихся и неоднократных правонарушений. Если нужно было подать декларацию, декларация не подана и орган привлекает к ответственности. Штраф, например, предприниматель заплатил, а декларацию так и не подал. У органа начинают чесаться руки привлечь его еще раз, потому что исполнения обязанности так и не состоялось, цель не достигнута. Предприниматели в ответ начинают говорить – «и как часто вы нас можете привлекать: каждый год, каждый месяц, каждый час назначать нам вновь и вновь очередной штраф?». В случае с выдачей предписаний органами административного надзора проще, потому что есть срок на исполнение предписаний: срок истек – можно привлекать к ответственности. А в случае, когда одна и та же обязанность остается неисполняемой впоследствии? Со строительной деятельностью тоже в каком-то смысле проще, потому что привлекли за строительство без разрешения, но заплатив штраф организация продолжает строить дальше; как только строительные работы вновь начались и опять без разрешения – это оконченное административное правонарушение. Но в случае с декларацией этого нет. Получается, что здесь нет четко определенного объективного критерия, когда состоялось правонарушение и нет четких границ, когда можно вновь возбуждать дело и можно ли считать правонарушение тем же самым, если обязанность не выполнена та же самая, тем же самым лицом, но уже после привлечения к ответственности. Позиции в литературе по этому поводу есть разные, преобладает точка зрения, которая благоприятна для государственных органов: если главная цель административного права – это обеспечить эффективность исполнительной власти, эффективность выполнения органами ИВ возложенных на них функций, то одним человеколюбием нельзя обосновать то, что фактически административная ответственность не достигает поставленной цели и административная обязанность остается неисполненной. Это вопрос, который нуждается в более тщательном анализе, в т.ч. с точки зрения конституционных принципов.
Проблема малозначительности:
Малозначительность – это одно из немногих оснований освобождения от административной ответственности
Статья 2.9. Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения
При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
Но вот что такое малозначительность? Позиции ВАС и ВС РФ разошлись
Первым высказал свое мнение ВАС РФ и как в целом ряде других случаев с вопросами именно административной ответственности он решил дело сильно не в пользу лиц, привлекаемых к административной ответственности. п.18 Постановление Пленума ВАС от 2 июня 2004 г. №10
Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.
Что касается ВС РФ, то абз. 3 п.21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5
Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.
Условно говоря один и тот же пример будет довольно отчетливо показывать разницу в этих подходах. При оформлении покупки не был выдан кассовый чек, а покупалась бутылка воды за 10 рублей. С точки зрения ВС РФ здесь явно нет значительного вреда и существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений (в конце концов от того, что 10 рублей не были надлежащим образом оформлены государство не сильно проиграет и недополучит в форме налогов). Как будут рассуждать арбитражные суды в исходя из позиции ВАС: «сегодня бутылка воды за 10 рублей, а что будет завтра?», потенциально возможность причинения вреда здесь очень существенная, следовательно, правонарушение имеет место – хоть и покупка была на 10 рублей, штраф в сумме 400 000 заплатите в госбюджет.
Наверное, и тот, и другой подход в чем-то оправданы, хотя позиция ВАС требует более тщательного, квалифицированного анализа – как отличить ситуации наличия угрозы и ситуаций отсутствия угрозы. Когда есть четкие объективные данные, свидетельствующие о наступлении вреда и его размерах, тут все достаточно очевидно, вопрос только в доказывании. А вот когда нужно оценить потенциальную угрозу, тут требуется совершенно иная квалификация и, следовательно, в целом эта позиция будет затруднительна для применения.
Понятие и виды административных наказаний
Административное наказание – это санкции, которые применяются за административное правонарушение. Собственно глобально наказание определено КоАП не очень удовлетворительно, потому что речь идет об определении наказания через понятие ответственности, что само по себе мягко говоря не очень корректно и, соответственно, мало способствует уяснению особенностей природы, характера, содержания административного наказания.
Понятие: ч. 1 ст. 3.1. КоАП РФ. Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
В определенных случаях возникает вопрос о том, что есть административное наказание. Цели наказания в определенном смысле ясны, потому что закон требует, чтобы наказание назначалось для предупреждения совершения новых правонарушений, в общем – превенция общая и превенция частная. Но в целом, как рассматривать административное наказание, сказать довольно сложно.
Во-первых можно говорить о том, что административное наказание – это кара. Это не возмещение вреда, причиненного государству, это именно кара за совершенное правонарушение. Кару нельзя рассматривать в качестве цели наказания, но само по себе наказание по содержанию и условиям его назначения безусловно представляет собой определенное возмездие за совершенное правонарушение.
Тут правда появляется на свет еще одно обстоятельство, которое в каком-то смысле позволяет отличать административное наказание от уголовного. Уголовное наказание все таки имеет целью предотвращение именно правонарушений в будущем. Административное наказание как в целом административная ответственность представляет собой меру административного принуждения, а мера административного принуждения направлена на обеспечение исполнения тех административных или иных обязанностей и соблюдения запретов, которые установлены регулятивными нормами. Т. е. глобально ответственность действует не сама по себе, а для того, чтобы заставить исполнять требования норм и это главная цель. Любое наказание, которое не будет достигать этой цели, едва ли может обосновано считаться административным наказанием.
Есть в самом составе административных наказаний 2 вида наказаний, которые позволяют выявить особенности.
Административное приостановление деятельности. Само по себе – это мера административно-пресекательного характера, которая связана с предотвращением опасных или вредных последствий и не может рассматриваться как кара, потому что все таки кара предполагает возложение какого-то вполне определенного обременения. Запрет деятельности (как мера обеспечения) и последующее приостановление деятельности (как вид административного наказания) выглядят совершенно иначе: административное приостановление деятельности может быть досрочно прекращено после того, как все требования закона исполнены. Естественно, в этом отношении о каком может идти речь наказании, которое прекращается, если выполнены все требования. Это явно именно мера административного принуждения пресекательного характера, но никак не мера наказания.
Конфискация. Как мера административного наказания отличается от конфискации объектов, которые не могут находиться в гражданском обороте. Если, например, пойман какой-то гражданин за распространение контрафактной продукции, то отбирая у него эту продукцию ему не назначают наказания в виде конфискации. Конфисковать можно только то, что принадлежит на законных основаниях и, следовательно, опять же здесь речь идет не об обеспечительной мере, а каре.
Виды административных наказаний:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения;
4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
6) административный арест;
7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;
8) дисквалификация;
9) административное приостановление деятельности.
Сегодня КоАП устанавливает 9 видов административных наказаний и что крайне негативно – это отсутствие их четкой и внятной системы. В этой части КоАП явно уступает УК РФ в плане определенности. В УК РФ все виды наказаний расположены в определенную систему - от более мягких к более суровым. В КоАП это может быть применено только к самому первому виду наказания – предупреждению, а применительно ко всем остальным – едва ли. Осложняет ситуацию то, что административные наказания могут различаться в зависимости от того, к кому они применяются. Например, формально законодатель административное приостановление деятельности считает очень суровым наказанием и даже прямо пишет, что административное приостановление возможно только если другие более мягкие виды не обеспечивают цели наказания. Но это применительно к организации, в крайнем случае – к индивидуальному предпринимателю, но никак не к физическому лицу, а применительно к нему явно самая строгая мера наказания – это не дисквалификация, а административный арест (он же почему-то идет на 6 месте, а не на предпоследнем).
В этом отношении, когда глава 4 устанавливает правила назначений наказания по совокупности, т. е. при совершении нескольких административных правонарушений и предусматривает правила поглощения более суровым наказанием более мягкого, возникает вопрос – а как их отградуировать? если административный штраф 100 рублей и 1000 рублей – понятно, какая мера более суровая, но если речь идет о разных видах наказаний, то четкого ответа КоАП не дает. Причем правоприменители, наверное, могут руководствоваться какими-то собственными соображениями или даже в редких случаях закон дает какие-то ориентиры (см. административное приостановление деятельности), но мнение законодателя не всегда совпадает с мнением правоприменителя или даже самого лица, привлекаемого к ответственности (привлекали к ответственности организацию за привлечение гастарбайтеров. Штрафы в КоАП установлены совершенно астрономические – до 400 000 рублей за привлечение одного иностранного работника. Застукали троих – это грозит организации штрафом в 1 200 000 или административным приостановлением деятельности. Представитель организации умолял назначить приостановление деятельности, хоть на 90 суток – это все равно будет дешевле чем такой штраф). Соответственно, получается, что в конкретной ситуации разные виды наказаний могут по разному между собой соотносится с точки зрения их суровости. В этом отношении наказания, перечисленные в КоАП никакой системы из себя не представляют – это просто перечисление (причем характерно, административное приостановление деятельности идет 9 пунктом именно потому, что его придумали позднее и просто добавили в перечень)
Классификация
В зависимости от содержания правоограничения
ограничения личного характера (физическое или моральное воздействие) |
Имущественные (материальная санкция) |
организационные (ущемление в правах) |
Предупреждение, административный арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства Применяются к физическим лицам (предупреждение теоретически может выноситься и юридическому лицу) |
административный штраф, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения Универсальны – применяются и к физическим, и к юридическим лицам |
возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного (почему не отнесено к имущественным – потому что формально имущественного ущерба у правонарушителя не возникает. При возмездном изъятии орудие или предмет продают на аукционе и возвращают деньги собственнику. Да, право собственности ограничивается(он лишается индивидуально-определенной вещи), но экономически он ничего не теряет – «идет и покупает другую такую же») правонарушения; лишение специального права, предоставленного физическому лицу; дисквалификация; административное приостановление деятельности Частично меры применимы только к физическим лицам, частично – только к юридическим лицам. |
Только в качестве основных |
Как основные и дополнительные |
предупреждение, административный штраф, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административный арест, дисквалификация и административное приостановление деятельности |
возмездное изъятие и конфискация орудия совершения или предмета правонарушения, административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства |
ПРИМЕР: Ст. 16.2 (ч.1): …наложение административного штрафа в размере от 1/2 до 2-кратного размера стоимости товаров и (или) транспортных средств – предметов правонарушения, с их конфискацией или без таковой (т. е. здесь вариант, предполагающий назначение конфискации в качестве дополнительного наказания вместе с административных штрафом) … либо конфискацию предметов правонарушения (конфискация в данном случае будет основным наказанием, а не дополнительным) |
|
Таких, которые бы фигурировали только в качестве дополнительных, нет
Назначаются только судьями |
Могут предусматриваться законами субъектов РФ |
Все, кроме предупреждения и административного штрафа |
Предупреждение и административный штраф |
два вида наказаний рассматриваются законодателем с одной стороны как наименее правоограничивающие, с другой стороны – как наиболее распространенные. Для них установлено, что они могут назначаться органами исполнительной власти и могут предусматриваться законами субъектов
Отдельные виды административных наказаний
Предупреждение
Как вид административного наказания отличается от устного замечания, которое выносится при признании правонарушения малозначительным. В ст. 2.9 говорится о том, что можно прекратить производство и ограничиться устным замечанием.
Устное замечание не характеризуется как привлечение к административной ответственности (пожурил и отпустил), соответственно, в этом случае нет последствий, связанных с привлечением к ответственности (в отношении административной ответственности таких последствий немного, но они все же имеются).
Предупреждение же выносится как полноценное наказание. По этому поводу издается постановление по делу об административном правонарушении, лицо признается виновным, формально устанавливаются все элементы состава административного правонарушения и уже на этом основании принимается решение о привлечении к ответственности и назначении наказания в виде предупреждения.
Административный штраф:
общая характеристика. Это самый распространенный вид административного наказания и для многих, в т. ч. в советское время, штраф рассматривался как синоним административного наказания. В принципе именно административный штраф во многом ассоциируется с административной ответственностью, именно АШ в чистом виде рассматривается как мера административного наказания, потому что все остальные – это уже что-то связанное с участием судей. Считая допустимым назначение конфискации только в судебном порядке по Конституции, законодатель указывает на возможность назначения этого наказания судьей – Странная вещь, тем не менее к административному штрафу это явно не относится, штраф могут назначать должностные лица, органы исполнительной власти.
правила исчисления штрафа. Применительно к исчислению штрафа закон предусматривает три способа. Глобально – это два способа. 1) жесткое установление сумм штрафов 2) привязка размера штрафа к размеру орудия, предмета правонарушения (второй и третий различаются тем, что последний уплачивается исходя из стоимости неуплаченных платежей – они не являются ни орудием, ни предметом, но кратно им может устанавливаться размер штрафа).
ограничения: минимальный и максимальный размер штрафа. На практике стало очевидно, что эти размеры применимы к тем ситуациям, когда санкция установлена либо самим КоАП, либо законами субъектов РФ. Если установлена иными федеральными законами, то в этом случае ограничения, предусмотренные КоАП, не применяются.
взыскание в бюджет. Некоторое время назад еще было неочевидным, сейчас наверное уже несколько странно об этом говорить – штрафы взимаются в бюджет, а не в распоряжение того органа, который их назначает (в 90-е годы всякое бывало).
проблемы процедур исполнения наказания в виде административного штрафа. Отдельная тема для разговора – проблема состоит в несогласованности во-первых норм в самом КоАП, во-вторых - механизма. Орган, который обращает к исполнению постановление по делу, не имеет возможности проконтролировать исполнение. Если вам назначили административный штраф, то заплатить его вы обязаны, однако вы не обязаны сообщать органу о том, что вы его заплатили, теоретически он должен узнать об этом самостоятельно. Но если он самостоятельно об этом не узнает, то у вас могут возникнуть неприятные последствия. Например, орган будет считать, что постановление не исполнено и может сообщить в ССП о необходимости принудительного исполнения, а ССП может ограничить выезд за пределы РФ в связи с неуплатой штрафа. А бывает так, что ГИБДД отправляет информацию в ССП, ССП направляет уведомление лицу, привлеченному к ответственности, а тот говорит, что все давно заплатил. Тогда ССЛ выражает все свое неудовольствие ГИБДД (мы возбудили производство, потратили кучу времени, бумаги, в конечном счете – денег, и все это было по пустому поводу)
Конфискация орудия или предмета совершения административного правонарушения (практика КС РФ: Постановления от 11.03.1998 №8-П и от 14.05.1999 №8-П)
Дело о тракторе. КС сейчас рассматривает вопрос конституционности положений КоАП в части конфискации. Дело касалось совершения административного правонарушения при лесозаготовке. Лесозаготовительный аппарат (проще говоря - трактор). Основная проблема заключалась в том, что этот трактор очень дорого стоил (15 000 000). То лицо, которое непосредственно ею управляло при совершении правонарушения, не было собственником. Причем парадокс ситуации заключался в том, что дело возбудили в отношении работников организации, которая была арендатором этого трактора. Два работника, которые были операторами этого трактора не увидели, где проходит край делянки и срезали несколько лишних деревьев – общий объем ущерба, причиненного окружающей среде, был оценен в 20 000 рублей. Соответственно, эти работники были привлечены к ответственности, им назначили наказание в виде штрафа в 1000 рублей и конфисковали орудие совершения административного правонарушения стоимостью в 15 млн. рублей, более того, не только не принадлежавшего на праве собственности этим работникам, но даже той организации, которая непосредственно производила лесозаготовки.
Понятно, что больше всего это не понравилось арендодателю – собственнику этого аппарата, который к совершению административного правонарушения не имел вообще никакого отношений и который фактически пострадал.
Здесь что называется палка о двух концах. С одной стороны КоАП не предусматривает в качестве условия конфискации требование о том, чтобы конфисковывалось только орудие, находящееся в собственности именно правонарушителя. Это сделано не случайно. Законодатель руководствовался определенными соображениями, причем наверное каких-то обстоятельств он не учел, но интересно, что конфискация в уголовном законодательстве всегда была оговорена условием, что это конфискация только орудия, находящегося в собственности преступника.
В КоАП этого условия не закреплено. Наверное, законодатель исходил из того, что орудие совершения АП как правило менее дорогостоящее и соответственно нет необходимости устанавливать это ограничение, поскольку возможны значительные проблемы, которые возникнут в правоприменительной практике в части привлечения к ответственности виновных лиц. Если при преступлении можно говорить о последовательном и полноценном расследовании, то при разбирательстве дел об АП все делается быстро, на скорую руку и соответственно доказывать такие обстоятельства как то, что при совершении АП было использовано орудие, не находящееся в собственности – это слишком затруднит, затянет производство. При этом АП достаточно часто совершаются с помощью таких орудий, которые действительно необходимо изымать, поскольку они могут в последующем снова использоваться для совершения правонарушений.
Самый яркий пример – это браконьерство, использование незаконных орудий лова, например, рыболовных сетей: рыбаки выйдя на рыболовный промысел могут предварительно поменяться сетями. Если рыбнадзор поймал, то конфисковать нельзя, потому что «это не моя сеть, я у него взял ее в аренду». Чтобы этого не допустить законодатель собственно и предусмотрел отсутствие такого условия, но законодатель не имел в виду, что орудие совершения административного правонарушения может стоить несколько миллионов рублей (это несопоставимо даже с максимальным размером штрафа для юридического лица).
Основная конституционная подоплека – проблема нарушения прав собственника, потому что собственность – это право, которое касается возможности владеть, пользоваться, распоряжаться конкретной вещью, т. е. не абстрактно – не понести каких-то экономических убытков – а именно пользоваться конкретной вещью. При этом прочтении права собственности право арендодателя действительно подлежит защите. Какой тут баланс конституционных интересов выберет КС РФ сказать сложно. Белову кажется, что в принципе здесь есть довольно веские аргументы, может быть с условием ограничения максимальной стоимости орудия, но логика у законодателя есть и то, что арендодатель несет какие-то убытки, то их он вполне может взыскать с арендатора, в результате виновных действий которого фактически было совершено правонарушение. То, что утрачивается сам объект – сдавая в аренду арендодатель должен иметь представление о каком-то предпринимательском риске, в конце концов какая разница – утопил его арендатор или совершил правонарушение, в результате чего орудие было изъято.
Соответственно, конфискация остается проблемной хотя бы в этом моменте.
КоАП дает основания считать, что нелюбое изъятие в государственную собственность может считаться конфискацией. Если речь идет например, о конфискации контрафактных материалов. Возбуждено производство о продаже контрафактных компакт-дисков. В результате этого производства выясняется, что есть основания для его прекращения – отсутствует состав правонарушения, истекли сроки давности и т. д. но это не мешает изъять контрафактную продукцию, потому что она изымается не на основании КоАП как конфискация, мера ответственности, а в соответствии с законодательства об охране интеллектуальной собственности, которое предусматривает незаконность нахождения этих предметов в гражданском обороте и предусматривает возможность их изъятия, если они будут обнаружены
В КоАП упоминается ситуация, когда при наследовании выясняется, что вещь выбыла из обладания законного собственника помимо его воли и незаконно находится во владении того лица, которое с помощью этой вещи совершает административное правонарушение. В этом случае возврат предмета или орудия совершения правонарушения не будет конфискацией в смысле закона, потому что конфискация предполагает прекращение прав лица, которое законно обладает соответствующим орудием или предметом.
Применительно к практике КС РФ вопрос, который периодически возникает – с середины 90-х до прошлого месяца поступают в КС жалобы на нормы закона, которые предусматривают конфискацию тех транспортных средств, не прошедших таможенное оформление в установленном законом порядке. В законе предусмотрено, что независимо от того, кто на момент обнаружения правонарушения является владельцем, его право собственности не может считаться юридически действительным, поскольку оно возникло в условиях порочности основания. КС РФ в 1999 году по этому поводу сформулировал позицию о том, что все соответствует конституции, изымать можно, потому что права собственности не возникает, ну а защита прав добросовестного приобретателя это не та конституционная ценность, которая может послужить основанием для ограничения интересов государственного бюджета.
Кроме того, в практике КС РФ было постановление, касавшееся конфискации в административном порядке орудий или предметов совершения административного правонарушения по таможенному законодательству и тогда КС РФ буквально за год до этого вынес постановление о том, что можно конфисковывать без судебного решения и в этом случае конфискация представляет собой ни что иное как обеспечительного рода предварительную меру - при непосредственном изъятии объекта перехода права собственности не происходит, объект продолжает оставаться в собственности у того, у кого его конфисковали и только после истечения срока на обжалование, в течении которого он может защитить свои права в судебном порядке, может сохраняться за ним титул права собственности.
В 1998 году КС РФ уже рассудил все иначе – написал, что ст. 35 КРФ предусматривает прямую гарантию обязательного предварительного принятия судебного решения о конфискации имущества. Законодатель воспринял эту правовую позицию весьма своеобразно – несмотря на требование КС установить именно судебный порядок, КоАП предусматривает возможность назначения конфискации в порядке рассмотрения дел об административных правонарушениях. Но мы уже говорили, что это не судебный порядок, это порядок по природе своей административно-юрисдикционный, там нет правил, которые характерны для судопроизводства. Следовательно, это не может считаться судебным порядком в том смысле, в котором имел в виду КС и в том смысле, в котором о судебном порядке идет речь в ст. 35 КРФ. Но законодатель посчитал, что если слово «судья» есть, значит этого достаточно.
Возмездное изъятие орудия или предмета совершения административного правонарушения
Применительно к возмездному изъятию этой проблемы нет, потому что в КоАП четко сказано, что при возмездном изъятии возвращается сумма, которая была выручена от продажи возмездно изъятого собственнику. Правда опять же не указано, что нарушителем должен быть собственник
Лишение специального права
Речь может идти фактически только о трех правах
Право управления транспортными средствами (решение ВС РФ - даже если управляя легковым автомобилем водитель совершает правонарушение, лишают его права управления всеми категориями транспортных средств)
Право охоты
Право использования радиоэлектронных средств, высокочастотных устройств.
Административный арест
Обоснованность включения этого вида административного наказания в число наказаний именно в рамках административной ответственности давно вызывает большие сомнения. Дело в том что административный арест – это очень существенное ограничение права. По сути дела из административных наказаний личного характера это самое суровое. Оно даже уже больше начинает походить на наказания уголовно-правовой природы. При направлении вето президента на первоначально принятый вариант кодекса, президент указал в числе недостатков в т. ч. и включение административного ареста – предложил ГД подумать, насколько административный арест обоснованно включен в перечень административных наказаний, считая, что административная ответственность должна предусматривать менее суровые санкции. ГД подумала и оставила. За время, которое прошло с момента принятия КоАП, число составов, в которых применяется административный арест, увеличилось примерно в полтора раза.
Административное выдворение
Вопрос о выдворении всегда вызывает трудности с точки зрения соотношения с другими административными мерами, которые могут применяться по отношению к иностранцам. Дело в том, что помимо выдворения есть еще в нашем законодательстве целый ряд ситуаций, когда возможно принудительное выпроваживание иностранного гражданина за пределы территории РФ
соотношение с депортацией по Федеральному закону «О правовом положении иностранных граждан», закону «О беженцах», закону «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».
По закону о правовом положении иностранных граждан, если нарушается режим пребывания, то может применяться такая санкция как депортация.
Закон о порядке выезда и въезда предусматривает вообще право органов исполнительной власти принимать решения о нецелесообразности дальнейшего пребывания иностранца на территории РФ
Выдворение от этих мер отличается фактически тем только, что оно применяется именно в рамках производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП. Все, что касается применения именно санкций за нарушение пограничного режима, таможенного законодательства в КоАП– там может применяться именно выдворение.
Порядок исполнения очень мало отличается от той же депортации, в принципе и основания очень похожи. Но разница в том, что выдворение – это мера наказания в рамках системы ответственности. Также как с контрафактной продукцией здесь можно говорить о том, что в случае если отсутствуют какие-то формальные основания для привлечения к ответственности (нет состава или истекли сроки давности), применить выдворение нельзя, а все остальные санкции, предусмотренные законодательством, можно.
порядок исполнения: см. Приказ МВД РФ от 26.08.2004 N 533
Дисквалификация: Постановление Правительства РФ от 11.11.2002 N805 "О формировании и ведении реестра дисквалифицированных лиц“. дисквалификация похожа на такой вид уголовного наказания как запрет занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью. Первоначально она предусматривалась только для руководителей коммерческих структур, сейчас содержание дисквалификации несколько расширено. Смысл этого наказания в запрете осуществления определенной деятельности. В основном это мера, ориентированная на работников коммерческих организаций, которые занимают руководящие должности, выступают в качестве должностных лиц.
Дисквалификация – это новый вид наказания, который до появления в КоАП в нашем законодательстве не существовал и соответственно очень долго создавалась система исполнения этого наказания. Проблема заключается в том, что дисквалификация требует доступности сведений о назначении дисквалификации для всех потенциальных работодателей того лица, к которому данное наказание было применено. Более того, в КоАП установлена ответственность должностных лиц за прием на работу дисквалифицированного лица. Дабы избежать такой ответственности любой работодатель принимая нового руководителя, работника, должен узнать, не находится ли этот человек в списке дисквалифицированных лиц. Это требует наличия какой-то общей базы данных. Полномочия по ведению реестра дисквалифицированных лиц было передано МВД РФ
Административное приостановление деятельности.
Это мера, которая применяется только к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Приостановление деятельности предполагает, что это мера организационного характера, связанная просто с запретом осуществлять деятельность. Если внимательно прочитать формулировку закона, то можно увидеть что есть целый набор признаков и набор объектов, к которым может быть применено приостановление деятельности: организация в целом, деятельность отдельного филиала, деятельность на конкретном объекте (например, строительство конкретного дома может быть приостановлено в рамках административного приостановления деятельности)
Административное приостановление деятельности отличается от других видов административных наказаний целым рядом особенностей и некоторые из них явно свидетельствуют о том, что приостановление деятельности очень странно смотрится в перечне видов административных наказаний. Собственно до 2005 года это была только административно-принудительная мера, не связанная с привлечением к ответственности – это было правильно, логично, разумно, обоснованно. Если орган административного надзора обнаруживал какое-то нарушение, которое грозит явно неблагоприятными последствиями, то этот орган своим административным решением приостанавливал деятельность и выдавал предписание об устранении нарушений. Как только предприниматель отчитывался об устранении, приостановление деятельности заканчивалось.
Но деятельность органов ИВ у нас вроде как оставляет желать лучшего, поэтому законодатель решил обеспечить процедурными гарантиями применение этой меры и в итоге ничего лучшего не придумал, как включить в перечень административных наказаний.
Во-первых, возникает вопрос, насколько действительно необходимо устанавливать состав административного правонарушения, чтобы применить приостановление деятельности. То, что говорилось применительно к контрафактной продукции и выдворению, касается и административного приостановления деятельности – а если есть формальные препятствия к привлечению к ответственности, почему это должно становится препятствием для применения мер, явно направленных на предотвращение каких-то серьезных угроз безопасности? Вопрос, который не имеет ответа
Кроме того, довольно странно выглядит указание в кодексе указание на возможность досрочного прекращения приостановления деятельности. Опять же это показывает, что по смыслу административное приостановление деятельности – это мера обеспечительного характера, которая наказанием считаться не должна.
Правила назначения административных наказаний
Применительно к правилам назначения наказаний, эти правила выделены в отдельную главу. Нужно отметить, что в качестве самых общих требований назначения административного наказания фигурирует необходимость назначить наказание, которое справедливо, соразмерно совершенному деянию и в связи с этим нужно вспомнить правовую позицию КС РФ по делу о проверке конституционности закона о контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов с населением. Закон был уникален в каком-то смысле, потому что он устанавливал абсолютный размер штрафа - 10 000 рублей и все, без так называемой «вилки» в наказании, т. е. разброса по суровости наказания, который позволяет учесть индивидуальные особенности конкретного дела. Тогда КС РФ признал, что данная норма неконституционна, потому что она нарушает принцип равенства, поскольку заставляет применять одинаковое наказание в разных ситуациях, принципиально по разному оцениваемых с точки зрения тяжести совершенного правонарушения.
Иногда эта позиция КС вспоминается на практике. Всеволожский районный суд обратился в КС РФ с запросом о конституционности положений ч. 4 ст. 12.15 КоАП. В ч. 4 выбор между размерами административного наказания составляет от 4 до 6 месяцев лишения права управления транспортными средствами, никаких других видов наказаний там нет. Запрос ВРС касался соответствия этой нормы той правовой позиции, которая когда-то была высказана КС РФ в части именно возможности дифференциации наказания. Аргумент ВРС заключался в том, Что такой небольшой разброс не позволяет действительно дифференцировать наказание и действительно эффективно назначать наказание в зависимости от условий совершенного конкретного правонарушения. КС РФ отказал в рассмотрении – «ну, от 4 до 6 есть выбор? Вот этого и достаточно». Соответственно, при таком формалистском подходе КС РФ можно говорить, что неконституционно только полное отсутствие дифференциации, если она есть – все соответствует конституционным требованиям.
Ну и собственно как производится дифференциация.
Для этого КоАП предусматривает перечень смягчающих обстоятельств и перечень отягчающих обстоятельств.
Форма вины не фигурирует ни в качестве смягчающих, ни в качестве отягчающих обстоятельств. Формально, конечно, перечень смягчающих обстоятельств открытый и при рассмотрении конкретного дела какое-то обстоятельство, которое не фигурирует в КоАП в качестве смягчающего, может быть учтено в качестве такового. Принципиально по-другому сконструирован перечень отягчающих обстоятельств – он исчерпывающий. Более того, даже если какое-то обстоятельство обнаруживается в конкретном деле, при его рассмотрении конкретное обстоятельство может быть признано не являющимся отягчающим с учетом обстоятельств конкретного дела. законодатель стремится максимально доброжелательно установить условия дифференциации по отношению к лицу, привлекаемому к ответственности.
Перечень смягчающих обстоятельств может дополняться субъектами федерации (выше)
Учитываются: характер нарушения, особенности нарушителя (личность, имущественное положение), смягчающие (перечень открытый) и отягчающие (перечень закрытый и необязательный) обстоятельства.
Повторность как отягчающее обстоятельство, но не квалифицирующий признак
Назначение по совокупности нарушений:
реальная совокупность
идеальная совокупность (поглощение основных наказаний в случае одной подведомственности)
Срок давности привлечения к ответственности (ст. 4.5)
