
Глава III
Экологическая рента и антирента
В предыдущей главе речь шла о природной ренте — экономической категории, которая существует в течение тысячелетий и исследуется учеными уже несколько столетий. Рассматриваемые ниже экологическая рента и антирента — явления хозяйственной жизни, которые сформировались буквально на наших глазах, в течение последних десятилетий XX века, и только сейчас вводятся в научный оборот, становятся объектом исследования, чтобы впоследствии быть включенным в ноосферную систему управления и регулирование как на национально-государственном, так и на глобальном уровнях.
3.1. Возникновение новой экономической категории
Как рождаются новые категории в науке? Есть два пути. Первый - результат научного познания, открытия пытливым исследователем давно существовавшего, но дотоле неизвестного либо не нашедшего объяснения объективного процесса или явления. Второй путь заключается в возникновении процесса (явления), которого до того не существовало и которое только сейчас, в процессе своего становления, в первозданной свежести привлекает пристальное внимание исследователей. Категории экологической ренты и антиренты относятся именно к этому последнему случаю.
Н.Д. Кондратьев отметил, что в отличие от законов физических, химических и других естественных дисциплин законы социально-экономических наук меняются вместе с развитием общества, возникают и исчезают с его переходом от ступени к ступени [20. С. 220]. В этом особая сложность и особая прелесть для исследователей -открыть изменения системы социально-экономических законов с переходом к очередной мировой цивилизации (а именно такой переломный период имеет место на рубеже тысячелетий).
В полной мере это относится и к экономическим категориям. Подчиняясь закономерностям социогенетики, исследованная наукой система категорий, отражавшая различные стороны индустриально-капиталистического (как и индустриально- социалистического) хозяйства, подразделяется на четыре слоя. Одни из категорий выражают наследственное ядро, генотип экономический жизни и в неизменном виде переходят на следующий этап развития общества.
Другие, отражая изменчивость в динамике систем, модифицируются применительно к изменившимся условиям функционирования общества. Третьи были специфическими для завершающейся ступени и уходят со сцены вместе с ней, становятся предметом изучения истории хозяйства. Наконец, четвертый слой экономических категорий возникает, отражая специфику отношений очередного экономического способа производства с присущим ему набором и соотношением экономических укладов и уровнем обобществления воспроизводства — от локального до глобального.
Экологическая рента и антирента относятся именно к последнему слою, выражая специфические черты рождающегося гуманитар-но-ноосферного постиндустриального общества с присущими ему противоречивыми процессами глобализации. Эти категории лишь недавно введены в научный оборот [48. С. 72; 52. С. 40; 57. С. 7—9; 75. Р. 46-47; 76. Р. 36; 78. Р. 15-17].
Почему же экологическая рента и антирента появились только в конце XX столетия, тогда как их ближайшая родственница — земельная рента — существует уже несколько тысячелетий, модифицируясь при переходе к очередному экономическому способу производства?
Сама по себе экологическая деятельность, выражающая взаимоотношения и противоречия в динамике общества и окружающей природной среде, далеко не нова. С исчерпанием плодородия обрабатывавшихся на основе подсечного (огневого) земледелия участков, истощением пастбищ, засолением почв при орошаемом земледелии наблюдался отрицательный эффект человеческой деятельности для окружающей среды, падала эффективность воспроизводства и приходилось принимать решения экологического характера. Но это были явления спорадические, они носили локальный характер (хотя порой из-за этого погибали цивилизации, происходили переселения народов).
Индустриальное общество довело до предела вовлечение природных ресурсов в процесс воспроизводства и негативное воздействие производства и жизнедеятельности людей на окружающую природную среду, поставив под вопрос само существование человечества. Глобализация многократно ускорила этот процесс и обострила присущие ему противоречия. Это привело к принципиально новому явлению хозяйственной жизни — новому крупному общественному разделению труда, формированию экологической деятельности как особой отрасли народного хозяйства — экологического сектора экономики с системой присущих ему экономических категорий.
Какие виды деятельности можно отнести к этому сектору, к этой отрасли народного хозяйства наряду с промышленностью, сельским хозяйством, строительством, транспортом и т.п.?
Это, во-первых, экологическая наука, фундаментальные и прикладные научные исследования и опытно-конструкторские работы,
направленные на изучение тенденций, противоречий и перспектив (экологические прогнозы) взаимоотношения общества и природы, обеспечения воспроизводства (в экономическом смысле слова) природных ресурсов (земельных, минеральных, лесных, водных и др.), сохранения и улучшения окружающей природной среды. Такая специализация, обособление экологических исследований и разработок уже является фактом мировой и российской науки (хотя еще не признано деление научных дисциплин на естественные, технические, общественно-гуманитарные и экологические).
Во-вторых, к этому сектору относится группа природохозяйст-венных отраслей, обеспечивающих пополнение необходимых для осуществления простого и расширенного воспроизводства природных ресурсов: геологоразведка, лесное, водное и рыбное хозяйства, поддержание плодородия, мелиорация и рекультивация земель и т.п. Такие отрасли давно выделились в системе разделения труда, но они, как правило, растворены в более крупных отраслях, потребляющих те или иные природные ресурсы, подчиняются интересам и требованиям последних и поэтому зачастую не в состоянии качественно выполнять свои собственные функции, а тем более — обеспечивать единый подход к воспроизводству и рачительному использованию взаимосвязанных видов природных ресурсов.
В-третьих, это собственно природоохранные отрасли, обеспечивающие наблюдение (мониторинг) за состоянием, динамикой и загрязнением окружающей среды, проектирование и строительство очистных сооружений и природоохранных объектов, создание новых экологических объектов и экологической техники и т.п. (что переплетается с другими отраслями народного хозяйства — наукой, промышленностью, строительством, транспортом). Этими видами деятельности во всем мире занимается постоянно растущая масса людей и организаций.
В-четвертых, сюда входят многочисленные потребители природных ресурсов — практически все отрасли экономики, включая домашнее хозяйство. Одни отрасли являются природоемкими (например, энергетика, металлургия, транспорт), другие потребляют природные ресурсы в малой степени (например, сфера услуг, высокотехнологичные отрасли); но все хозяйствующие субъекты в той или иной степени загрязняют окружающую среду. С этой точки зрения в экологический сектор можно включать всю экономику, понимая, однако, что речь идет лишь об одной стороне этого многогранного феномена.
В-пятых, рассматриваемая отрасль включает экологическую инфраструктуру, которая обеспечивает доставку природных ресурсов потребителям, осуществляет информационное и финансово-банковское обслуживание деятельности всех звеньев экологического комплекса.
Рис. 3.1 Структура
экологического сектора экономики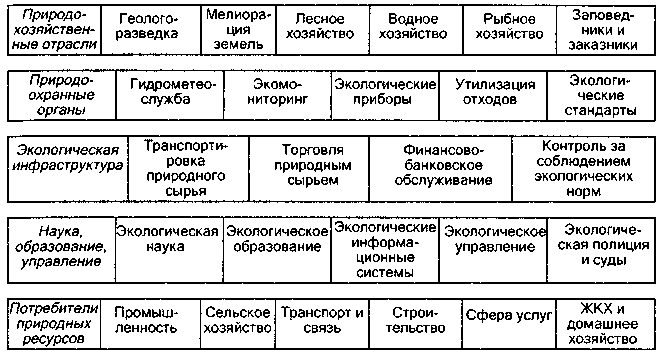
В-седьмых, сюда же включается экологическое образование — разработка учебных программ, подготовка учебников и учебно-методических пособий по дисциплинам экологического характера, ведение этих дисциплин, организация экологического образования и воспитания в средней и высшей, школе, в системе дополнительного образования и дистанционного обучения, при подготовке аспирантов и докторантов, в деятельности специализированных ученых советов, принимающих к защите их диссертации, при подготовке экологических образовательных мультимедийных дисков, сайтов Интернета, телепрограмм и т.п.
Примерная схема экологического сектора экономики приведена на рисунке 3.1.
Особенности экологического сектора экономики состоят, во-первых, в его межотраслевом характере (и соответственно — в междисциплинарном характере проводимых в этой сфере исследований), в необходимости объединения усилий различных отраслей народного хозяйства (науки и научного обслуживания,
промышленности, строительства, сельского хозяйства, управления и др.) для решения крупных экологических проблем. Во-вторых, особенность заключается в долгосрочной перспективе экологической деятельности, необходимости учета долговременных последствий происходящих процессов, которые продолжаются подчас десятки лет. Это требует длительной ретроспективы исследований, долгосрочных экологических прогнозов и стратегий. В-третьих, специфика экологического сектора состоит в многоуровневом характере экологических отношений и взаимодействий: одни из них носят локальный, специфический только для данной местности характер; другие - региональный; третьи - национальный, в масштабах государства; четвертые — трансгосударственный характер, охватывая группу стран, целый материк, а то и все глобальное экологическое пространство. В-четвертых, на первых порах своего становления этот сектор отличается диспропорциональностью и неустойчивостью; одни виды экологической деятельности более развиты, другие отстают, третьи только начинают формироваться. К последним относится система отношений, связанных с созданием, присвоением и распределением экологической ренты и антиренты.
Естественно, что экологический сектор экономики имеет свой набор экономических категорий, отвечающий специфике его функционирования и развития. Можно назвать некоторые из этих категорий: экологические потребности общества; обеспеченность производства важнейшими видами природных ресурсов; стоимость воспроизводства единицы ресурсов; экономический ущерб от загрязнения окружающей среды; ставки возмещения затрат на воспроизводство отдельных видов природных ресурсов; ставки платежей за загрязнение окружающей среды; экологическая рента; экологическая антирента.
В чем сущность и особенности двух родственных, но противоположных по своей направленности, механизму присвоения и распределения новейших экономических категорий — экологической ренты и антиренты?
Экологическая рента — это сверхприбыль, возникающая в при-родохозяйственной и природоэксплуатирующей сферах в результате применения более эффективных (про сравнению с преобладающими) техники и технологии, способов организации производства и т.п. По своей природе она аналогична дифференциальной природной ренте II рода, возникающей при более эффективном использовании природного ресурса, но значительно шире по фронту своей деятельности, поскольку может проявиться при любом виде деятельности, связанном с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. Речь может идти о применении эффективных (приносящих сверхприбыль) инновационных технологий как в геологоразведке, лесном, водном, сельском хозяйстве и
т.п., так и в сфере переработки и использования природоемкой и материалоемкой продукции, строительстве очистных сооружений, производстве экологически чистого продукта, энергетических установок и транспортных средств с минимальными выбросами, применении безотходных технологий переработки сырья и т.п. В таком широком понимании экологическая рента может проявиться в любой отрасли народного хозяйства — в отличие от природной ренты, поле возникновения которой ограничено сельским хозяйством, добывающей промышленностью и транспортом.
Одновременно экологическая рента подобна технологической квазиренте, ибо она является результатом применения более эффективных технологий и недолговечна во времени: как только экологическое новшество становится преобладающим, выражающим общественно необходимые затраты и нормальный эффект экологической деятельности, сверхприбыль в этой сфере исчезает до следующего крупного нововведения экологического характера.
Следовательно, экологическая рента носит прогрессивный характер, она побуждает разработчиков технологий и предпринимателей постоянно искать, находить и использовать более эффективные экологические технологии, ведущие к ноосферной экономике. Естественно, что претендовать на присвоение экологической ренты могут прежде всего предприниматели, а также разработчики этих технологий (включая интеллектуальную квазиренту) и государство, облагающее налогом сверхприбыль. Это своеобразный пряник, побуждающий агентов рыночного хозяйства постоянно искать и осуществлять экологические инновации, поскольку срок приносимой ими сверхприбыли (экологической ренты) недолговечен. Но и мировое сообщество может претендовать на свою (хотя и незначительную) долю в распределении этой сверхприбыли, поскольку ее первоисточник - научно-технологическая мысль - носит глобальный характер.
Принципиально иное содержание экологической антиренты — «незаконнорожденной» сверхприбыли, получаемой предпринимателями (как национальными, так и ТНК) вследствие хищнического использования природных ресурсов и сверхнормативных выбросов в окружающую среду. По сути дела это результат хищения природных богатств и условий жизнедеятельности у будущих поколений, что потребует дополнительных затрат на воспроизводство природных ресурсов и устранение причиненного экологического ущерба. Следовательно, речь идет не об административно-экономических санкциях за противоправные действия, а о реальном экономическом расчете, обращенном в будущее, чем-то напоминающем норму процента или ставки дисконтирования при оценке доходов будущих периодов. Главная функция этой категории — не пряника, но кнута, наказывающего за антиэкологическое действие и делающего
невыгодным расточительное использование природных ресурсов и сверхнормативное загрязнение окружающей среды. Естественно, плательщиком таких экологических штрафов должен быть предприниматель, а для трансграничных загрязнений и ущербов - наносящие этот ущерб страны; получателем — пострадавшие страны или мировое сообщество в лице представляющих его международных организаций (прежде всего экологических).
Изъятие экологической антиренты имеет и позитивную стимулирующую функцию, которая роднит ее с экологической рентой и побуждает к эффективным инновациям в этой сфере, поскольку дает общественно признанную границу для расчета эффективности экологических инноваций и инвестиций. Следовательно, работая в паре, в тесном единстве, эти две взаимосвязанные экономические категории дополняют друг друга, являясь краеугольными камнями ноосферного экономического механизма, действующего на национальном и глобальном уровнях и оптимально сочетающего государственное (и межгосударственное) экологическое регулирование в интересах настоящего и будущих поколений и рыночные начала, создающие реальный эколого-экономический интерес у товаропроизводителей.
Более того, можно сформулировать постулат, что умелое применение этих двух категорий в их единстве в наибольшей мере отвечает законам рынка, так как выравнивает экономические условия конкуренции предпринимателей, в неодинаковой степени использующих экологический фактор, поощряя дополнительной прибылью (экологической рентой) активных инноваторов и наказывая экологической антирентой дельцов, стремящихся к недобросовестной конкуренции и получению сверхприбыли за счет хищнического использования природных ресурсов и сверхнормативного загрязнения окружающей среды. Тем самым указанные категории служат интересам не только экологического, но и экономического, технологического и социального прогресса.
Еще раз стоит подчеркнуть, что возникновение этих категорий не было случайностью, выдумкой ревностных экологов и потянувшихся за ними экономистов. В основе этих категорий лежат два объективно обусловленных, общепризнанных факта, а точнее - ярко выраженные тенденции конца XX—начала XXI столетия: во-первых, достигшее критического уровня истощение ряда природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, что вызывает угрозу изменения климата Земли и череды экокатастроф, особенно в густонаселенных регионах планеты; во-вторых, быстро нарастающая глобализация, осуществляемая в ее нынешней модели в интересах ТНК, что углубляет пропасть между богатыми и бедными странами, таит угрозу самоубийственного столкновения цивилизаций. Смягчить эти узловые противоречия XXI в., предупредить глобальную экокатастрофу, обеспечить реализацию принципов устойчивого
развития в планетарных масштабах возможно, перейдя от деклараций и патетических призывов алярмистов, разрозненных акций «зеленых» к практическим действиям по выработке и реализации такого экономического механизма, который делал бы невыгодным для каждого агента рынка расточительное отношение к природным богатствам и загрязнение среды, побуждал к экологическим инновациям, к учету интересов будущих поколений.
При этом речь идет о динамическом, поэтапно формирующемся и развивающемся механизме. Проще всего было бы запретить эксплуатацию естественных ресурсов и выбросы в окружающую среду ради спасения природы; но это стало бы началом финального акта общества, «очищения» природы от человека, который не может существовать без использования природных ресурсов и загрязнений, определяемых используемыми технологиями. Суть экологического императива, сформулированного Н.Н. Моисеевым, в другом: создать условия для оптимальной коэволюции природы и общества, отвечающей основам гуманистически-ноосферного постиндустриального общества. Этот механизм характерен тем, что на основе непрерывного осуществления и распространения экономически оправданных экологических инноваций будут созданы условия для поэтапного ужесточения экологических стандартов, комплексного использования природных ресурсов, неистощимого природопользования в национальных и глобальном масштабах. Это также станет основой для постепенного изменения вектора нынешней модели глобализации, ее гуманизации и «ноосферизации».
Не стоит преувеличивать степень реальности предлагаемого эколого-экономического механизма, недооценивать сопротивление ему и полагать, что политические деятели \\ представители делового мира, познакомившись с этой концепцией, тут же бросятся ее выполнять. Введение отчислений от экологической антиренты, тем более в глобальных,масштабах, натолкнется на ожесточенное сопротивление мощных ТНК и государств, не желающих не только делиться с кем-либо сверхприбылью, но и вообще показывать ее истинные размеры, делать объектом государственного и межгосударственного регулирования. Об этом свидетельствует отношение правительства США к Киотскому протоколу. Потребуется ясная научная концепция, мощное общественное движение, давление осознающего свои экологические интересы глобального гражданского общества и его институтов, чтобы, предлагаемая эколого-экономическая категория получила путевку в жизнь.
3.2. Формы экологической ренты и антиренты и факторы их динамики
Рассмотрим две новые категории вместе в их конкретных ипостасях, ибо в реальной жизни они выступают как близнецы и антиподы, дополняя и оттеняя друг друга.
Традиционные формы ренты известны: дифференциальная, абсолютная, монопольная. В какой мере они применимы к рассматриваемым эколого-экономическим категориям?
Наличие дифференциальной экологической ренты и антиренты трудно оспорить. Использование базисных экологических инноваций (освоение новых источников природного сырья, новых поколений экологической техники и технологии) дает значительную сверхприбыль — разумеется, после того, как будут возмещены первоначальные (стартовые) высокие издержки пионерного освоения и откроется новая обильная рыночная ниша (что далеко не всегда удается). В фазе зрелости сверхприбыль постепенно сходит на нет, а в заключительной фазе превращается в свою противоположность, открывая дорогу для освоения следующего поколения. В фазе распространения нового поколения техники (технологии) экологическая рента реализуется с помощью множества улучшающих инноваций, дающих (да и то не всегда) незначительную и недолговечную сверхприбыль, однако из-за их большого числа масса экологической ренты может быть значительной, хотя и постепенно уменьшающейся.
Очевиден дифференциальный характер и экологической антиренты — она зависит от масштабов допускаемых нарушений и разрабатываемых ресурсов (например, при вырубке тропических лесов Амазонки), жесткости государственного контроля за соблюдением экологических стандартов и сверхнормативными потерями при добыче полезных ископаемых, качества самих стандартов и нормативов и других факторов.
Что касается абсолютной ренты, то применительно к экологической ренте она практически не просматривается (может быть, в небольшой мере — при использовании лицензий на патенты, закрепляющие интеллектуальную собственность на экологические изобретения). Другое дело экологическая антирента. Присваивая ее, государство выступает как высший собственник природных ресурсов, ответственный перед настоящим и будущими поколениями за состояние окружающей среды, поэтому здесь черты абсолютной ренты, определяющей минимальный размер платы за загрязнение среды и сверхнормативные потери, более очевидны.
Монопольная экологическая рента и антирента могут возникать в случаях, когда ТНК удается использовать свое монопольное положение для сдерживания удешевления экологической техники или
Рис. 3.2
Разновидности
экологической ренты и антиренты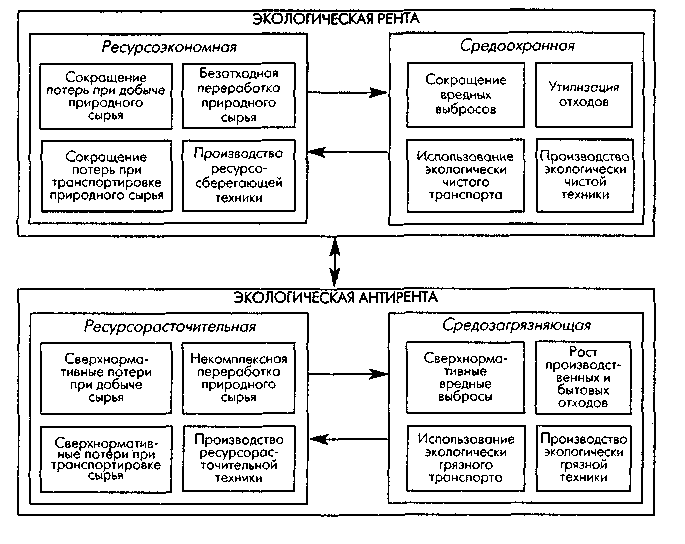
Разновидности экологической ренты и антиренты могут быть классифицированы применительно к тем видам природных ресурсов и элементам окружающей среды, где они действуют (рис. 3.2).
Экологическая рента находит выражение в сверхприбыли, получаемой в результате использования высокоэффективных технологий, позволяющих существенно сократить потери при добыче, переработке и транспортировке природного сырья, повысить плодородие земли, уменьшить вредные выбросы в воздушную и водную среду, а также загрязнение почвы и атмосферы; соответственно можно говорить об атмосферной, гидросферной, почвенной и лито-сферной разновидностях этой ренты. Однако она не сможет стать реальностью, если не учитывается и не оплачивается ущерб, причиняемый выбросами в атмосферу, сбросом неочищенных сточных вод, использованием земельных площадей под свалки, сжиганием
попутного нефтяного газа в факелах, сверхнормативными потерями минеральных и лесных ресурсов при их добыче и т.п. Для этого в свою очередь необходимы уполномоченные государством организации, наблюдающие за соблюдением установленных экологических стандартов и отклонениями от них (как в лучшую, так и в худшую сторону). Иными словами, экологические «кнут и пряник» должны действовать совместно, в рамках единого механизма государственного экологического регулирования; при этом самым сложным является определение и периодическая корректировка нормативов загрязнения, ставок штрафных платежей (экологической антиренты) и норм обложения сверхприбыли, являющейся основой экологической ренты и антиренты, которые, как видно из рисунка 3.2, носят зеркальный характер.
Эта проблема становится на порядок сложнее, когда речь идет о трансграничных обменах вредными выбросами между странами и цивилизациями. Проводятся обследования, которые позволяют выявить объем «экспорта» и «импорта» таких выбросов различными странами. Так, по данным международных измерений, «экспорт» окисленной серы превышал ее «импорт» в обмене России с Италией в 169 раз, с Великобританией - в J 06 раз, с Германией - в 58 раз, с Польшей - 18,7 раза, с Эстонией - в 8,6 раза, с Украиной - в 5,8 раза, а с Финляндией и Швецией было обратное соотношение — 0,4 раза, с Норвегией — 0,1 раза. Для стран, подписавших конвенцию, превышение загрязнений, выпадавших на территорию России, над поступлениями из нее суммарно составило по окислам серы 6,2 раза, по окислам азота — 3,6 раза, по восстановленному азоту — 5,9 раза, по выпадениям свинца — 4,6 раза, калия - 5,7 раза, ртути - 14,5 раза [14]. Если бы вступила в действие предусмотренная Киотским протоколом система платы за выбросы в атмосферу и международной торговли квотами, это на деле ввело бы в жизнь категорию мировой экологической антиренты и стало бы сильным стимулом для применения инноваций, направленных на существенное уменьшение этих выбросов ради сокращения антиренты или получения мировой экологической ренты (до очередного пересмотра и ужесточения международных экологических стандартов).
По территории действия экологические рента и антирента разделяются на локальные (экологические стандарты, устанавливаемые, например, в Норильске, Новокузнецке или Липецке в связи с многократным превышением выбросов в атмосферу от стационарных источников над среднероссийскими), региональные (в масштабах одного или нескольких субъектов Российской Федерации), национальные (в масштабах страны), межгосударственные (например, в рамках ЕС, СНГ или НАФТА) и глобальные, которые могут устанавливаться органами ООН или на основе международного договора (например, принятой в 1979 г. международной конвенции
Таблица 3.1 Выбросы
двуокиси углерода [72. Р. 162—164]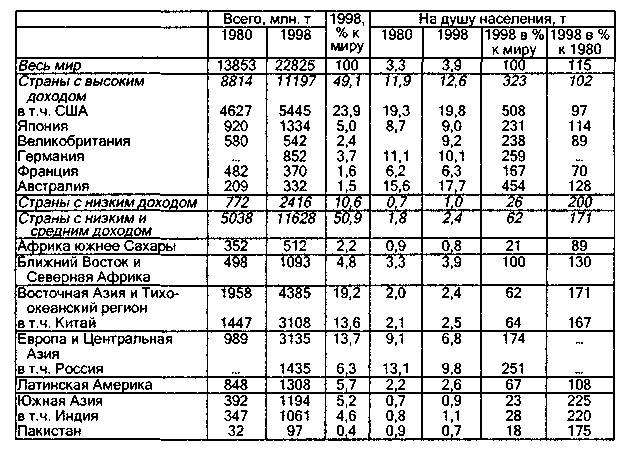
О распределении вредных выбросов (и соответственно экологической антиренты) между важнейшими странами и цивилизациями можно судить по данным Всемирного банка об эмиссии С02 (табл. 3.1).
Почти половина выбросов двуокиси углерода приходится на страны с высоким доходом, в которых проживает 14,9 % населения Земли (в т.ч. на США — 24 %); на страны с низким уровнем доходов (40,5 % населения Земли) приходится всего 10,6 % выбросов — в 12,6 раза меньше надушу населения; выбросы в США на душу населения в 24 раза выше, чем в Африке к югу от Сахары. Естественно предположить, что бремя мировой экологической антиренты (если она будет введена) придется на североамериканскую, западноевропейскую и японскую цивилизации в пользу африканской и индийской. России не приходится особенно рассчитывать на дополнительный доход от этого источника, поскольку ее выбросы на душу населения в 2,5 раза превышают среднемировые.
Если в государствах с высоким уровнем доходов выбросы практически стабилизировались (а в Германии даже сократились), то в странах с низким уровнем доходов они стремительно растут — вдвое
за 18 лет, что предопределило повышение уровня выбросов в целом на 15 %.
Каковы факторы динамики экологической ренты и антиренты как в национальном, так и в глобальном масштабах?
Если оставить в.стороне форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты и т.п., приносящие значительный экологический ущерб), то систему основных факторов, определяющих уровень и волнообразную динамику экологической ренты и антиренты, можно согласовать со сменой разнообразных по длительности и сферам действия технологических, экономических и экологических циклов и их фаз.
Наибольшее влияние на динамику экологической ренты и антиренты оказывают технологические циклы разной длительности — среднесрочные (поколения техники и технологии), долгосрочные (технологические уклады), сверхдолгосрочные (технологические способы производства).
Распространение новых поколений техники, а тем более технологических укладов на основе кластера базисных инноваций сопровождается вовлечением в производство новых естественных производительных сил, скачкообразным ростом производительности труда, снижением издержек производства. В этой фазе технологического цикла объем и норма экологической ренты (как национальной, так и мировой) быстро растут в авангардных странах, являющихся эпицентром технологического переворота и снимающих его плоды в виде технологической квазиренты и экологической ренты, а также дифференциальной природной ренты II рода. В этот период экологическая антирента сведена к минимуму.
В фазе зрелости технологических и экономических циклов норма экологической ренты падет, но масса ее максимальна в силу широкого распространения большого количества улучшающих инноваций и расширения ареала использования поколений техники (очередного технологического уклада) по все более широкому кругу стран. Вместе с тем достижения пионеров технологического прорыва становятся общедоступными, определяющими общественно необходимый уровень качества и цены освоившей новые рыночные ниши продукции, что сужает поле возникновения сверхприбыли в любой ее форме. Начинает создаваться экологическая антирента - сверхприбыль, получаемая за счет нарушения пока еше не устоявшихся экологических стандартов и хищнического использования природных ресурсов, особенно в отсталых странах. К этому агрессивный капитал подталкивают угрозы потери ставшей уже привычной сверхприбыли.
Эти негативные тенденции усиливаются в кризисной фазе технологических и экономического циклов, в период стремительно разворачивающегося экологического кризиса. Экологической ренты
(как и технологической квазиренты) нет и в помине, производство сворачивается, спрос на природоемкие и высокотехнологичные продукты падет, издержки повышаются, лавинообразно растет цепь банкротств. Оставшиеся фирмы стремятся выжить за счет усиленной эксплуатации лучших природных ресурсов и сокращения экологических затрат, перенесения природоемких производств в другие страны. Быстро увеличиваются масштабы экологической антиренты, хотя она и тонет в общем объеме падающей нормы и массы прибыли.
При переходе к следующему циклу, в конце депрессии и начале оживления, при освоении нового кластера базисных инноваций экологическая рента (равно как и технологическая квазирента) практически отсутствует в связи с высокими издержками разработки принципиально новых продуктов (технологий) и завоевания ими рыночных ниш, но постепенно начинают нарастать объемы экологической ренты и технологической квазиренты при сокращении экологической антиренты.
Следовательно, динамика экологических циклов (неразрывно связанных с технологическими и экономическими циклами разной длительности) находит выражение в движении объема и нормы экологической ренты и антиренты, которые находятся как бы в противофазах друг к другу: в фазе подъема экологическая рента максимальная, экологическая антирента почти отсутствует; в фазах кризиса и депрессии наблюдается обратная картина. Амплитуда колебаний наиболее высока при смене технологических способов производства и технологических укладов и менее значительна при смене поколений техники (технологий) в рамках среднесрочных циклов.
Конец XX—начало XXI в. характеризуются переходом от индустриального к постиндустриальному технологическому способу производства. Преобладающий в этот период пятый технологический уклад на рубеже веков достиг стадии зрелости, началась его понижательная волна, что нашло выражение в кризисе 2001—2002 гг., поразившем наиболее развитые в технологическом отношении страны — США, Японию, государства Западной Европы. Это становится импульсом для концентрации исследований на разработке поколений шестого уклада, которые станут определяющими на мировом рынке в 2020-е годы (после следующего, более глубокого и длительного кризиса 2010-х годов).
Следовательно, можно ожидать, что в начале XXI века норма и масса экологической ренты будут падать (при колебаниях в рамках среднесрочных циклов), а экологической антиренты - нарастать. Надо полагать, что в 20-е годы, в фазе распространения шестого технологического уклада, верх возьмут противоположные тенденции. Ближайшее будущее покажет, насколько оправдаются эти
ожидания и, следовательно, насколько близка к истине предлагаемая концепция цикличной динамики экологической ренты и антиренты.
3.3.Глобализация и перспективы экологической ренты и антиренты
Какое влияние оказывают процессы глобализации на уровень и динамику экологической ренты и антиренты, на их дальнейшую судьбу?
Глобализация ведет к уплотнению планетарного экологического пространства. Это находит выражение в двух противоположных тенденциях. С одной стороны, глобальные масштабы воспроизводства, сохранение сравнительно высоких темпов роста населения и спроса на первичные ресурсы, которые в обозримый период достигнут грани истощения, увеличение выбросов отходов производства и жизнедеятельности в окружающую среду, стремительная вырубка тропических лесов — «зеленых легких» планеты, загрязнение морей и океанов — все это приближает человечество к локальным и глобальной экологическим катастрофам, ставит развитию общества пределы, четко сформулированные в докладах Римскому клубу (хотя некоторые из этих прогнозов оказались чрезмерно пессимистическими, они вынудили мыслящих людей взглянуть в лицо надвигающейся угрозе и сконцентрировать усилия на ее предотвращении).
Эта негативная тенденция современной глобализации усиливается тем, что сейчас она осуществляется преимущественно по неолиберальной модели, в интересах и под контролем могущественных ТНК, сконцентрированных в развитых цивилизациях (североамериканской, западноевропейской, японской), и ведет к углублению достигшей критического предела пропасти между богатейшим меньшинством и беднейшим большинством населения планеты.
Эта тенденция ведет к уменьшению простора для экологической ренты (поскольку основные запасы природных ресурсов находятся в странах и цивилизациях с низким и средним уровнем среднедушевых доходов) и нарастанию масштабов экологической антиренты, присваиваемой бесконтрольно хозяйничающими в этих странах ТНК.
Но складывается и другая, противоположно направленная тенденция глобализации и ее последствий. Она открывает простор для очередного технологического переворота и его распространения в планетарных масштабах. Перспективная высокоинтеллектуальная продукция в малой степени связана с природным сырьем (хотя и потребляет немало энергии). В производство вовлекаются новые
экологически чистые источники энергии, виды транспорта, искусственные материалы. Относительно, а в ряде случаев и абсолютно сокращается спрос на природные ресурсы, получают распространение энергосберегающие, малоотходные и безотходные технологии. Относительно уменьшается и потребность населения в природных источниках сырья и энергии. Хотя конечный спрос пока абсолютно увеличивается, особенно за счет развивающихся стран, растет уровень загрязнения окружающей среды отходами жизнедеятельности, в долгосрочной перспективе и здесь открываются новые возможности.
Однако позитивный вариант экобудущего может стать реальностью лишь при реализации ноосферной модели глобализации, осуществляемой в интересах большинства населения планеты, если ТНК будут поставлены под контроль глобального гражданского общества и его институтов, при принятии концепции глобального устойчивого развития (о чем речь пойдет далее).
Борьба этих двух вариантов, двух моделей глобализации — неолиберальной и ноосферной - главное противоречие первых десятилетий XXI в. Это отчетливо проявилось на Всемирной встрече по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002 г.). Первая модель пока преобладает, но поскольку ее негативные последствия становятся все более очевидными, растут предпосылки, научные и общественные (а в перспективе - и политические) силы, ратующие за ноо-сферную модель и осуществляющие ее. Можно ожидать, что глубоким мировым технологическим, экономическим и экологическим кризисом начала 2010-х годов будет дан мощный импульс для реализации этой модели; в таком случае простор для экологической ренты на основе распространения шестого технологического уклада существенно увеличится, а объемы экологической антиренты (под более жестким национальным и международным контролем) резко сократятся (но с меньшей амплитудой их колебаний по фазам циклов).
Глобализация сопровождается интеграцией национальных хозяйств и одновременным углублением дифференциации локальных цивилизаций, формированием четвертого их поколения [53. Гл. 1]. Как это сказывается на взаимоотношениях общества и природы, экологическом развитии, распределении экологической ренты и антиренты между цивилизациями и ведущими странами?
Об исходном положении в этой области свидетельствуют данные Всемирного банка, приведенные в таблице 3.2.
США и Австралия лучше обеспечены земельными, водными, лесными и минеральными ресурсами, в Западной Европе положение хуже. Наиболее бедна природными ресурсами Япония. Страны с высоким уровнем дохода (14,9 % населения Земли) потребляют половину мировых энергоресурсов (в том числе 24 % за счет чистого
Таблица 3.2 Потребление природных ресурсов по цивилизациям и ведущим странам
[71. Р. 138-1601
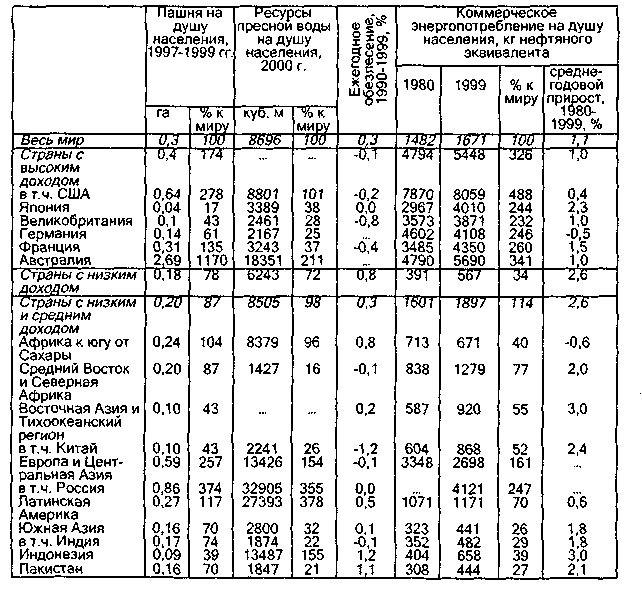
импорта), тогда как беднейшие страны (40,6 % населения) — всего 12,7 % энергоресурсов, являясь чистыми их экспортерами.
Африканская цивилизация обеспечена пашней и пресными водами на среднемировом уровне, однако по потреблению энергии отстает от среднемирового уровня в 2,5 раза и от стран с высоким доходом — в 8,1 раза. Индия и Пакистан хуже всего обеспечены основными видами природных ресурсов и имеют наиболее низкий уровень энергопотребления. Россия находится в благоприятных ресурсно-экологических условиях: обеспеченность пашней выше среднемировой в 3,7 раза, пресными водами - в 3,6 раза; хорошие показатели также по обеспеченности минеральными и лесными ресурсами. В период кризиса 1990-х годов энергопотребление сократилось, но следует ожидать его роста.
Каковы перспективы ресурсно-экологической динамики цивилизаций в первой четверти XXI в. с учетом тенденций глобализации и развертывания технологического переворота?
1. Можно ожидать общего сокращения темпов роста потребле ния первичных ресурсов и загрязнения окружающей среды в силу действия ряда долгосрочных факторов:
* увеличения численности населения Земли и соответственно плотности населения и спроса на природоемкие и природозагряз- няющие продукты. При этом в одних цивилизациях сохранятся высокие темпы роста населения (африканская, индийская, му сульманская, буддийская, латиноамериканская, океаническая — в Микронезии, Меланезии и Полинезии), в других рост населения будет умеренным (китайская, североамериканская), в третьих во зобладает тенденция к депопуляции (западноевропейская, япон ская, евразийская — в России, Украине и Беларуси);
' изменения структуры экономики, увеличения удельного веса услуг и высокотехнологичных производств, в минимальной степени потребляющих природные ресурсы и загрязняющих выбросами окружающую среду, при продолжающемся падении доли сельского хозяйства и добывающей промышленности. Эта тенденция будет наблюдаться во всех цивилизациях, уменьшая зависимость развитых стран от импорта сырья и энергоносителей, но до полной независимости здесь весьма далеко;
* распространения присущих пятому и особенно шестому техноло гическим укладам энергосберегающих, безотходных и экологиче ски чистых технологий.
Более четко проявится дифференциация цивилизаций на чистых экспортеров (доноров) и чистых импортеров (потребителей) природного сырья и топлива. По данным Всемирного банка, с 1980 по 1999 гг. доля чистого импорта энергоносителей в коммерческом энергопотреблении выросла в США с 14 % до 26 %, в Германии — с 48 % до 61 %, в Южной Азии — с 10 % до 16 % (в Индии - с 8 % до 15 %), тогда как в Японии снизилась с 88 % до 80 %, во Франции - с 75 % до 50 %; превышение экспорта над внутренним потреблением энергии составило по Среднему Востоку и Северной Африке 230 % (в 1980 г. - 580 %), в Африке к югу от Сахары — 56 %, в Латинской Америке — 39 %, в России — 58 %. Подобная тенденция наблюдается и по выбросам двуокиси углерода и других загрязняющих веществ. В значительной мере такая тенденция является следствием реализа-ции неолиберальной модели глобализации, усиливающей доведенную до опасной черты поляризацию стран и цивилизаций по уровню экономического развития и экологическому состоянию. Чтобы переломить эту опасную тенденцию, нужно перейти к ноо-сферной модели глобализации.
Указанные тенденции будут оказывать противоречивое воздействие на динамику экологической ренты и антиренты. С одной стороны, освоение высокоэффективных, ресурсосберегающих поколений техники шестого технологического уклада на первых порах
даст существенный скачок сверхприбылей для предприятий, ТНК и стран, которые будут пионерами в освоении этого уклада в приро-дохозяйственных и природоемких отраслях, — до тех пор, пока эти технологии не станут общераспространенными, определяющими конкурентоспособность товаров и услуг. Одновременно сократится объем экологической антиренты, особенно в условиях усиления контроля за соблюдением установленных экологических нормативов (периодическое ужесточение этих нормативов будет приводить к временному увеличению размеров экологической ренты и антиренты). С другой стороны, сокращение объема загрязнений окружающей среды и доли сельского хозяйства и добывающей промышленности в структуре воспроизводства приведет к уменьшению массы экологической ренты и антиренты, значительному падению их доли в общей массе сверхприбыли, получаемой ТНК и цивилизациями.
3.4. Присвоение и использование экологической ренты и антиренты
Экономическая сущность собственности состоит в присвоении дохода, прибыли и особенно сверхприбыли (ренты) от эксплуатации ресурсов объекта собственности. Применительно к природным ресурсам со времен Генри Джорджа известно правило: фактический собственник тот, кто присваивает ренту, кому бы эта собственность формально не принадлежала. На этом и была построена теория национализации земли Г. Джорджа. «Я не предлагаю, - писал он, - ни выкупать, ни отбирать в казну право частной собственности на землю. Первое было бы несправедливо, второе - бесполезно. Пусть те люди, которые в настоящее время обладают этим правом, сохраняют за собой владение тем, что им угодно называть своею землею <...> Мы спокойно можем оставить им скорлупу, если возьмем зерно. Нет никакой необходимости отбирать землю; необходимо только отобрать ренту» [П. С. 283]. Обложение землевладельцев налогом, равным ренте, позволит, по мнению Г. Джорджа, увеличить зарплату рабочих и прибыль капиталов, устранить бедность.
Как же применить эти общие правила присвоения и использования собственником дохода и сверхдохода (сверхприбыли) к таким родившимся на наших глазах зеркально взаимосвязанным экономическим категориям, как экологическая рента и антирента? Для этого нужно прежде всего выяснить, кто же является объектом и субъектом собственности (присвоения) в национальном и мировом хозяйстве.
Объектом экологической ренты можно считать сверхприбыль, получаемую при применении более эффективной технологии (по сравнению с общественно нормальной, средней по национальному
или мировому рынку при данном уровне издержек и цен) при действующих экологических стандартах и ограничениях. Эта сверхприбыль является результатом экологических инноваций, существует ограниченное время (пока эта инновация не станет общераспространенной) и может возникать в любом поле экологической деятельности, например, при использовании экологически чистых подвижных (транспорт) или стационарных источников загрязнения атмосферы, при сбросе лучше очищенных сточных вод, снижении потерь при добыче минеральных и лесных ресурсов, улучшении плодородия почвы и т.п. Главное - чтобы были шкала измерения дополнительного экологического (выраженного через экономический) эффекта от применения такой техники и технологии, наличие реального источника экологической сверхприбыли (в том числе и за счет уменьшения платежей экологической антиренты) и возможность ее измерить; в противном случае экологическая сверхприбыль останется эфемерной, неизмеримой и экономически ничтожной категорией, «облаком в штанах», а экологические инновации для предпринимателей потеряют смысл и смогут осуществляться только за счет бюджетных ассигнований или добровольных пожертвований.
Сложнее обстоит дело с определением и измерением мировой экологической антиренты. Обязательным элементом здесь должно быть наличие международно признанных, узаконенных вступившим в силу международным договором экологических стандартов, правил их применения и установления санкций за нарушение этих стандартов (таковы, например, конвенция «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния», Киотский протокол). Необходимо наличие международного органа с четко определенными правомочиями по контролю за выполнением установленных норм международного экологического права, а также действенные механизмы применения санкций и использования полученных сумм. Все эти международные экологические нормы и органы находятся в стадии зарождения или в лучшем случае становления, поэтому мировая экологическая антирента скорее желаема, чем реальна; однако она существует и измерима в случае экспорта экологической техники и технологий новых поколений, приносящего сверхприбыль, которую можно отнести и к технологической квазиренте.
Не менее сложной является проблема определения субъекта присвоения экологической ренты. Поскольку эта рента является результатом и плодом инновационной деятельности с присущими ей стартовыми затратами и рисками, то бесспорно право на присвоение полученной сверхприбыли предпринимателя — новатора, реализовавшего экологическую инновацию на свой страх и риск. Но только ли его? Ведь он осуществлял идею исследователя и изобретателя, которым принадлежит право интеллектуальной собственности и,
следовательно, участия в присвоении полученной на основе реализации этой идеи сверхприбыли (если изобретение не реализовано, не принесло дохода — интеллектуальная собственность осталась гордым, но бесполезным монументом).
Участвует ли государство в присвоении мировой экологической ренты? Да, участвует на обычных началах, облагая налогом полученную предпринимателем и владельцем интеллектуальной собственности прибыль (доход), а в случае применения экспортных таможенных пошлин - присваивая с их помощью часть мировой экологической ренты. Кроме того, если государство является собственником экспортирующих экологическую технику (технологию) предприятий, оно вправе претендовать на прямое участие в присвоении полученной при этом сверхприбыли.
Субъектом присвоения мировой экологической ренты являются также ТНК, которые могут выступать как экспортеры результатов эффективных экологических инноваций и как посредники в торговле ими. Поскольку ТНК контролируют значительные (а иногда и основные) рынки экологической техники (технологии), они могут использовать свою силу для завышения цен на нее и присвоения монопольной экологической ренты.
Иная картина складывается с объектом присвоения экологической антиренты.
Объектом в данном случае служит сверхприбыль, являющаяся результатом невыполнения установленных экологических стандартов и ограничений — национальных или международных, экономии затрат, которые потребовались бы для соблюдения этих стандартов и ограничений, исходя из того, что ущерб от этого не обнаружится вообще либо обнаружится через длительное время. По сути дела.это незаконное обогащение от противоправного действия или бездействия. Поэтому экологическая антирента имеет целью не только изъять незаконную (полученную в результате нарушения правил добросовестной конкуренции) прибыль и сверхприбыль, но и оценить возникший экологический ущерб и компенсировать его (с учетом фактора времени). К этому нередко добавляется и штрафная составляющая — наказание за правонарушение.
Если в национальных экономиках (особенно в развитых странах) экономические санкции за допущенные экологические нарушения применяются все более широко, то в мировой практике в этом направлении предпринимаются лишь первые робкие шаги. Хотя для всех очевиден ущерб глобальному экологическому пространству, возникающий вследствие чрезмерных загрязнений отдельными странами и цивилизациями, а также при ускоренной вырубке тропических лесов (ежегодное обезлесение за 1990-2000 гг. составило по Гаити 5,7 %, Сальвадору — 4,6 %, Руанде — 3,9 %, Нигеру — 3,7 % при средних по миру 0,3 %), экономические санкции в
этих случаях не установлены, а без них невозможно ограничить корыстные действия ТНК, идущих на нарушение экологических правил ради получения сверхприбылей. Поэтому необходимым условием реализации деклараций об устойчивом развитии и экологическом равновесии в мире, принятых на саммитах в Рио де Жанейро (1992 г.) и Йоханнесбурге (2002 г.), является введение меж-ду-народных экологических правил и ограничений и экономических санкций за их нарушение - мировой экологической антиренты.
Кто же является субъектом присвоения экологической антиренты? Естественно, что им не могут быть предприниматель или ТНК, нарушающие требования экологических стандартов и ограничений, — как раз изъятие противоправной сверхприбыли выравнивает условия конкуренции на национальном или мировом рынке, ослабляет соблазны увеличить прибыль за счет хищнического использования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды и создает благоприятный экономический фон, побудительные мотивы для рационализации природопользования, освоения экологических инноваций и получения на этой основе экологической ренты. «Кнут и пряник» в таком тандеме двуедины.
Природные ресурсы и окружающая среда не являются продуктом человеческого труда и в принципе не должны быть предметом частной собственности, а принадлежать гражданскому обществу на разных его уровнях - от сельской общины до мирового сообщества. И это логично: поскольку частный собственник в рыночной экономике заботится о сиюминутной выгоде, максимуме прибыли, горизонт его видения не охватывает длительную перспективу, заботу о наследстве для будущих поколений в рамках муниципального образования, региона, страны или человечества в целом. Это не вина частного собственника, предпринимателя, а его естественное состояние, выражение сути частной собственности и рыночной экономики. Воспроизводство природных ресурсов, охрана и улучшение окружающей среды являются предметом заботы гражданского общества и создаваемых им специализированных институтов. Для выполнения этой функции необходимы постоянные и значительные ресурсы, которые предусматриваются в бюджетах соответствующих уровней либо формируются в виде экологических фондов и направляются на целевое финансирование экологических программ и проектов, экологический мониторинг и контроль.
Теория национализации земли и других природных ресурсов исходит из того, что единым и неразделимым собственником природных ресурсов должно быть национальное государство. Эта модель была на практике осуществлена в советской России, хотя происходила она под флагом реализации эсеровской программы социализации земли, что не равнозначно национализации и предполагает приоритет права работающих на земле и их коллективов
7-3376
на пользование природными ресурсами. Провозглашение в конституциях СССР безраздельной государственной собственности на землю, недра, леса, воды и другие природные ресурсы на деле означало полноправное распоряжение партийно-государственного бюрократического аппарата природными богатствами и созданными с их применением доходами, включая ренту. И хотя в 1970—80-е годы в планировании и экономическом стимулировании рационального природопользования было сделано немало, эффект этих усилий был явно недостаточным. Фактический отказ от государственного регулирования природопользования в 1990-е годы, развязывание рыночной стихии принесли огромный ущерб как воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов, так и окружающей среде — в ущерб и за счет будущих поколений, которые получат в наследство истощенный природный потенциал страны и ухудшенную среду обитания.
Общественное присвоение экологической антиренты, на наш взгляд, должно быть многоуровневым, как иерархично само гражданское общество. Можно выделить пять уровней: первичный (муниципальный), региональный, национально-государственный, межгосударственно-цивилизационный (типа Европейского Союза, СНГ, НАФТА, Африканского союза и др.), глобальный. Каждый из этих уровней имеет свой круг интересов и ответственности за рациональное природопользование и состояние окружающей среды и должен иметь устойчивые источники доходов для выполнения этой функции, в том числе и прежде всего за счет присвоения определенной части экологической антиренты. Эта система сложна, она требует четкого разграничения компетенции между всеми пятью уровнями, но ни один их них невозможно исключить из общей системы, отражающей иерархический характер природопользования и иерархическую структуру гражданского общества.
Как же использовать экологическую антиренту, поступающую на каждый из пяти уровней гражданского общества? Возможны два механизма такого использования. Один, ныне широко практикуемый, — растворение поступающих платежей в доходной части соответствующего бюджета; затем в расходной части бюджета предусматриваются средства на экологический мониторинг, финансирование мероприятий по рациональному природопользованию и охране окружающей среды, экологических целевых программ и проектов, содержание экологических служб, создание экологических фондов и т.п. Такой механизм чрезвычайно удобен для чиновников разных уровней, от муниципальных до международных, открывая простор для принятия решений по их усмотрению; но он лишает формирующийся экологический сектор экономики самостоятельных устойчивых источников самофинансирования воспроизводства — как простого, так и расширенного, ставит его на зыбкую
почву произвола органов, утверждающих и исполняющих бюджеты соответствующего уровня. А для психологии чиновников характерно пренебрежение перспективными, стратегическими интересами в пользу нужд текущих, сиюминутных.
Поэтому представляется более перспективным и надежным механизм самофинансирования экологической отрасли за счет устойчивых источников. Такими источниками могли бы выступать:
* своеобразные амортизационные отчисления за долгосрочную экс плуатацию разведанных месторождений полезных ископаемых, лесных массивов, водных систем, земель сельскохозяйственного и иного назначения в виде включаемых в себестоимость затрат, воз мещающих затраты на геологоразведку, лесное, водное и рыбное хозяйство, мелиорацию земель и т.п. Это отнюдь не налог, как пы тались представить некоторые финансовые мудрецы и поддержав шие их законодатели, а необходимый компонент издержек вос производства в природоэксплуатирующих отраслях; эти средства должны концентрироваться в соответствующих фондах и служить источником для воспроизводства и охраны природных ресурсов;
поступления отчислений экологической антиренты в экологические фонды соответствующего уровня; эти фонды должны носить межотраслевой характер и использоваться для финансирования экологического мониторинга и исследований, экологических программ, проектов и мероприятий на каждом из уровней гражданского общества и его институтов;
текущие поступления от реализации экологических программ и проектов (включая отчисления от экологической ренты, полученной при поддержке фондов), проведения экологической экспертизы инвестиционных и инновационных проектов, разработки кадастров природных ресурсов и других платных услуг экологических органов и организаций.
Создание слаженного, четко действующего экономического механизма рационального природопользования и охраны окружающей среды, отвечающего условиям регулируемой рыночной экономики и опирающегося на формирование и эффективное использование устойчивых источников самофинансирования, включая отчисления от экологической ренты и антиренты, - единственный надежный путь к ноосферному постиндустриальному обществу, обеспечивающему оптимальную коэволюцию общества и природы.
3.5. Долгосрочный прогноз ЮНЕП и судьба экологической антиренты
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) периодически публикует подготовленные с участием широкого круга научных и неправительственных организаций доклады о тенденциях и
перспективах экологического развития в планетарных масштабах и по регионам мира. К Всемирной встрече по устойчивому развитию в Йоханнесбурге ЮНЕП подготовлен и опубликован фундаментальный труд «Глобальная экологическая перспектива. Прошлое, настоящее и перспективы на будущее» (ГЕО-3). В нем подведены итоги социально-экономического и природно-ресурсного развития (земельные и лесные ресурсы, биоразнообразие, ресурсы пресных вод, прибрежные и морские зоны, городские территории, бедствия) за тридцать лет (1972-2002 гг.), прошедшие со времени конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме, по миру в целом и по семи регионам (Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Латинская Америка и Карибский бассейн, Северная Америка, Западная Азия, полярные регионы) и определены сценарии экологического развития на следующие 30 лет (до 2032 г.) в тех же разрезах и регионах [51].
Оценивая итоги мирового развития за истекшие 30 лет, ГЕО-3 отмечает ряд позитивных тенденций: население Земли живет дольше и является более здоровым (выросла средняя ожидаемая продолжительность жизни, сократились детская смертность и число голодающих), стало более грамотным и лучше образованным (повысились уровень грамотности взрослого населения, доля обучающихся в школах детей), имеет более высокий доход (увеличился ВВП на душу населения, уменьшилась доля населения с доходами ниже 1 долл. вдень).
Однако эти утешительные данные не могут скрыть продолжающихся негативных тенденций, особенно в области экологического развития. Возросшая численность населения мира — с 3,85 млрд. в 1972 г. до 6,1 млрд. в середине 2000 г. (на 58 %), особенно в странах с низким уровнем дохода, увеличила демографическую нагрузку на природные ресурсы и окружающую среду. Возрос разрыв между богатыми и бедными странами. Ежегодный прирост мирового потребления энергии с 1972 по 1999 гг. составил 2 % в год (2,8 % в 70-е годы, 1,5 % в 90-е), что ускорило исчерпание доступных запасов ископаемого топлива и усилило парниковое загрязнение планеты; разрыв в потреблении электроэнергии между странами ОЕСР и развивающимися странами достиг почти 100 раз (соответственно 8053 и 83 кВтч на душу населения). Ухудшилось положение с земельными ресурсами и снабжением продовольствием ряда стран. Потери лесного покрова с 90-х годов составили 94 млн. га (2,4 % общей площади лесов); особенно быстро вырубаются тропические леса. Усилилась угроза биоразнообразию: 24 % видов млекопитающих и 12 % видов птиц находятся под угрозой исчезновения. Возрастает дефицит пресной воды: 1,1 млрд. человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а 2,4 млрд. не обеспечены канализацией. Усилилась деградация морских и прибрежных экосистем; значительно
увеличились загрязнение атмосферы, выбросы парниковых газов и токсичных веществ, расширились масштабы озоновых дыр в верхних слоях атмосферы. Во многих странах наблюдается деградация окружающей среды в условиях быстро растущей урбанизации. Намеченные Стокгольмской конференцией ООН по окружающей среде 1972 г. и Конференцией ООН по окружающей среде и развитию в Рио де Жанейро 1992 г. ориентиры улучшения экологической обстановки на планете и сокращения разрыва между богатыми и бедными странами оказались в основном не выполненными, преобладали реальные тенденции, противоположные ожидаемым. Возросла уязвимость человека вследствие изменений окружающей среды.
Что же ГЕО—3 прогнозирует на следующие 30 лет - до 2032 г.? В докладе рассматриваются четыре сценария — два негативных и два позитивных.
Сценарий «Приоритет рынка» ориентирован на дальнейшую глобализацию и либерализацию, рост корпоративного благосостояния, превалирование в обществе рыночных императивов при минимальном государственном регулировании. Иными словами, это - инерционный сценарий, продляющий в будущее тенденции, преобладающие на рубеже веков.
Сценарий «Приоритет-безопасность» предполагает усиление неравенства и конфликтов, что побуждает наиболее процветающие общества сконцентрировать усилия на обеспечении собственной безопасности, формировании «привилегированных островов» с повышенной безопасностью и выгодой для себя^ ухудшением положения аутсайдеров. По существу, это реализация концепции «расколотой цивилизации», отстаиваемой В.Л. Иноземцевым [13]. Она неизбежно приведет к столкновению цивилизаций.
Сценарий «Приоритет-стратегия» нацелен на усиление регулирующей роли правительств, скоординированные меры по улучшению окружающей среды и борьбе с бедностью, сочетание планирования с фискальными мерами (налог на выбросы углекислого газа, налоговые льготы), интегрирование международных соглашений по охране окружающей среды в перспективные планы. Этот сценарий Отвечает сформулированному П. Сорокиным социальному закону, согласно которому роль правительственной регламентации в критических ситуациях возрастает [38], а также основам кейнсианской экономической политики.
Сценарий «Приоритет—устойчивость» основан на новой парадигме развития и окружающей среды, включающей существенный сдвиг в способах взаимодействия людей друг с другом и с миром, политику, направленную на достижение стабильности, и ответственное корпоративное поведение; более тесное сотрудничество между правительством и гражданами, чтобы обеспечить базовые
потребности и осуществить персональные цели без ущемления интересов других людей и ухудшения перспектив для потомков. Как видно, это эволюционный подход, ориентированный в большой мере на моральные стимулы и распространение общечеловеческих ценностей. Однако остается неясным, каков механизм реализации этого сценария, что заставит своекорыстные ТНК и могущественные державы свернуть с проторенного пути и устремиться к идеалам устойчивого развития на основе всеобщего согласия и сотрудничества, — хотя само по себе становление интегрального социокультурного строя, как убедительно показал П. Сорокин, является шагом в этом направлении.
В докладе исследуется возможное влияние рассматриваемых сценариев на основные параметры экологического развития на период до 2032 г. и более отдаленную перспективу: выбросы диоксида углерода от всех источников, его концентрацию в атмосфере; потенциальное увеличение поступления азота в прибрежные экосистемы; изменение глобальной температуры; долю и численность населения, проживающего в районах с острым дефицитом воды; долю недоедающего населения. По всем параметрам сценарии, ориентированные на рынок и на безопасность, показывают ухудшение показателей или относительно большее возрастание эмиссии (например, по выбросам двуокиси углерода), а сценарии «Приоритет—безопасность» и «Приоритет—устойчивость» (особенно последний) — улучшение показателей или более медленное возрастание. Однако за счет чего это произойдет — не очень понятно.
Среди рекомендуемых мер для осуществления лучших сценариев («Уроки будущего») — скоординированные действия, которые нужно начинать уже сейчас: создание сильных организационных структур для управления природопользованием и охраной окружающей среды (но не раскрыто, на каком уровне - национальном или глобальном), обеспечение современного доступа к точной информации (информации и сейчас в избытке, но она весьма противоречива). Предлагается и перечень практических действий, среди которых: улучшение контроля за эффективностью проводимых мероприятий; усиление международного природоохранного законодательства, т.е. по существу - формирование глобального экологического права и контроля за его выполнением, что весьма важно; изменение структуры мировой торговли в пользу окружающей среды; передача новых технологий развивающимся странам (в чем не заинтересованы монопольно владеющие ими ТНК); «заставить рынок работать в интересах устойчивого развития» (?); развитие добровольной деятельности (?); коллективное управление природопользованием и охраной окружающей среды; усиление деятельности на местах (что необходимо, но не может решить глобальные проблемы).
Весьма основательно проработанный и богато иллюстрированный долгосрочный экологический прогноз страдает рядом принципиальных недостатков, присущих методологии прогнозирования, основанной на индустриальной, преимущественно ли-нейно-экстраполяционной парадигме. Не учтены следующие тенденции первостепенной важности:
Первые два-три десятилетия XXI в. - это период становления постиндустриальной гуманистически-ноосферной мировой цивилизации и интегрального социокультурного строя [55. С. 271—277; 60. Гл. 15]. В переходный период осуществляются радикальные перемены как в технологической базе общества и системе экономических и геополитических отношений, так и в системе ценностей сменяющих друг друга поколений людей, происходит перелом ряда преобладавших в индустриальную эпоху тенденций, в том числе и в области экологического развития, в направлении ноосферы, коэволюции общества и природы; эти перемены отчетливо выразил Н.Н. Моисеев [28].
В эти же десятилетия развертывается переход к постиндустриальному способу производства и соответствующему ему шестому технологическому укладу. В основе мирового экономического кризиса 2001—2002 гг. лежит смена повышательной волны пятого Кондратьевского цикла понижательной волной. Экономический потенциал поколений пятого уклада в значительной мере исчерпан, эйфория информационного общества уходит в прошлое, раздутые ТНК, действующие в этой сфере, лопаются как мыльные пузыри. На первое место выходят принципиально новые технологии, способные удовлетворить насущные потребности общества в продовольствии, энергии, медикаментах при минимальном ущербе окружающей среде.
Представленные на саммите в Йоханнесбурге прогнозы на XXI в. показывают неизбежность радикальных перемен в структуре энергопотребления. Сверхдолгосрочный прогноз Международного энергетического агентства предполагает сокращение доли ископаемых видов топлива (нефти, газа и угля) к 2100 г. до 20 % и рост доли биомассы, солнечной энергии, гидроэнергии и других возобновляемых источников энергии до 80 %. Однако радикальный перелом тенденции намечается лишь после 2025 г.; видимо, его необходимо приблизить, ибо технологический переворот развернется начиная с 10-х годов наступившего столетия. При этом в середине века предполагается прекращение использования атомной энергии; решающая роль отводится солнечной энергии (почти 40 % к концу века) и биомассе (более 25 %).
Иное видение будущего у Международного атомного агентства. Согласно представленным им двум сценариям, сокращение и сведение к минимуму атомной энергии приведет к тому, что нефть, газ и
твердое топливо к концу века сохранят преобладающую долю (около двух третей) в структуре энергопотребления; доля возобновляемых источников энергии вырастет до 20 %, выброс двуокиси углерода существенно увеличится. Если же предпочтение будет отдано атомной энергии (с увеличением ее доли до трети энергопотребления), то доля ископаемого топлива останется высокой (более 40 %), а возобновляемые источники составят менее 20 %; при таком сценарии ожидается значительное уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу.
Эти сценарии требуют дальнейшей проработки, однако в структуре энергопотребления очевидна неизбежность глубоких перемен, которые по сравнению со сценарием ЮНЕП значительно сократят выбросы в атмосферу. Задачи мирового сообщества состоят в том, чтобы возможно более полно использовать энергосберегающий потенциал современного технологического переворота, приблизить его сроки и активно использовать не только в развитых, но и в развивающихся странах, которые могли бы получить доступ к современному энергоснабжению при сравнительно менее резком увеличении потребления ископаемых энергоресурсов и выбросов в окружающую среду парниковых газов.
Очевидно, что необходимо дополнить предложенные ЮНЕП четыре сценария пятым: «Приоритет—технология». В этом сценарии основной упор в перспективной глобальной экологической политике должен быть сделан на освоении как в развитых, так и в развивающихся странах кластера базисных инноваций, выражающих ресурсосберегающую, ноосферную сущность шестого технологического уклада и постиндустриального технологического способа производства и тем самым не только относительно, но в ряде случаев абсолютно сокращающих использование невоспроизводимых природных ресурсов, обеспечивающих сокращение загрязнения окружающей среды и постепенное ее облагораживание в регионах и странах, где она понесла наибольший ущерб (как это достигнуто, например, в Японии). Только на основе радикальных сдвигов в структуре производства и потребления можно достичь значительных успехов в реализации долгосрочного устойчивого развития и экологического оздоровления в масштабах планеты, цивилизаций, регионов и отдельных стран.
При осуществлении этого сценария основное внимание должно быть уделено:
* глобальному экологическому мониторингу и прогнозированию на основе сочетания космического наблюдения с аэровоздушным, наземным и водным, особенно в густонаселенных регионах и районах повышенной экологической опасности. Это даст возможность выявить закономерности и факторы экологической динамики, разрешить бушующие споры о причинах и тенденциях парникового
эффекта, сокращения озонового слоя и т.п. В то же время появятся более надежные методы обнаружения и измерения источников вредных выбросов как базы для обоснованного установления ставок отчислений мировой и национальной экологической антиренты, формирования международных экологических программ и объективного контроля за масштабами и последствиям их реализации;
* выявлению и распространению экологически чистых источников энергии, удовлетворяющих растущие энергопотребности населе ния, особенно в развивающихся странах и регионах (прежде всего в Африке, Центральной и Южной Азии), за счет возобновляемых источников энергии и с минимальным ущербом окружающей среде. Речь идет не только о солнечной и ветровой энергии, топ ливных насосах и т.п., но и о развитии гидроэнергетики на основе генераторов, позволяющих использовать энергию движения воды на больших, средних и малых реках без строительства высоких плотин и затопления плодородных пойменных земель, о развитии малой энергетики;
* широкому распространению безотходных и малоотходных техноло гий добычи и использования природного сырья и топлива (в том
. числе геобиотехнологии для извлечения полезных компонентов из недр и накопившихся отвалов с помощью штаммов микроорганизмов), новых поколений средств транспорта, работающих на водороде, солнечной энергии, автономных систем бытового энергопотребления, обеспечивающих значительную экономию энергии, и т.п.
Реализация сценария «Приоритет-технология» потребует активной государственной и межгосударственной поддержки и создания благоприятного социокультурного климата, т.е. использования тех рычагов и мотивов глобального экологического развития, которые заложены в сценариях ЮНЕП «Приоритет-стратегия» и «Приоритет—устойчивость». И ежу понятно, что без существенной поддержки и финансирования со стороны государств и межгосударственных объединений невозможно освоить в крупных масштабах кластер базисных ресурсосберегающих, экологически безопасных инноваций, особенно в странах с низким уровнем дохода и квалификации работников. Для этого потребуется система долгосрочных целевых инновационных программ как на национальном, так и на цивили-зационно-межгосударственном и глобальном уровнях, а также надежные каналы их ресурсообеспечения на основе национальных, цивилизационных и глобальных экологических и технологических фондов. Потребуется также социокультурное обеспечение этой стратегии путем развития технологического и экологического образования, активизации фундаментальных и прикладных экологических и гуманитарных наук, распространения ноосферной
идеологии, формирования с помощью сети неправительственных организаций системы контроля глобального гражданского общества за разработкой, последовательным осуществлением и последствиями глобальной и цивилизационной экологической политики и реализующих ее целевых программ и проектов. Необходим также поворот в целевых установках, ответственности и мотивах деятельности корпораций, прежде всего ТНК, изменение вектора глобализации на гуманитарно-ноосферный.
Какова судьба мировой экологической ренты и антиренты при реализации изложенных выше сценариев экологического развития планеты?
Сценарии «Приоритет-рынок» и «Приоритет-безопасность» усилят дифференциацию экономического и экологического развития стран и цивилизаций, что приведет к увеличению масштабов экологической антиренты, которая будет присваиваться в основном ТНК и развитыми странами, использующими подавляющую часть природных ресурсов и являющимися лидерами в загрязнении окружающей среды. Масштабы экологической ренты в результате использования ресурсосберегающих, экологически чистых технологий, напротив, будут ограничены, поскольку у обладающих значительными ресурсами компаний не будет достаточных стимулов для освоения и распространения таких технологий.
Реализация сценариев «Приоритет-стратегия», «Приоритет-устойчивость» и особенно «Приоритет—технология» приведет к обратным результатам. Жесткие меры правительств и межгосударственных объединений по усилению контроля за рациональным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды, создание системы экологических санкций, реализация целевых ресурсосберегающих и экологических программ и проектов усилят стимулы для ТНК и национальных компаний к освоению и распространению ресурсосберегающих и безотходных технологий, что приведет к увеличению масштабов национальной и мировой экологической ренты. Следовательно, у государств, межгосударственных объединений и корпораций, ООН, ПРООН и ЮНЕП появятся надежные источники для осуществления ресурсосберегающих и экологических программ и проектов, для последовательной реализации эффективной стратегии устойчивого развития.
ГЛАВА W
Туристская и транспортная ренты
Наряду с видами ренты и антиренты, неразрывно связанными с природными источниками (природная, экологическая), существуют смешанные виды ренты, которые обязаны своим прохождением как естественным, так и социальным факторам. К ним необходимо отнести прежде всего туристскую и транспортную ренты — в национальном и в глобальном измерениях.
4.1. Национальная и мировая туристская рента
Туризм - древняя, но начиная с XX в. стремительно развивающаяся отрасль экономики, которая в международной торговле товарами и услугами занимает третье место (после торговли нефтью и вооружениями), но в перспективе имеет шансы выйти на первое. В 2000 г. общие доходы от въездного туризма составили 475,8 млрд. долл. — 6,2 % мирового экспорта [71. Р. 376].
Под туризмом понимают временные перемещения граждан со своего постоянного места жительства в другую страну (международный туризм — въездной и выездной) или в другую местность в пределах своей страны (внутренний туризм) в свободное время с целью удовлетворения своих потребностей — культурно-познавательных, рекреационных (оздоровительных), спортивных, профессионально-деловых, экологических, религиозных и т.п. — без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания [16. С. 7]. Следует отличать от туризма миграционные потоки (законные и нелегальные), перемещения в порядке выполнения профессиональной обязанности (служебные командировки, стажировки и т.п.), потоки беженцев из мест вооруженных столкновений или стихийных бедствий, перемещения из города в город и из страны в страну для учебы, в поисках высокооплачиваемой работы или на сезонные заработки и т.п.
Суть туризма - в удовлетворении духовных, физических (оздоровление) и материальных («шоп-туризм») потребностей людей. Туристский рынок — составная часть потребительского рынка, занимающая все большую долю рынка платных услуг по мере роста уровня жизни граждан той или иной страны, удовлетворения первичных материальных и духовных потребностей людей (в пище, одежде и обуви, жилище, медицинском обслуживании).
Туризм разнороден по своему составу. Он включает широкий поток как внутреннего перемещения лиц в пределах региона или страны, так и международного перемещения — въездной (прием иностранных туристов, т.е. экспорт туристских услуг) и выездной (поездки граждан в другие страны, импорт туристских услуг). Наряду с туризмом общего, ознакомительного характера существует широкая гамма специализированных видов туризма:
* культурно-исторический — для ознакомления с памятниками куль туры и истории, посещения музеев, театров, фестивалей и т.п.;
* оздоровительный (рекреационный) — посещение курортных мест для лечения и отдыха;
социальный — поездки по льготным ценам для пенсионеров, малоимущих семей, школьников, студентов;
семейный — поездки для отдыха или оздоровления целыми семьями;
научный — участие в международных конференциях, симпозиумах, семинарах, посещение научных центров и т.п.;
' образовательный — проведение летних школ для школьников и студентов, экскурсии в другие города и страны для дополнения учебного материала;
спортивный - для участия в спортивных соревнованиях и других мероприятиях, посещение чемпионатов и олимпиад болельщиками;
охотничий — участие в охоте на диких животных по приобретенным лицензиям;
* экологический — посещение заповедников, объектов всемирного природного наследия, участие в экологических форумах и встречах;
экстремальный — участие в поездках, связанных с высоким риском (альпинизм, путешествие по горным рекам, пересечение океанов на яхтах или воздушных шарах, поездки в Арктику и Антарктиду и т.п. В последнее время сюда добавился и космический туризм);
религиозный— паломничества к святым местам той или иной религии, поездки для ознакомления с храмами, религиозными святынями и памятниками, участие в религиозных праздниках и встречах.
В процессе подготовки к Году диалога между цивилизациями (2001 г.) автором был предложен такой наукоемкий вид специализированного туризма, как цивилизационный туризм, который позволяет получить разностороннее представление о той или иной цивилизации - ее культуре, истории, этике, нравах, обычаях и менталитете составляющих цивилизацию этносов, взаимодействии с другими цивилизациями. Концепция цивилизационного туризма была представлена нами в 2000 г. на Петербургском экономическом форуме, обсуждалась на семинаре-практикуме «Ресурсы цивилизационного туризма» в Пушкинских горах в октябре 2002 г.; совместно с туристической компанией «Мир» подготовлены программы специализированных туров «Петербург — город диалога цивилизаций», «Северо-Западная Русь — истоки и вершины российской цивилизации».
В 2001 г. был организован первый цивилизационный тур «Влади-миро-Суздальская Русь» для участников IV Международной Кондратьевской конференции «Диалог и взаимодействие цивилизаций Востока и Запада: альтернативы на XXI век». Идея использования туризма для диалога и взаимопонимания цивилизаций получила поддержку в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 56/6 от 9 ноября 2001 г. «Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями».
Туризм как отрасль экономики носит комплексный характер. Он объединяет деятельность многих отраслей и видов услуг:
* собственно туристские услуги (разработка туристских программ и туров, деятельность туроператоров и турагентов по рекламе и продаже туров, их организации и выполнению, обслуживанию туристов);
услуги тра'нспортных организаций по доставке туристов к месту назначения, поездкам во время экскурсий и пребывания в стране (месте) назначения;
услуги связи для туристов и турфирм;
услуги гостиничного и коммунального хозяйства по размещению и обслуживанию туристов;
' услуги учреждений культуры (музеи, театры, выставки, фестивали и т.п.);
услуги оздоровительных учреждений (курортов, санаториев, домов отдыха, больниц, поликлиник, аптек и т.п.);
организация питания туристов в ресторанах, столовых, приобретение ими продовольственных товаров, алкогольных и безалкогольных напитков и т.п.;
* приобретение туристами в магазинах сувениров, произведений искусства, спорттоваров и т.п.;
" информационное обслуживание туристов, приобретение ими компакт-дисков, видеокассет, альбомов, постеров, путеводителей, буклетов и т.п.
Из перечисленных видов деятельности очевидно, что страна, регион или город, которые являются привлекательными для туристов, получают мощный поток финансовых ресурсов для развития комплекса отраслей, ориентированных на потребности туристов. Недостатком при этом является сезонность туристских потоков, недогрузка мощностей турфирм, гостиниц, ресторанов, транспорта в «мертвый сезон», когда пик спроса на туристские услуги позади.
Международный туризм растет опережающими темпами. Представление о темпах роста туризма и его распределении по цивилизациям и ведущим странам дает таблица 4.1.
За 10 лет число международных туристов выросло на 51 %, а доходы от прибывающих туристов — на 62 %. На страны с высоким уровнем доходов в 2000 г. приходились 62 % прибывающих туристов
Таблица 4.1 Динамика и распределение международного туризма по цивилизациям и ведущим странам [71. Р. 374—376]
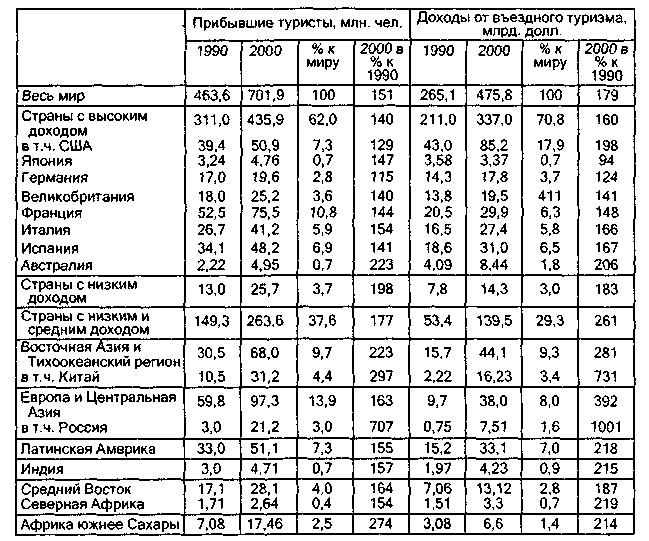
Таблица 4.2 Развитие международного туризма [53. С. 312]
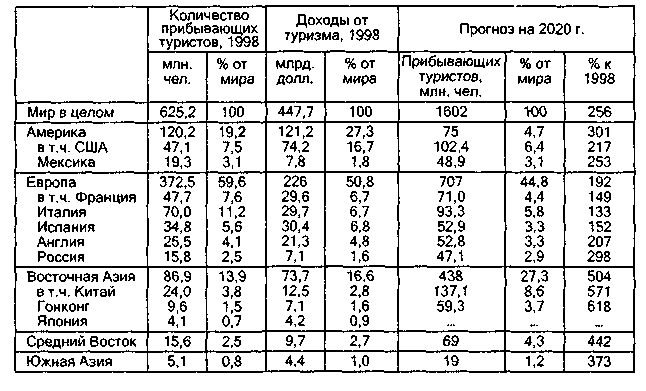
и 71 % доходов от въездного туризма. Наиболее высокими темпами рос поток туристов в Восточную и Южную Азию (особенно Китай), Латинскую Америку, Африку, США, более низкие темпы наблюдались в Западной Европе. В Японии число туристов и доходы от них даже сократились. В России быстрый рост количества туристов восполнил допущенные в начале 1990-х годов потери.
По прогнозу Всемирной туристской организации, к 2020 г. число прибывающих туристов в мире возрастет до 1,6 млрд. человек (табл. 4.2), а доходы от них - до 2 трлн. долл.
Как видно из таблиц, основными получателями доходов от въездного туризма являются развитые страны; в последнее время к ним активно подключается Китай. Россия за годы реформ потеряла значительную часть своего туристского потенциала, накопленного в советское время, и на мировом туристском рынке занимает скромное место.
Динамика туризма подвержена цикличным колебаниям. Он быстро набирает темп в фазах оживления, подъема и зрелости экономических циклов, когда экономика и благосостояние граждан растут, преобладают оптимистические надежды и ожидания. В фазах кризиса и депрессии картина меняется: падают доходы большинства занятых, растет безработица, увеличиваются неуверенность в завтрашнем дне, пессимистические ожидания, тревога; многим людям не до поездок. На уровень туризма влияют и внеэкономические факторы, особенно вооруженные столкновения и международный терроризм. Конфликты в Ливане, бывшей Югославии. Закавказье многократно сократили приток туристов в эти страны, значительную часть ВНП которых составляли доходы от туризма. После террористических актов 11 сентября 2001 г, сразу резко сократился поток туристов, пользовавшихся авиарейсами; одновременно выросло число внутренних туристов, использующих другие виды транспорта. Поэтому прогнозы Всемирной туристской организации могут оказаться чрезмерно оптимистическими.
Туризм, как и любой другой вид рыночной деятельности, ведется ради получения прибыли и желательно сверхприбыли, которую можно считать туристской рентой. Если принять, что она составляет 10 % доходов от международного туризма, то примерные масштабы мировой туристкой ренты в конце XX в. можно оценить в сумму около 50 млрд. долл.; при реализации прогноза Всемирной туристской организации к 2020 г. она достигнет 200 млрд. долл., т.е. увеличится в 4 раза. Доходы от внутреннего туризма обычно превышают доходы от международного; однако здесь уровень рентабельности туристских услуг ниже, поэтому норму туристской ренты можно условно принять за 5 %. При предпосылке, что доходы от внутреннего и международного туризма примерно равны, общую сумму получаемой и ожидаемой туристской ренты можно увеличить
примерно в полтора раза, т.е. до 100 млрд. долл. в начале века и до 400 млрд. долл. к 2020 г.
Что является первоисточником туристской ренты, «рентонос-ными» факторами?
Это прежде всего природно-климатические условия (в этом туристская рента родственна видам природной ренты). Отдельные граждане, семьи, коллективы жаждут покупаться в море, озере или на берегу реки, побывать в национальных парках, в горах, полечиться в термальных водах, принять курс минеральных вод, загореть под теплым солнцем и т.п. В уникальных, пользующихся повышенным спросом местах отдыха, на курортах можно извлекать и монопольную туристскую ренту.
Не менее важную роль в формировании туристской ренты играет социокультурный фактор. Приехавшие из других стран и регионов туристы жадно интересуются незнакомыми им памятниками истории и культуры, нравами, обычаями и традициями людей, посещают музеи, театры, архитектурные памятники, приобретают сувениры, альбомы, информационные продукты и т.п. Особенно силен этот интерес при знакомстве с иной цивилизацией во всей ее многогранной самобытности.
Немаловажна роль экономического фактора. Выбирая возможные маршруты, туристы сравнивают их стоимость с качеством и разнообразием услуг, новизной впечатлений. Для шоп-туристов («челноков») определяющую роль играет возможность приобрести по умеренным ценам товары, которые можно с выгодой продать после возвращения. «Челночный» импорт в России составляет миллиарды долларов; по оценкам, он вырос с 404 млн. долл. в 1992 г. до 21 455 млн. в 1996 г. — в 53 раза; в 2000 г. он составил 10 675 млн. долл. [44. С. 764]
Следует учитывать также роль транспортного фактора и географического положения в развитии туристского рынка и формировании туристской ренты (дифференциальной ренты по местоположению). Удобно расположенные места отдыха и развлечений с густой сетью хорошо оснащенных траспортных путей привлекают потоки туристов. Австралия располагает великолепным потенциалом для туризма как раз в период, когда в Северном полушарии «мертвый сезон»; однако удаленность материка от основных центров выездного туризма, дороговизна поездок ограничивают поток туристов. Удобно расположенные исторические города и курорты Италии, Испании и Франции привлекают большой поток туристов независимо от сезона. Россия располагает большими возможностями развития транзитного (Восток—Запад и Север—Юг) туризма; однако эти возможности используются пока в малой степени.
Следовательно, по своему происхождению туристская рента многоканальная, многофакторная, что дает основание относить ее
к смешанному типу рентных отношений, причем соотношение факторов для разных видов туризма неодинаково. Так, природный фактор играет решающую роль в оздоровительном и экологическом туризме; социокультурный - в культурно-историческом, образовательном, научном, религиозном, цивилизационном туризме; экономический - в профессионально-деловом и шоп-туризме.
В каких формах выступает туристская рента? В.М. Козырев полагает, что туристская рента выступает в трех традиционных формах: монопольной, дифференциальной и абсолютной. «Монопольная туристская рента образуется на основе хозяйственного использования туристских ресурсов уникального качества <...> Господство абсолютной монополии на уникальные туристские услуги порождает монопольно высокие цены <...> Дифференциальная туристская рента образуется на основе хозяйственного использования туристских ресурсов неравного качества». При этом рыночная цена туристского продукта ориентируется на уровень затрат предприятий, которые используют относительно худшие природные ресурсы; «разность между общественными, рыночными и индивидуальными стоимостями как раз и образует добавочную прибыль - основу дифференциальной, или разностной туристской ренты <...> В сфере туризма имеются все необходимые условия для образования абсолютной туристской ренты на чисто рыночной основе <...> абсолютная туристская рента предполагает, что обычные худшие природные условия выступают нижней (бортовой) границей формирования предельного продукта и рыночной цены» [16. С. 28—37].
Наличие дифференциальной туристской ренты не вызывает сомнений. Видимо, ее можно подразделить на дифренту I рода, связанную с природным, оздоровительным, культурно-историческим аспектом предлагаемых услуг и местоположением района их предложения, и дифренту II рода, отражающую результаты инновационных усилий предоставляющих туристские услуги предприятий (включая и использование научно-технических достижений для повышения качества и эффективности предлагаемых услуг). Однако требует дополнительного исследования вопрос об установлении цен на туристские услуги на уровне предельных (замыкающих) издержек туристских предприятий, находящихся в условиях худших, но пользующихся спросом на туристском рынке. Это может иметь основания лишь в отношении природного фактора — объективного, не зависящего от деятельности людей. Но туризм, как было показано выше, включает и иные факторы, которые зависят от потребителей и от предпринимателей и на которые распространяются общие законы рыночной конкуренции и формирования цен на базе преобладающих издержек. Кроме того, туристские услуги включают деятельность ряда смежных отраслей (транспорта, связи, общественного питания, гостиничного хозяйства, культуры,
торговли и др.), на которые тенденция формирования цен на базе замыкающих затрат не распространяется.
Следует допустить возможность возникновения монопольной туристской ренты в отношении, например, курортов с особо благоприятными бальнеологическими свойствами, посещения уникальных музеев (например, Эрмитажа или Лувра) либо в странах, обладающих исключительным, уникальным набором туристских ресурсов (например Италия, Греция). Однако необходимо учитывать, что установление монопольных цен имеет свои ограничения, поскольку высокие цены на туристские услуги сдерживают приток туристов, которые имеют широкий спектр выбора. Это ограничивает и возможный объем монопольной туристской ренты.
Что касается абсолютной туристской ренты, которая могла бы возникнуть и в худших условиях, обусловливая относительно более высокий уровень цен на туристские услуги и гарантируя дополнительный доход собственникам любых (включая и худшие из пользующихся спросом) туристских ресурсов, то образование этого вида ренты в сфере туризма представляется весьма ограниченным в силу высокого уровня конкуренции в этом сегменте рынка и возможности расширения ассортимента предлагаемых потребителю услуг. Абсолютная рента в ограниченных масштабах может формироваться лишь под воздействием уникального природного фактора, в значительной мере совпадая с монопольной рентой либо являясь ее составным элементом.
Следует также отметить, что цены и тарифы на комплекс туристских услуг варьируются по сезонам. Во время максимума спроса они находятся на верхнем пределе, принося максимум ренты, а в остальное время года широко применяются разнообразные скидки и льготные цены для потребителей, чтобы сгладить сезонную неравномерность. Поэтому сумму и норму туристской ренты следует определять не в среднемесячном измерении, а с учетом возможных колебаний под влиянием погодных факторов, стихийных бедствий, политических потрясений и т.п. в среднегодовом измерении (например, в виде скользящей средней за пять лет).
Необходимо также принимать во внимание, что цены международных туров формируются на основе официальных курсов валют, которые могут существенно отличаться от реальной покупательной способности валюты на внутреннем рынке и цен, по котором туристы оплачивают ряд товаров и услуг; изменения валютных курсов и паритета покупательной способности сказываются на объеме реализуемых туристских услуг, массе и норме мировой туристской ренты. Например, в результате дефолта 1998 г. в России официальный валютный курс рубля по отношению к доллару США упал в 4,5 раза, а паритет покупательной способности — в 1,9 раза; отношение паритета покупательной способности к валютному курсу
снизилось с 44 до 19 [35. С. 389]. В результате относительно подорожал и абсолютно сократился импорт туристских услуг (выездной туризм), подешевел и возрос их экспорт и спрос на внутренний туризм, а также на отдых в странах СНГ. Значительно вырос объем мировой и внутренней туристской ренты, реализуемой Россией. Однако в дальнейшем с ростом внутренних цен и сближением курсов валют возможности для получения туристской ренты сократились. События сентября 2001 г. и марта-апреля 2003 г. привели к падению мировых цен на туристские услуги и авиатарифов, что обусловило резкое сокращение объема мировой туристской ренты, убыточность многих турфирм и авиакомпаний. Лишь постепенно положение начало улучшаться.
Комплексность туристской услуги обусловливает множественность субъектов присвоения туристской ренты. Это прежде всего /иу/?фи/шы-туроператоры и турагенты, которые разрабатывают туристский продукт, реализуют его и организуют туры. Они оперируют на внутреннем и мировом туристском рынке, определяют цены на туристские услуги и присваивают прибыль и сверхприбыль, если цены значительно превышают издержки — не по каждой отдельной сделке, а суммарно за год, с учетом сезонных колебаний. Турфирмы участвуют как в экспорте, так и в импорте туристских услуг и могут при этом реализовать сверхприбыль как часть мировой туристской ренты.
Другим крупным субъектом присвоения туристской ренты являются транспортные организации — авиакомпании, морские и речные пароходства, железнодорожные и автомобильные компании. Особенно велика их доля в мировой туристской ренте, поскольку международный туризм связан с большими объемами перевозок пассажиров на далекие расстояния. Транспортные тарифы с учетом разнообразных скидок составляются с таким расчетом, чтобы несмотря на сокращение числа пассажиров и рост издержек в межсезонье в целом по году были возмещены затраты, получены прибыль и сверхприбыль как источник туристско-транспортной ренты (здесь находится область переплетения двух видов ренты — туристской и транспортной).
Третий субъект присвоения туристской ренты - сфера туристской инфраструктуры — гостиницы, рестораны, кафе, магазины, обслуживающие туристов, средства связи, изготовители сувениров, компакт-дисков, мультимедийных дисков и т.п. Объем реализации производимых ими услуг и товаров напрямую зависит от потока туристов, и они устанавливают цены и тарифы таким образом, чтобы перекрыть убытки межсезонья и в итоге года получить прибыль и сверхприбыль как источник туристской ренты.
Законным получателем части туристской ренты являются курорты, здравницы, музеи, заповедники и т.п. — то, ради чего туристы
устремляются в другие регионы и страны, снимаясь на время с насиженных мест, тратя накопленные за год для отдыха средства. Именно эти организации могут претендовать на долю не только дифференциальной, но и монопольной ренты. Некоторые из этих организаций являются частными собственниками, но значительная их доля (прежде всего уникальные культурные и природные объекты) находится в государственной собственности.
Наконец, весомая доля туристской ренты достается государству. Оно присваивает рейту по нескольким каналам:
облагая доходы турфирм и других организаций, участвующих в обслуживании туристов, разнообразными налогами и сборами -налогами на прибыль и сверхприбыль (при повышенном налоге на сверхприбыль государство улавливает часть ренты), на добавленную стоимость;
получая доходы при выдаче виз для туристов;
" относительно сокращая поддержку государственных музеев, заповедников и других привлекающих туристов объектов, поскольку часть своих расходов они покрывают за счет продажи услуг отечественным и иностранным туристам.
В.М. Козырев предлагает изымать туристскую ренту путем специального обложения всех турфирм в пользу федеральных, региональных и муниципальных бюджетов: «Конкретной формой финансирования всех социальных затрат в сфере туризма могла бы стать туристская рента как особая статья доходов и расходов бюджетов соответствующих органов власти. Источниками доходной части рентной статьи в бюджетах соответствующих органов власти могли бы стать:
* 5%-ная ставка от валовой продукции туристских организаций во всех процессах реализации их услуг по внутреннему туризму;
' 10%-ная ставка от валовой выручки при реализации услуг по выездному туризму» [16. С. 105].
Поступившие средства предлагается использовать для финансирования инфраструктуры внутреннего туризма, субсидирования (или дотирования) въездного туризма, финансовой поддержки отдельных туристских организаций, которые используют особо ценные национальные туристские объекты. Предполагается, что рентные отчисления позволят на треть увеличить вложения в индустрию туризма, станут своеобразным амортизационным фондом, «призванным возродить национальный туризм за счет внутренних источников финансирования, за счет самого туризма» [16. С. 65, 71, 105].
При всей соблазнительности обещанного эффекта такая форма обложения турфирм вряд ли может быть реализована. При единой ставке речь идет не об изъятии сверхприбыли, которую получают далеко не все фирмы и далеко не в одинаковом размере, а о дополнительном обложении выручки всех турфирм независимо от их
доходов. На деле этот платеж будет включен в цены туров, переложен на покупателей туристских услуг (как отечественных, так и иностранных), приведет к их удорожанию, сокращению спроса на эти услуги и, следовательно, доходов фирм и бюджетов всех уровней. Это ухудшит положение российских турфирм на мировом рынке и в результате приведет к уменьшению и без того незначительной доли мировой туристской ренты, получаемой Россией. Так, в 1998 г. доля России в общем числе принимаемых туристов составила 2,5 %, а в доходах от туризма — всего 1,6 % (табл. 4.2) Кроме того, нет уверенности, что полученные от введения дополнительного обложения турфирм средства действительно пойдут на развитие туризма, значительно увеличат инвестиции в туристскую инфраструктуру; скорее всего они растворятся в доходной части бюджета в условиях необходимости выплат по внешнему долгу и другим первоочередным нуждам, которым наверняка будет отдан приоритет.
Передача части туристской ренты муниципальным, региональным и федеральным органам возможна и необходима; но, во-первых, она допустима лишь в тех случаях, когда возникает сверхприбыль как объективная основа туристской ренты; во-вторых, необходим дифференцированный подход к различным видам туризма. В наибольшей мере ставки отчислений относятся к выездному туризму с учетом колебаний мировых цен и валютных курсов, что дает возможность государству присваивать часть мировой туристской ренты, особенно в пики сезона. Для въездного и особенно внутреннего туризма, а также социального, детского, семейного, культурного, цивилизационного туризма ставки отчислений должны быть минимальными или вообще отсутствовать. В-третьих, основная часть ренты должна направляться на поддержу первоисточников туризма - музеев, памятников истории, культуры и архитектуры, курортов, на экологические мероприятия. Такая практика, например, вводится в Италии, где за 15 евро можно подняться на Пизанскую башню, за 8 евро посетить 15 церквей в Венеции и т.д. В-четвертых, отчисления от ренты следует не растворять в доходной части бюджетов, а концентрировать в муниципальных, региональных и федеральных фондах развития туризма, используя для инвестиций в туристскую инфраструктуру, поддержку детского, семейного, социального туризма и т.п.
-Сложнее обстоит дело с формированием международного (глобального) фонда развития туризма. Он может быть либо самостоятельным (например, при Всемирной туристской организации), либо выступать как часть всемирного социокультурного фонда под эгидой ЮНЕСКО. Отчисления в этот фонда могли бы быть установлены за счет стран, получающих наибольшие доходы от международного туризма. В 1998 г. эти доходы (не считая транспортных расходов) составили для США 74,2 млрд. долл., Италии - 30,4 млрд.,
Испании - 29,6 млрд., Франции - 29,7 млрд., Англии - 21,3 млрд. долл. (табл. 4.2).
Направление части мировой туристской ренты институтам мирового гражданского общества имеет правовое обоснование — важнейшим стимулом для туристов являются памятники всемирного культурного и природного наследия, реставрация, содержание и поддержка которых требуют немалых инвестиций. До сих пор эти инвестиции привлекались в небольших масштабах и в основном за счет добровольных пожертвований спонсоров и меценатов. Введение отчислений от посещений туристами этих памятников в глобальный социокультурной фонд даст значительные и устойчивые средства для содержания этих памятников, поддержки международного детского, социального и культурного (цивилизационного) туризма для семей с небольшими доходами, включения информации о памятниках всемирного культурного, природного и научного наследия в Интернет и в другие информационные потоки.
Развитие международного туризма с использованием мировой туристской ренты - одно из приоритетных направлений глобального социокультурного развития, взаимопонимания и диалога цивилизаций, сближения уровня социокультурного развития в разных странах и цивилизациях, ознакомления поколений XXI в. с всемирным культурным, научным и природным наследием, сохранения культурного разнообразия народов и цивилизаций.
4.2. Транспортная рента в глобальном измерении
Непосредственно сопряжена с туристской рентой, частично переплетается с ней транспортная рента — региональная, национальная, цивилизационная, глобальная. Транспортная рента, как и другие виды ренты, представляет сверхприбыль, происходящую из природного (естественного) фактора, прежде всего — местоположения и природно-климатических условий, определяющих уровень транспортных издержек (наличие судоходных рек, удобных морских гаваней, сухопутных путей и т.п.).
Исторически транспортная рента сыграла крупную роль в формировании, динамике и взаимодействии цивилизаций. Локальные цивилизации первого и второго поколений зарождались и развивались в долинах крупных рек (Нила, Тигра и Евфрата, Инда, Ганга, Янцзы). В становлении и диалоге цивилизаций третьего поколения важную роль сыграли транспортные пути — Великий шелковый путь, путь «из варяг в греки», Великий Волжский путь, а также Великие географические открытия и их последствия — поток золота и серебра из Нового Света в Европу, что ускорило мануфактурную революцию и стало причиной революции цен в XVI в. Промышленная
революция дала толчок возникновению железнодорожного транспорта и пароходов, что многократно укрепило торгово-экономические и культурные взаимосвязи цивилизаций. Конец XIX—начало XX в. ознаменовались взлетом автомобильного, а затем авиационного транспорта, что многократно сократило издержки и ускорило перевозки грузов и пассажиров. В начале XXI в. предстоит очередная транспортная революция, предпосылки которой сейчас закладываются как составная часть постиндустриального технологического способа производства.
Таким образом, в феномене транспортной ренты отчетливо проявляется взаимосвязь двух основных факторов — природного и технологического. Освоение результатов каждого очередного технологического переворота скачкообразно увеличивало объем транспортной ренты во всех ее измерениях. В фазе зрелости технологического цикла общий объем и норма ренты падали; в фазах кризиса, депрессии и инновационного освоения новых поколений техники рента сводилась к минимуму. Цикличные колебания транспортной ренты наблюдаются в среднесрочных, долгосрочных (Кондратьевских) и сверхдолгосрочных (цивилизационных) циклах; но даже в фазах кризиса и депрессии страны и регионы, имеющие лучшее местоположение, незамерзающие порты, удобные пути сообщения и т.п., получают сверхприбыль по сравнению со средним уровнем транспортных расходов, т.е. присваивают транспортную ренту, хотя и в меньших масштабах (в связи с общим сокращением объема перевозок).
Транспортная рента по преимуществу выступает в форме дифференциальной ренты. Лучшие по местоположению и по естественным условиям перевозки транспортные организации получают дифренту I рода; использующие более эффективные транспортные средства и технологии - дифренту II рода. Кроме того, можно говорить и о дифренте III рода, которая возникает при использовании взаимозаменяемых видов транспорта, имеющих при прочих равных условиях более низкие издержки и получающих на этой основе сверхприбыль отраслевого характера.
Есть основания говорить и об элементах абсолютной ренты, вытекающей из права собственности на территории, через которые проходят транспортные пути. Речь идет о таком специфическом виде транспортной ренты, как транзитная рента — например, когда воздушные суда пролетают над территорией определенной страны, речные или морские суда проходят через границы или территориальные шельфы разных стран. Однако абсолютная рента не носит такого полного характера, как в сельском хозяйстве или добывающей промышленности. Вряд ли правомерно утверждение, что все участники транспортного процесса, в том числе и находящиеся в худших условиях, включают в тарифы и уплачивают собственникам
Таблица 4.3 Доля цивилизаций и отдельных стран в мировом экспорте и импорте, 2000 г.
[10. С. 238-239]
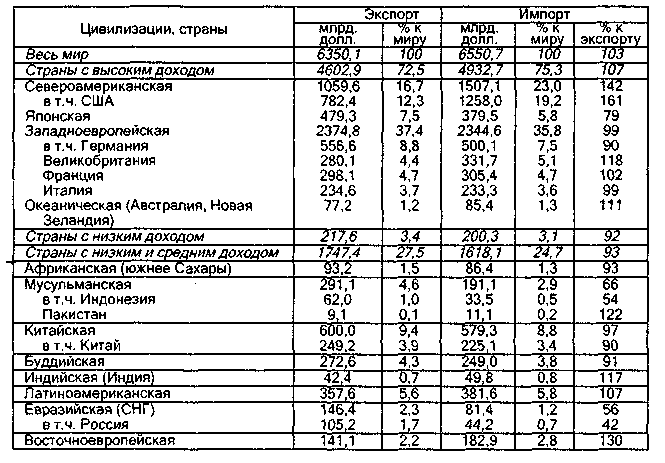
надбавку к цене производства. Условия конкуренции на транспортном рынке более открытые в силу разнообразия и взаимозаменяемости транспортных путей и видов транспорта.
Правомерна постановка вопроса и о наличии монопольной транспортной ренты в исключительно благоприятных условиях (например, при проходе судов через Суэцкий или Панамский каналы), что позволяет устанавливать монопольно высокие тарифы и таким путем получать монопольную сверхприбыль.
Транспортная рента классифицируется прежде всего по видам транспорта: автомобильная, железнодорожная, авиационная, водная (морская, речная), а также смешанного сообщения и трубопроводная. По ареалу (территории) действия можно выделить транспортную ренту региональную (в пределах одного региона), национальную, цивилизационную (в рамках одного цивилизационно-го объединения - например, Европейского Союза, НАФТА, СНГ), глобальную.
Особой разновидностью мировой транспортной ренты является сверхприбыль, возникающая в результате создания и функционирования международных транспортных коридоров (МТК), приносящих принимающим участие в их эксплуатации компаниям, странам и цивилизациям экономию транспортных издержек.
Объем мировой транспортной ренты, ее распределение между странами и цивилизациями зависит прежде всего от их участия в мировом экспорте и импорте, вовлеченности во всемирный рынок. Представление об этом дает таблица 4.3.
Как видно из таблицы, подавляющая часть мирового экспорта и импорта приходится на западные цивилизации — западноевропейскую, североамериканскую и развитую часть океанической (Австралию и Новую Зеландию) — 55,3 % в экспорте и 60,1 % в импорте, причем здесь импорт существенно превышает экспорт. С учетом родственной Западу латиноамериканской цивилизации доля повышается до 60,9 % в экспорте и 65,9 % в импорте. Всего на долю стран с высоким уровнем доходов (около 15 % населения) приходится около 3/4 мировой торговли; не меньше их доля и в мировой транспортной ренте (тем более что большая часть мирового торгового флота, под чьим бы флагом он ни плавал, принадлежит ТНК со штаб-квартирами в развитых странах).
На долю стран с низким уровнем доходов (40,6 % населения мира) приходится всего 3,4 % экспорта и 3,1 % импорта; их доля в мировой транспортной ренте еще ниже, поскольку она оседает в контролирующих экспорт и импорт ТНК. Если рассмотреть структуру внешней торговли стран с низким и средним доходом в циви-лизационном разрезе, то окажется, что наибольший удельный вес в этой группе стран занимают китайская (Китай, Гонконг, Тайвань) и латиноамериканская цивилизации. Существенно отстают от них буддийская, мусульманская и восточноевропейская цивилизации. В третьем эшелоне — евразийская, африканская и индийская цивилизации. Россия, несмотря на все усилия по развитию экспорта нефти, потеряла примерно половину ранее занимаемой доли в мировой внешней торговле; к тому же почти полная потеря собственного торгового флота вынуждает выплачивать иностранным транспортным компаниям значительные суммы за фрахт судов (включая транспортную ренту).
Однако размер транспортной ренты зависит не только от объема внешней торговли, но и от ее структуры. Доходы от перевозки массовых сырьевых товаров (в расчете на тонну груза) значительно ниже, чем от перевозки высокотехнологичных товаров. По данным Всемирного банка, в 1999 г. доля высокотехнологичных товаров в структуре промышленного экспорта в странах с низким доходом составила 6 % (в том числе в Южной Азии - 4 %), тогда как в странах с высоким доходом - 22 % (в США - 35 %, Великобритании - 30 %, Сингапуре - 61 %, Малайзии - 59 %, Нидерландах — 33 %, Японии — 27 %, Республике Корея и Таиланде — 22 % [10].
Следует учитывать также и то, кому принадлежат международные транспортные средства, степень монополизации фрахтового рынка, где практически безраздельно господствуют ТНК. В число
Таблица 4.4 Динамика экспорта транспортных услуг и их распределение по цивилизациям и ведущим странам [71. Р. 228—230]
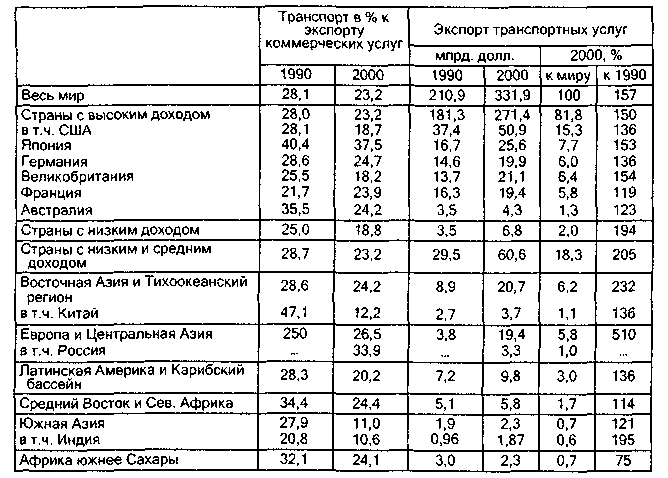
500 ведущих компаний мира на 1.01.2001 г. входили 7 транспортных компаний с суммарной стоимостью акций 105 млрд. долл. — в среднем по 15 млрд. долл. на компанию. И хотя они значительно уступали по размерам компаниям других секторов экономики, тем не менее практически контролировали основную часть международных товарных перевозок, кооперируясь с компаниями торговыми (25 с суммарными активами 1031 млрд. долл.) и финансово-страховыми (102 с суммарными активами 3531 млрд. долл.).
Величина мировой транспортной ренты зависит от объема экспорта транспортных услуг и доли получаемой при этом сверхприбыли. Данные Всемирного банка об объеме и динамике экспорта транспортных услуг приведены в таблице 4.4.
Подавляющая часть (82 %) экспорта транспортных услуг приходится на страны с высоким уровнем дохода. Страны с низким уровнем дохода занимают всего 2 %, а Россия - 1 %, хотя она могла бы, используя благоприятное географическое положение, значительно увеличить свою долю в экспорте транспортных услуг и в мировой транспортной ренте.
Как оценить величину мировой транспортной ренты? Здесь следует выделить два главных канала сверхприбыли: от перевозки
грузов и от поездок пассажиров по международным линиям. Если принять, что транспортная рента составляет 2 % от стоимости экспорта (включая транзитную ренту и с учетом дифференциации сверхприбыли по видам грузов, отраслям транспорта и т.п.), то ее объем в 2000 г. можно оценить примерно в 127 млрд. долл. Доходы от прибывающих туристов (исключая транспорт) в 2000 г. составили 476 млрд. долл. По прогнозу Всемирной туристской организации, к 2020 г. ожидается их увеличение до 2 трлн. долл., транспортные расходы примерно равны этой сумме; кроме того, туристы — лишь часть пассажиров, использующих международный транспорт. Если и в данном случае принять долю ренты в транспортных издержках от международных перевозок пассажиров в 2 %, долю туристов в потоках пассажиров - 50 % и расходы на транспорт примерно равными стоимости туров, то величину мировой транспортной ренты от перевозки пассажиров можно оценить в 20 млрд. долл., а к 2020 г. она увеличится в 3-4 раза. Следовательно, мировая транспортная рента к концу XX в. оценивалась примерно в 150 млрд. долл. с перспективой значительного роста — величина достаточная, чтобы возбудить аппетит ТНК, оперирующих в этой сфере мировой экономики.
Кто же присваивает мировую транспортную ренту? Это прежде всего транспортные компании, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров. Поскольку транспортные тарифы тяготеют к издержкам в относительно худщих условиях, дифренту I рода (частично) и особенно II рода, а также значительную часть межотраслевой дифренты III рода присваивают ТНК и другие компании, осуществляющие международные перевозки, и обслуживающие их отраслевые и финансовые компании. Государства являются непременными участниками присвоения мировой транспортной ренты традиционным путем - через налогообложение прибыли и сверхприбыли, различные таможенные пошлины и сборы, а также присваивая транзитную (по сути дела — абсолютную) ренту за транзит грузов и пассажиров в международном воздушном, железнодорожном, водном и автомобильном сообщении, проход судов через каналы. Глобальное гражданское общество и его институты также могут претендовать на возмещение расходов по международному регулированию перевозок и небольшую часть мировой транспортной ренты; эти отчисления могли бы использоваться для развития международных транспортных путей и оказания поддержки транспортным проектам в странах с низким уровнем среднедушевого дохода, а также для разработки принципиально новых видов транспорта, имеющих глобальное значение.
Понятно, что сказанное выше — лишь информация к размышлению, предварительная постановка вопроса. Потребуются дополнительные исследования как по методологии определения и присвоения мировой транспортной ренты, так и по оценке ее величины
и структуры, разработке эффективного механизма ее распределения и использования.
4.3. Международные транспортные коридоры и рентные доходы*
Одним из самых ярких и эффективных проявлений глобализации является формирование сети международных транспортных коридоров (МТК), опутывающих земной шар подобно паутине Интернета. Создание МТК позволяет упорядочить и удешевить потоки международной транспортировки грузов и пассажиров в рамках единого мирового хозяйства, опираясь на новейшие достижения научно-технического переворота в процессе становления постиндустриального технологического способа производства. МТК превращаются в прочные узы, стягивающие ранее разрозненные национальные экономики и цивилизационные общности.
Под МТК понимают совокупность магистральных транспортных коммуникаций с развитой инфраструктурой, согласованно функционирующих в определенном направлении и отвечающих международным стандартам [42. С. 7].
Международные транспортные коридоры как каналы интенсивного торгово-экономического и социокультурного обмена между странами и цивилизациями — явление не новое; оно имеет многотысячелетнюю историю, в течение которой сменилось несколько поколений МТК.
Первое поколение МТК возникло примерно в III тысячелетии до н.э. вместе с первым поколением локальных цивилизаций и развитием регулярного обмена между ними. Основой этих МТК были речные системы Нила, Хуанхэ и Янцзы, Тигра и Евфрата, Ганга и Инда. Они стали стержнем становления великих цивилизаций древности - египетской, месопотамской, индийской, китайской.
Второе поколение МТК относится к периоду античной цивилизации (середина I тыс. до н.э.—середина I тыс. н.э.), когда речные системы объединялись с морскими путями, прежде всего со средиземноморскими, черноморскими, восточно-китайскими. На этой основе развились греко-римская, индийская и китайская цивилизации II поколения, возникла густая сеть североафриканских и причерноморских государств, наиболее могущественными из которых были Карфаген и Боспорское царство, находившееся на стыке греко-римской и скифской цивилизаций. Об интенсивности торговых
* Содействие в подготовке данного раздела оказал генеральный директор Научного центра «Комплексные транспортные проблемы» доктор экономических наук В.И. Арсенов.
связей по МТК говорит уже приводившийся факт, что Аттика получала половину необходимого ей хлеба от скифов именно через Боспорское царство.
Особенностью МТК третьего поколения (с середины I тыс. до XX в.) было сочетание транспортных каналов трех видов. Один — это караванные пути по маршрутам Восток—Запад от Китая до Западной Европы, который позднее получил название Великого шелкового пути. К нему примыкал Великий чайный путь, с ним перекрещивался Великий Волжский путь как часть речной системы на базе Балтийско-Невско-Волжско-Каспийской и Балтийско-Невско-Днеп-ровско-Черноморско-Средиземноморской магистралей — путей «из варяг в греки» и «из варяг в персы (арабы)». Основой западноевропейской цивилизации были Рейнско-Дунайская речная система, а также интенсивный морской обмен как по Северному и Балтийскому (Ганзейский Союз), так и по восточным и южным морям.
Однако в XIII—XV вв. эти торговые пути во многом были нарушены. Это было связано как с походами Чингисхана и Чингизидов и образованием на территории Евразии обширнейшей мировой Монгольской империи, так и с тем, что с XV—XVI вв. опережающее развитие «получают морские пути, особенно после открытия Америки и устремления потоков европейцев в Новый Свет. На этой основе в XVI—XIX вв. сформировался всемирный рынок, а затем возникли колониальные империи западных держав, охватившие почти весь мир, и Российская империя на севере Евразии. В этот период значение Великого Волжского пути как МТК в значительной мере упало, он стал важнейшей внутриимперской водно-транспортной артерией, с которой конкурировали железные дороги и морские пути через прорубленное Петром I «окно в Европу».
С конца XX в. формируется сеть МТК четвертого поколения. Они отражают тенденции становления постиндустриального общества и стремительно развивающейся глобализации, являются, наряду с глобальной информационной сетью, одним из стержней глобализации, способствуя значительному удешевлению и ускорению перемещения грузов и пассажиров по планете, активному межцивилизационному обмену.
Особенность МТК - их комплексный характер. Эта комплексность проявляется в нескольких направлениях: во-первых, в объединении в рамках коридора различных видов транспорта — железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного и обслуживающих их современных средств связи. Это дает возможность наиболее полно реализовать потенциал новых поколений средств транспорта, сэкономить на общей инфраструктуре и логистических центрах, сократить сроки транспортировки. Во-вторых, клиентам предоставляется комплекс взаимодополняемых услуг — транспортных, туристских, торговых, связи и т.д., что позволяет осуществлять эти услуги
и структуры, разработке эффективного механизма ее распределения и использования.
4.3. Международные транспортные коридоры и рентные доходы*
Одним из самых ярких и эффективных проявлений глобализации является формирование сети международных транспортных коридоров (МТК), опутывающих земной шар подобно паутине Интернета. Создание МТК позволяет упорядочить и удешевить потоки международной транспортировки грузов и пассажиров в рамках единого мирового хозяйства, опираясь на новейшие достижения научно-технического переворота в процессе становления постиндустриального технологического способа производства. МТК превращаются в прочные узы, стягивающие ранее разрозненные национальные экономики и цивилизационные общности.
Под МТК понимают совокупность магистральных транспортных коммуникаций с развитой инфраструктурой, согласованно функционирующих в определенном направлении и отвечающих международным стандартам [42. С. 7].
Международные транспортные коридоры как каналы интенсивного торгово-экономического и социокультурного обмена между странами и цивилизациями — явление не новое; оно имеет многотысячелетнюю историю, в течение которой сменилось несколько поколений МТК.
Первое поколение МТК возникло примерно в III тысячелетии до н.э. вместе с первым поколением локальных цивилизаций и развитием регулярного обмена между ними. Основой этих МТК были речные системы Нила, Хуанхэ и Янцзы, Тигра и Евфрата, Ганга и Инда. Они стали стержнем становления великих цивилизаций древности - египетской, месопотамской, индийской, китайской.
Второе поколение МТК относится к периоду античной цивилизации (середина I тыс. до н.э.—середина I тыс. н.э.), когда речные системы объединялись с морскими путями, прежде всего со средиземноморскими, черноморскими, восточно-китайскими. На этой основе развились греко-римская, индийская и китайская цивилизации II поколения, возникла густая сеть североафриканских и причерноморских государств, наиболее могущественными из которых были Карфаген и Боспорское царство, находившееся на стыке греко-римской и скифской цивилизаций. Об интенсивности торговых
* Содействие в подготовке данного раздела оказал генеральный директор Научного центра «Комплексные транспортные проблемы» доктор экономических наук В.И. Арсенов.
связей по МТК говорит уже приводившийся факт, что Аттика получала половину необходимого ей хлеба от скифов именно через Боспорское царство.
Особенностью МТК третьего поколения (с середины I тыс. до XX в.) было сочетание транспортных каналов трех видов. Один — это караванные пути по маршрутам Восток—Запад от Китая до Западной Европы, который позднее получил название Великого шелкового пути. К нему примыкал Великий чайный путь, с ним перекрещивался Великий Волжский путь как часть речной системы на базе Балтийско-Невско-Волжско-Каспийской и Балтийско-Невско-Днеп-ровско-Черноморско-Средиземноморской магистралей — путей «из варяг в греки» и «из варяг в персы (арабы)». Основой западноевропейской цивилизации были Рейнско-Дунайская речная система, а также интенсивный морской обмен как по Северному и Балтийскому (Ганзейский Союз), так и по восточным и южным морям.
Однако в XIII—XV вв. эти торговые пути во многом были нарушены. Это было связано как с походами Чингисхана и Чингизидов и образованием на территории Евразии обширнейшей мировой Монгольской империи, так и с тем, что с XV—XVI вв. опережающее развитие «получают морские пути, особенно после открытия Америки и устремления потоков европейцев в Новый Свет. На этой основе в XVI—XIX вв. сформировался всемирный рынок, а затем возникли колониальные империи западных держав, охватившие почти весь мир, и Российская империя на севере Евразии. В этот период значение Великого Волжского пути как МТК в значительной мере упало, он стал важнейшей внутриимперской водно-транспортной артерией, с которой конкурировали железные дороги и морские пути через прорубленное Петром I «окно в Европу».
С конца XX в. формируется сеть МТК четвертого поколения. Они отражают тенденции становления постиндустриального общества и стремительно развивающейся глобализации, являются, наряду с глобальной информационной сетью, одним из стержней глобализации, способствуя значительному удешевлению и ускорению перемещения грузов и пассажиров по планете, активному межцивилизационному обмену.
Особенность МТК - их комплексный характер. Эта комплексность проявляется в нескольких направлениях: во-первых, в объединении в рамках коридора различных видов транспорта — железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного и обслуживающих их современных средств связи. Это дает возможность наиболее полно реализовать потенциал новых поколений средств транспорта, сэкономить на общей инфраструктуре и логистических центрах, сократить сроки транспортировки. Во-вторых, клиентам предоставляется комплекс взаимодополняемых услуг — транспортных, туристских, торговых, связи и т.д., что позволяет осуществлять эти услуги
с меньшими издержками и.более высоким качеством. В-третьих, в разработке, создании и эксплуатации МТК объединяются усилия различных государств и множества компаний, что создает мультипликационный эффект, укрепляет диалог и взаимодействие стран и цивилизаций, содействует контактам и взаимопониманию людей.
МТК играют важную роль в формировании и динамике мировой ренты. Здесь тоже проявляется их комплексность. Создание МТК значительно сокращает транспортные издержки и служит основанием для увеличения размеров нескольких видов мировой ренты (после того как окупились стартовые издержки создания и освоения коридора): собственно транспортной (дифрента I, II и III родов, а также абсолютная - для стран, через территорию которых проходит МТК), туристской (в связи с увеличением потока туристов), природной ренты 1 рода по местоположению (в связи с сокращением транспортных издержек для расположенных вблизи трассы МТК природоэксплуатирующих объектов, расширением рынка для реализации продовольствия, минерального и лесного сырья); технологической квазиренты в результате освоения производства и использования новых поколений средств транспорта и связи; финансовой квазиренты вследствие роста капитализации работающих в рамках МТК фирм, сопровождающих их финансовых и страховых компаний. Получаемая от эксплуатации МТК сверхприбыль в различных формах служит источником дополнительных доходов для государств и ТНК, участвующих в МТК и использующих их.
Динамика рентных доходов МТК неодинакова во времени. В период разработки и освоения МТК, крупных инвестиций в строительство и реконструкцию транспортных путей и средств связи, приобретения транспортных средств, развития инфраструктуры сверхприбыль практически отсутствует. Она возникает и быстро увеличивается на следующих фазах жизненного цикла МТК, когда он окупил первоначальные затраты и дает дополнительный эффект по сравнению с традиционными путями доставки грузов и пассажиров. В фазе зрелости масса и норма ренты начинают падать, поскольку более низкие издержки транспортировки, полученные с помощью МТК, начинают определять общий уровень транспортных тарифов. С введением новых МТК сверхприбыль на уже освоенных может практически исчезнуть.
На уровень и динамику рентных доходов МТК оказывает влияние смена фаз экономических циклов — как среднесрочных, так и долгосрочных (Кондратьевских). На понижательной волне цикла, в фазах кризиса и депрессии объем производства сокращается, уменьшаются доходы населения, падает спрос на транспортные услуги, в том числе и по МТК. В фазах оживления и подъема мирового экономического цикла тенденции обратные: увеличиваются и рентные доходы МТК.
Развитие сети МТК может стать важным рычагом глобального устойчивого развития, если получаемые от их эксплуатации рентные доходы будут использоваться для улучшения и удешевления транспортных связей стран с низким уровнем доходов, для уменьшения пропасти, разделяющей богатые и бедные страны и цивилизации. Но для этого должен быть выработан и введен в действие международно признанный механизм оценки и распределения рентных доходов МТК. Он может иметь два надгосударственных уровня. Первый — распределение прибыли между странами, непосредственно участвующими в создании и эксплуатации МТК в соответствии с межгосударственными соглашениями. По этому каналу будет распределяться основная часть рентных доходов и использоваться в том числе для развития самого МТК. Другую, меньшую часть стоило бы концентрировать в международном транспортном органе под эгидой ООН и использовать для дальнейшего развития сети МТК и оказания помощи странам с низким доходом в осуществлении транспортных проектов, имеющих международное значение.
Россия включается в систему МТК, используя свое выгодное географическое положение между Европой, Восточной и Центральной Азией. На Западную и Восточную Европу приходится около 40 % мирового экспорта, на Тихоокеанский регион (включая Японию), Восточную и Южную Азию — около 25%; значительная часть этого товарооборота следует из Европы в Азию и обратно, минуя Россию. Быстро растет туристский поток из стран Азии через Россию. По прогнозу Всемирной туристской организации, число прибывающих туристов только в Китай и Гонконг увеличится с 33,6 млн. человек в 1998 г. до 196 млн. в 2020 г. — в 5,8 раза (см. табл. 4.2). Провоз грузов и пролет туристов через Россию значительно сокращает время в пути и транспортные издержки, а для России открывает возможность получения дополнительных рентных доходов. От международного транзита грузов СССР ежегодно получал до 6 млрд. долл.; однако с распадом СССР это доходы многократно сократились, а Россия стала плательщиком ренты при транзите экспортных грузов через Украину, Литву, Латвию (последняя за счет этих платежей получала около трети ВВП).
На состоявшейся в Санкт-Петербурге в мае 1998 г. Евроазиатской конференции по транспорту были определены основные евроазиатские МТК с участием России. Разрабатывается 5 направлений пан-европейских МТК:
" МТК 2, 3 и 9 в Китай, Корею и Японию через Россию, Казахстан, Монголию;
МТК 4, 7, 8, 9 в Центральную Азию по маршруту ТРАСЕКА;
МТК 4 в Китай через Иран и Центральную Азию;
' МТК 9 в район Персидского залива через Россию, Каспийский регион и Центральную Азию.
с меньшими издержками и.более высоким качеством. В-третьих, в разработке, создании и эксплуатации МТК объединяются усилия различных государств и множества компаний, что создает мультипликационный эффект, укрепляет диалог и взаимодействие стран и цивилизаций, содействует контактам и взаимопониманию людей.
МТК играют важную роль в формировании и динамике мировой ренты. Здесь тоже проявляется их комплексность. Создание МТК значительно сокращает транспортные издержки и служит основанием для увеличения размеров нескольких видов мировой ренты (после того как окупились стартовые издержки создания и освоения коридора): собственно транспортной (дифрента I, II и III родов, а также абсолютная - для стран, через территорию которых проходит МТК), туристской (в связи с увеличением потока туристов), природной ренты 1 рода по местоположению (в связи с сокращением транспортных издержек для расположенных вблизи трассы МТК природоэксплуатирующих объектов, расширением рынка для реализации продовольствия, минерального и лесного сырья); технологической квазиренты в результате освоения производства и использования новых поколений средств транспорта и связи; финансовой квазиренты вследствие роста капитализации работающих в рамках МТК фирм, сопровождающих их финансовых и страховых компаний. Получаемая от эксплуатации МТК сверхприбыль в различных формах служит источником дополнительных доходов для государств и ТНК, участвующих в МТК и использующих их.
Динамика рентных доходов МТК неодинакова во времени. В период разработки и освоения МТК, крупных инвестиций в строительство и реконструкцию транспортных путей и средств связи, приобретения транспортных средств, развития инфраструктуры сверхприбыль практически отсутствует. Она возникает и быстро увеличивается на следующих фазах жизненного цикла МТК, когда он окупил первоначальные затраты и дает дополнительный эффект по сравнению с традиционными путями доставки грузов и пассажиров. В фазе зрелости масса и норма ренты начинают падать, поскольку более низкие издержки транспортировки, полученные с помощью МТК, начинают определять общий уровень транспортных тарифов. С введением новых МТК сверхприбыль на уже освоенных может практически исчезнуть.
На уровень и динамику рентных доходов МТК оказывает влияние смена фаз экономических циклов — как среднесрочных, так и долгосрочных (Кондратьевских). На понижательной волне цикла, в фазах кризиса и депрессии объем производства сокращается, уменьшаются доходы населения, падает спрос на транспортные услуги, в том числе и по МТК. В фазах оживления и подъема мирового экономического цикла тенденции обратные: увеличиваются и рентные доходы МТК.
Развитие сети МТК может стать важным рычагом глобального устойчивого развития, если получаемые от их эксплуатации рентные доходы будут использоваться для улучшения и удешевления транспортных связей стран с низким уровнем доходов, для уменьшения пропасти, разделяющей богатые и бедные страны и цивилизации. Но для этого должен быть выработан и введен в действие международно признанный механизм оценки и распределения рентных доходов МТК. Он может иметь два надгосударственных уровня. Первый — распределение прибыли между странами, непосредственно участвующими в создании и эксплуатации МТК в соответствии с межгосударственными соглашениями. По этому каналу будет распределяться основная часть рентных доходов и использоваться в том числе для развития самого МТК. Другую, меньшую часть стоило бы концентрировать в международном транспортном органе под эгидой ООН и использовать для дальнейшего развития сети МТК и оказания помощи странам с низким доходом в осуществлении транспортных проектов, имеющих международное значение.
Россия включается в систему МТК, используя свое выгодное географическое положение между Европой, Восточной и Центральной Азией. На Западную и Восточную Европу приходится около 40 % мирового экспорта, на Тихоокеанский регион (включая Японию), Восточную и Южную Азию — около 25%; значительная часть этого товарооборота следует из Европы в Азию и обратно, минуя Россию. Быстро растет туристский поток из стран Азии через Россию. По прогнозу Всемирной туристской организации, число прибывающих туристов только в Китай и Гонконг увеличится с 33,6 млн. человек в 1998 г. до 196 млн. в 2020 г. — в 5,8 раза (см. табл. 4.2). Провоз грузов и пролет туристов через Россию значительно сокращает время в пути и транспортные издержки, а для России открывает возможность получения дополнительных рентных доходов. От международного транзита грузов СССР ежегодно получал до 6 млрд. долл.; однако с распадом СССР это доходы многократно сократились, а Россия стала плательщиком ренты при транзите экспортных грузов через Украину, Литву, Латвию (последняя за счет этих платежей получала около трети ВВП).
На состоявшейся в Санкт-Петербурге в мае 1998 г. Евроазиатской конференции по транспорту были определены основные евроазиатские МТК с участием России. Разрабатывается 5 направлений пан-европейских МТК:
" МТК 2, 3 и 9 в Китай, Корею и Японию через Россию, Казахстан, Монголию;
МТК 4, 7, 8, 9 в Центральную Азию по маршруту ТРАСЕКА;
МТК 4 в Китай через Иран и Центральную Азию;
' МТК 9 в район Персидского залива через Россию, Каспийский регион и Центральную Азию.
с меньшими издержками и.более высоким качеством. В-третьих, в разработке, создании и эксплуатации МТК объединяются усилия различных государств и множества компаний, что создает мультипликационный эффект, укрепляет диалог и взаимодействие стран и цивилизаций, содействует контактам и взаимопониманию людей.
МТК играют важную роль в формировании и динамике мировой ренты. Здесь тоже проявляется их комплексность. Создание МТК значительно сокращает транспортные издержки и служит основанием для увеличения размеров нескольких видов мировой ренты (после того как окупились стартовые издержки создания и освоения коридора): собственно транспортной (дифрента I, II и III родов, а также абсолютная - для стран, через территорию которых проходит МТК), туристской (в связи с увеличением потока туристов), природной ренты I рода по местоположению (в связи с сокращением транспортных издержек для расположенных вблизи трассы МТК природоэксплуатирующих объектов, расширением рынка для реализации продовольствия, минерального и лесного сырья); технологической квазиренты в результате освоения производства и использования новых поколений средств транспорта и связи; финансовой квазиренты вследствие роста капитализации работающих в рамках МТК фирм, сопровождающих их финансовых и страховых компаний. Получаемая от эксплуатации МТК сверхприбыль в различных формах служит источником дополнительных доходов для государств и ТНК, участвующих в МТК и использующих их.
Динамика рентных доходов МТК неодинакова во времени. В период разработки и освоения МТК, крупных инвестиций в строительство и реконструкцию транспортных путей и средств связи, приобретения транспортных средств, развития инфраструктуры сверхприбыль практически отсутствует. Она возникает и быстро увеличивается на следующих фазах жизненного цикла МТК, когда он окупил первоначальные затраты и дает дополнительный эффект по сравнению с традиционными путями доставки грузов и пассажиров. В фазе зрелости масса и норма ренты начинают падать, поскольку более низкие издержки транспортировки, полученные с помощью МТК, начинают определять общий уровень транспортных тарифов. С введением новых МТК сверхприбыль на уже освоенных может практически исчезнуть.
На уровень и динамику рентных доходов МТК оказывает влияние смена фаз экономических циклов — как среднесрочных, так и долгосрочных (Кондратьевских). На понижательной волне цикла, в фазах кризиса и депрессии объем производства сокращается, уменьшаются доходы населения, падает спрос на транспортные услуги, в том числе и по МТК. В фазах оживления и подъема мирового экономического цикла тенденции обратные: увеличиваются и рентные доходы МТК.
Развитие сети МТК может стать важным рычагом глобального устойчивого развития, если получаемые от их эксплуатации рентные доходы будут использоваться для улучшения и удешевления транспортных связей стран с низким уровнем доходов, для уменьшения пропасти, разделяющей богатые и бедные страны и цивилизации. Но для этого должен быть выработан и введен в действие международно признанный механизм оценки и распределения рентных доходов МТК. Он может иметь два надгосударственных уровня. Первый — распределение прибыли между странами, непосредственно участвующими в создании и эксплуатации МТК в соответствии с межгосударственными соглашениями. По этому каналу будет распределяться основная часть рентных доходов и использоваться в том числе для развития самого МТК. Другую, меньшую часть стоило бы концентрировать в международном транспортном органе под эгидой ООН и использовать для дальнейшего развития сети МТК и оказания помощи странам с низким доходом в осуществлении транспортных проектов, имеющих международное значение.
Россия включается в систему МТК, используя свое выгодное географическое положение между Европой, Восточной и Центральной Азией. На Западную и Восточную Европу приходится около 40 % мирового экспорта, на Тихоокеанский регион (включая Японию), Восточную и Южную Азию — около 25%; значительная часть этого товарооборота следует из Европы в Азию и обратно, минуя Россию. Быстро растет туристский поток из стран Азии через Россию. По прогнозу Всемирной туристской организации, число прибывающих туристов только в Китай и Гонконг увеличится с 33,6 млн. человек в 1998 г. до 196 млн. в 2020 г. — в 5,8 раза (см. табл. 4.2). Провоз грузов и пролет туристов через Россию значительно сокращает время в пути и транспортные издержки, а для России открывает возможность получения дополнительных рентных доходов. От международного транзита грузов СССР ежегодно получал до 6 млрд. долл.; однако с распадом СССР это доходы многократно сократились, а Россия стала плательщиком ренты при транзите экспортных грузов через Украину, Литву, Латвию (последняя за счет этих платежей получала около трети ВВП).
На состоявшейся в Санкт-Петербурге в мае 1998 г. Евроазиатской конференции по транспорту были определены основные евроазиатские МТК с участием России. Разрабатывается 5 направлений пан-европейских МТК:
" МТК 2, 3 и 9 в Китай, Корею и Японию через Россию, Казахстан, Монголию;
МТК 4, 7, 8, 9 в Центральную Азию по маршруту ТРАСЕКА;
МТК 4 в Китай через Иран и Центральную Азию;
' МТК 9 в район Персидского залива через Россию, Каспийский регион и Центральную Азию.
с меньшими издержками и.более высоким качеством. В-третьих, в разработке, создании и эксплуатации МТК объединяются усилия различных государств и множества компаний, что создает мультипликационный эффект, укрепляет диалог и взаимодействие стран и цивилизаций, содействует контактам и взаимопониманию людей.
МТК играют важную роль в формировании и динамике мировой ренты. Здесь тоже проявляется их комплексность. Создание МТК значительно сокращает транспортные издержки и служит основанием для увеличения размеров нескольких видов мировой ренты (после того как окупились стартовые издержки создания и освоения коридора): собственно транспортной (дифрента I, II и III родов, а также абсолютная - для стран, через территорию которых проходит МТК), туристской (в связи с увеличением потока туристов), природной ренты I рода по местоположению (в связи с сокращением транспортных издержек для расположенных вблизи трассы МТК природоэксплуатирующих объектов, расширением рынка для реализации продовольствия, минерального и лесного сырья); технологической квазиренты в результате освоения производства и использования новых поколений средств транспорта и связи; финансовой квазиренты вследствие роста капитализации работающих в рамках МТК фирм, сопровождающих их финансовых и страховых компаний. Получаемая от эксплуатации МТК сверхприбыль в различных формах служит источником дополнительных доходов для государств и ТНК, участвующих в МТК и использующих их.
Динамика рентных доходов МТК неодинакова во времени. В период разработки и освоения МТК, крупных инвестиций в строительство и реконструкцию транспортных путей и средств связи, приобретения транспортных средств, развития инфраструктуры сверхприбыль практически отсутствует. Она возникает и быстро увеличивается на следующих фазах жизненного цикла МТК, когда он окупил первоначальные затраты и дает дополнительный эффект по сравнению с традиционными путями доставки грузов и пассажиров. В фазе зрелости масса и норма ренты начинают падать, поскольку более низкие издержки транспортировки, полученные с помощью МТК, начинают определять общий уровень транспортных тарифов. С введением новых МТК сверхприбыль на уже освоенных может практически исчезнуть.
На уровень и динамику рентных доходов МТК оказывает влияние смена фаз экономических циклов — как среднесрочных, так и долгосрочных (Кондратьевских). На понижательной волне цикла, в фазах кризиса и депрессии объем производства сокращается, уменьшаются доходы населения, падает спрос на транспортные услуги, в том числе и по МТК. В фазах оживления и подъема мирового экономического цикла тенденции обратные: увеличиваются и рентные доходы МТК.
Развитие сети МТК может стать важным рычагом глобального устойчивого развития, если получаемые от их эксплуатации рентные доходы будут использоваться для улучшения и удешевления транспортных связей стран с низким уровнем доходов, для уменьшения пропасти, разделяющей богатые и бедные страны и цивилизации. Но для этого должен быть выработан и введен в действие международно признанный механизм оценки и распределения рентных доходов МТК. Он может иметь два надгосударственных уровня. Первый — распределение прибыли между странами, непосредственно участвующими в создании и эксплуатации МТК в соответствии с межгосударственными соглашениями. По этому каналу будет распределяться основная часть рентных доходов и использоваться в том числе для развития самого МТК. Другую, меньшую часть стоило бы концентрировать в международном транспортном органе под эгидой ООН и использовать для дальнейшего развития сети МТК и оказания помощи странам с низким доходом в осуществлении транспортных проектов, имеющих международное значение.
Россия включается в систему МТК, используя свое выгодное географическое положение между Европой, Восточной и Центральной Азией. На Западную и Восточную Европу приходится около 40 % мирового экспорта, на Тихоокеанский регион (включая Японию), Восточную и Южную Азию — около 25%; значительная часть этого товарооборота следует из Европы в Азию и обратно, минуя Россию. Быстро растет туристский поток из стран Азии через Россию. По прогнозу Всемирной туристской организации, число прибывающих туристов только в Китай и Гонконг увеличится с 33,6 млн. человек в 1998 г. до 196 млн. в 2020 г. — в 5,8 раза (см. табл. 4.2). Провоз грузов и пролет туристов через Россию значительно сокращает время в пути и транспортные издержки, а для России открывает возможность получения дополнительных рентных доходов. От международного транзита грузов СССР ежегодно получал до 6 млрд. долл.; однако с распадом СССР это доходы многократно сократились, а Россия стала плательщиком ренты при транзите экспортных грузов через Украину, Литву, Латвию (последняя за счет этих платежей получала около трети ВВП).
На состоявшейся в Санкт-Петербурге в мае 1998 г. Евроазиатской конференции по транспорту были определены основные евроазиатские МТК с участием России. Разрабатывается 5 направлений пан-европейских МТК:
" МТК 2, 3 и 9 в Китай, Корею и Японию через Россию, Казахстан, Монголию;
МТК 4, 7, 8, 9 в Центральную Азию по маршруту ТРАСЕКА;
МТК 4 в Китай через Иран и Центральную Азию;
' МТК 9 в район Персидского залива через Россию, Каспийский регион и Центральную Азию.
с меньшими издержками и.более высоким качеством. В-третьих, в разработке, создании и эксплуатации МТК объединяются усилия различных государств и множества компаний, что создает мультипликационный эффект, укрепляет диалог и взаимодействие стран и цивилизаций, содействует контактам и взаимопониманию людей.
МТК играют важную роль в формировании и динамике мировой ренты. Здесь тоже проявляется их комплексность. Создание МТК значительно сокращает транспортные издержки и служит основанием для увеличения размеров нескольких видов мировой ренты (после того как окупились стартовые издержки создания и освоения коридора): собственно транспортной (дифрента I, II и III родов, а также абсолютная — для стран, через территорию которых проходит МТК), туристской (в связи с увеличением потока туристов), природной ренты 1 рода по местоположению (в связи с сокращением транспортных издержек для расположенных вблизи трассы МТК природоэксплуатирующих объектов, расширением рынка для реализации продовольствия, минерального и лесного сырья); технологической квазиренты в результате освоения производства и использования новых поколений средств транспорта и связи; финансовой квазиренты вследствие роста капитализации работающих в рамках МТК фирм, сопровождающих их финансовых и страховых компаний. Получаемая от эксплуатации МТК сверхприбыль в различных формах служит источником дополнительных доходов для государств и ТНК, участвующих в МТК и использующих их.
Динамика рентных доходов МТК неодинакова во времени. В период разработки и освоения МТК, крупных инвестиций в строительство и реконструкцию транспортных путей и средств связи, приобретения транспортных средств, развития инфраструктуры сверхприбыль практически отсутствует. Она возникает и быстро увеличивается на следующих фазах жизненного цикла МТК, когда он окупил первоначальные затраты и дает дополнительный эффект по сравнению с традиционными путями доставки грузов и пассажиров. В фазе зрелости масса и норма ренты начинают падать, поскольку более низкие издержки транспортировки, полученные с помощью МТК, начинают определять общий уровень транспортных тарифов. С введением новых МТК сверхприбыль на уже освоенных может практически исчезнуть.
На уровень и динамику рентных доходов МТК оказывает влияние смена фаз экономических циклов — как среднесрочных, так и долгосрочных (Кондратьевских). На понижательной волне цикла, в фазах кризиса и депрессии объем производства сокращается, уменьшаются доходы населения, падает спрос на транспортные услуги, в том числе и по МТК. В фазах оживления и подъема мирового экономического цикла тенденции обратные: увеличиваются и рентные доходы МТК.
Развитие сети МТК может стать важным рычагом глобального устойчивого развития, если получаемые от их эксплуатации рентные доходы будут использоваться для улучшения и удешевления транспортных связей стран с низким уровнем доходов, для уменьшения пропасти, разделяющей богатые и бедные страны и цивилизации. Но для этого должен быть выработан и введен в действие международно признанный механизм оценки и распределения рентных доходов МТК. Он может иметь два надгосударственных уровня. Первый — распределение прибыли между странами, непосредственно участвующими в создании и эксплуатации МТК в соответствии с межгосударственными соглашениями. По этому каналу будет распределяться основная часть рентных доходов и использоваться в том числе для развития самого МТК. Другую, меньшую часть стоило бы концентрировать в международном транспортном органе под эгидой ООН и использовать для дальнейшего развития сети МТК и оказания помощи странам с низким доходом в осуществлении транспортных проектов, имеющих международное значение.
Россия включается в систему МТК, используя свое выгодное географическое положение между Европой, Восточной и Центральной Азией. На Западную и Восточную Европу приходится около 40 % мирового экспорта, на Тихоокеанский регион (включая Японию), Восточную и Южную Азию — около 25%; значительная часть этого товарооборота следует из Европы в Азию и обратно, минуя Россию. Быстро растет туристский поток из стран Азии через Россию. По прогнозу Всемирной туристской организации, число прибывающих туристов только в Китай и Гонконг увеличится с 33,6 млн. человек в 1998 г. до 196 млн. в 2020 г. — в 5,8 раза (см. табл. 4.2). Провоз грузов и пролет туристов через Россию значительно сокращает время в пути и транспортные издержки, а для России открывает возможность получения дополнительных рентных доходов. От международного транзита грузов СССР ежегодно получал до 6 млрд. долл.; однако с распадом СССР это доходы многократно сократились, а Россия стала плательщиком ренты при транзите экспортных грузов через Украину, Литву, Латвию (последняя за счет этих платежей получала около трети ВВП).
На состоявшейся в Санкт-Петербурге в мае 1998 г. Евроазиатской конференции по транспорту были определены основные евроазиатские МТК с участием России. Разрабатывается 5 направлений пан-европейских МТК:
" МТК 2, 3 и 9 в Китай, Корею и Японию через Россию, Казахстан, Монголию;
* МТК 4, 7, 8, 9 в Центральную Азию по маршруту ТРАСЕКА; ' МТК 4 в Китай через Иран и Центральную Азию; ' МТК 9 в район Персидского залива через Россию, Каспийский регион и Центральную Азию.
Для России наиболее перспективны МТК «Восток—Запад» ТРАСЕКА и «Север—Юг», включая исторический Великий Волжский путь, связывавший цивилизации еще с последних столетий I тыс. н.э. («путь из варяг в персы»).
Научный центр «Комплексные транспортные проблемы» провел исследование районов тяготения к этим двум МТК. К направлению «Восток—Запад» (с использованием транспортной железнодорожной магистрали) тяготеют страны Европы (Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Германия, Дания, Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Швеция, Норвегия, Украина, Молдова, Беларусь) и Восточной Азии (Япония, Республика Корея, КНДР, Китай, Монголия). К МТК «Север-Юг» тяготеют те же страны Европы и многие государства Азии — Иран, Оман, Индия, Казахстан, Вьетнам, Малайзия, Лаос, Сингапур, Индонезия, Шри-Ланка, Филиппины, Катар, Бахрейн, Кувейт. Основная часть экспорта и импорта России по обоим коридорам приходится на указанные страны.
По расчетам Минтранса России, транзитная перевозка до 300 тыс. контейнеров (вместо транзитного морского пути из Юго-Восточной Азии через Суэцкий канал) позволит России получить дополнительный доход до 2,5 млрд. долл. Реализация МТК «Север-Юг», соглашение о создании которого подписано Россией, Ираном и Индией (и к которому готовы присоединиться ряд азиатских и европейских государств), позволит пропускать через него 15-16 млн. т грузов в год, что принесет 1,5-2 млрд. долл. ежегодных доходов (включая значительный объем ренты). Рассматривается возможность использования в качестве МТК Северного морского пути, кроссполярных авиалиний из Юго-Восточной Азии в Северную Америку через воздушное пространство России. Создание сети МТК к 2010 г. может дать России дополнительный доход до 8— 9 млрд. долл. в год; для этого потребуются инвестиции в размере 600 млрд. руб., в том числе собственных и привлеченных средств предприятий — примерно 420 млрд. руб.
Следует также учитывать разносторонний характер эффекта от создания МТК. Так, реализация программы «Великий Волжский путь» в рамках МТК «Север—Юг» позволит не только более полно использовать потенциал великой русской реки (загрузка которой в 1990-е годы многократно уменьшилась), но и создать условия для реконструкции действующих и строительства новых портов, развития речного транспорта, увеличения занятости населения и дополнительных доходов приволжских и приневских регионов и городов, осуществить экологическую очистку Волги и ее основных притоков.
Развитие сети МТК может служить положительным примером диалога и конструктивного взаимодействия цивилизаций, одним из осевых направлений гуманизации глобализации, использования ее
преимуществ для всех участников крупных международных проектов, справедливого распределения мировых рентных доходов. Однако для того, чтобы эти потенциальные возможности превратились в действительность, нужна современная долгосрочная стратегия создания МТК и энергичные, подкрепленные крупнейшими ресурсами усилия по ее реализации.
Во-первых, в основу долгосрочной стратегии должны быть положены крупномасштабные международные проекты освоения нефтегазового комплекса Каспийского бассейна как основы энергоснабжения Европы (и частично Северной Америки) и ее устойчивого развития в I половине XXI в. Это потребует многомиллиардных инвестиций не только в освоение нефтегазовых месторождений, но и в транспортировку нефти и газа по кратчайшему пути через территорию России, в реконструкцию действующих и строительство новых транспортных путей, портов, логистических центров и т.п. по всем трассам МТК.
Во-вторых, для создания МТК и вложения инвестиций необходима надежная правовая база в виде межправительственных соглашений, международных, межгосударственных, национальных и региональных целевых программ и крупных проектов.
В-третьих, требуется поток инвестиций - как государственных, так и частных — в проекты МТК, развитие транспортных путей, в реконструкцию Великого Волжского пути. Источником этих инвестиций может стать нарастающий объем мировой транспортной ренты от создания МТК - как транзитной, так и эксплуатационной. Но чтобы получить эти доходы, нужно сперва вложить инвестиции и привлечь отправителей и получателей грузов, организаторов пассажиропотоков, выдержав нелегкую конкуренцию с ТНК.
Задачи ученых в этих условиях - разработать долгосрочный прогноз развития МТК, прилегающих к нему регионов и тяготеющих к нему стран, обосновать оптимальный вариант долгосрочной стратегии, оценить эффективность различных вариантов, возможные масштабы мировой транспортной ренты и ее распределения.
