
- •Операционная система
- •В функции операционной системы входит:
- •Под компьютерной сетью понимают любое множество компьютеров, связанных между собой каналами связи для передачи данных. Назначение компьютерных сетей:
- •Классификация сетей:
- •Адресация в сети Интернет.
- •Доменная система имен.
- •История появления:
- •История языка html
- •Создание:
- •Синтаксис стиля
- •Включенные таблицы стилей
- •Внедренные таблицы стилей
- •Внешние таблицы стилей
- •Глава 28 - "Преступления в сфере компьютерной информации"
- •Меры защиты Законодательный, административный и процедурный уровни
- •Программно-технические меры
- •Анализ защищенности
- •Пиксельная модель
- •Увеличение числа Пикселов в растре
- •Уменьшение числа пикселов в растре
- •Рекомендации по повторному растрированию
- •Модель cmyk (индексированная модель)
- •Ахроматические модели
- •Штриховое изображение
- •Монохромное изображение
- •Индексированные цвета и палитры
- •Аппаратно-независимые модели
- •Гистограмма тонов
- •Коррекция тонов по уровням
- •Коррекция тонов по градационной кривой
- •К принципиальным недостаткам сетчатой модели можно отнести следующее:
- •Символы (Symbols) и Экземпляры (Instances)
- •Редактирование символов
- •Использование библиотек
- •Анимация во Flash
- •Создание анимации, краткий обзор
- •Переменные
- •Типы переменных
- •Иерархия монтажных линеек
- •Абсолютные и относительные пути
- •35. Основные определения дизайна
- •Индустриальный дизайн
- •Графический дизайн
- •Компьютерный дизайн
- •Дизайн архитектурной среды
- •Дизайн одежды и аксессуаров
- •36. Основные концепции возникновения и развития дизайна
- •Промышленные выставки XIX в.
- •Уильям Моррис и движение «За связь искусств и ремесел»
- •Петер Беренс и немецкий функционализм начала XX в.
- •Чикагская архитектурная школа
- •37. Основные направления дизайн-проектирования
- •Индустриальный дизайн
- •Дизайн архитектурной среды
- •Дизайн одежды и аксессуары
- •Графический дизайн
- •Компьютерный дизайн
- •3 Директора:
- •Основные педагогические принципы
- •Баухауз в Дессау 1925-1932 гг.
- •Восприятие сочетания «фигура-фон»
- •Неоднозначные фигуры
- •Парадоксальные фигуры
- •Восприятие объемности предметов
- •Восприятие формы
- •Восприятие размеров
- •Восприятие направления
- •Прямая линейная перспектива
- •Обратная линейная перспектива
- •Панорамная перспектива
- •Воздушная перспектива
- •Равновесие (Соразмерность)
- •1. Анализ и проектирование
- •2. Написание контента
Баухауз в Дессау 1925-1932 гг.
Переезд из славного своими культурными традициями Веймара в город молодой авиационной и химической промышленности Дессау состоялся весной 1925 года. Здесь Вальтер Гропиус получил возможность спроектировать новую резиденцию Баухауза.
Программа строительства комплекса Баухауза включила возведение главного здания Баухауза и домов с мастерскими преподавателей.
Главное здание представляет собой композицию из двух пересекающих друг друга на различных уровнях Г-образных корпусов с производственными мастерскими, учебными аудиториями, административными помещениями. Учебно-административные корпуса соединяются одноэтажным соединительным крылом с шестиэтажным блоком интерната. В соединительном крыле помещаются зал для собраний, столовая и сцена, все эти помещения могут образовывать единый зал, в который можно пройти из главного вестибюля школы. Проходы и опоры придают всему комплексу легкость, которую еще больше усиливают стеклянные стены.
Со строительством собственного здания школы возникли благоприятные рабочие условия. Возведенное по проекту Вальтера Гропиуса новое здание было 4 декабря 1926 года при участии тысяч гостей - выдающихся политиков, немецких и иностранных архитекторов, художников и ученых-, торжественно открыто.
В Дессау, как позже отмечал сам Гропиус, укрепились Веймарские планы развития Баухауза и прояснилась их социальная значимость. Они нашли во многом свое завершение. Произошло дальнейшее становление педагогической системы и развитие формообразования. Яснее выразилось в учебных курсах обращение к индустриальному производству. Оформился новый образовательный профиль - индустриальное формообразование. Этот период характеризуется также более близким контактом с промышленностью. Деловые связи с промышленностью выражались в том, что новая школа давала промышленности образцы для производства: осветительную арматуру, ковры, ткани и знаменитую мебели из стальных труб.
Среди наиболее известных произведений Баухауза в области архитектуры и дизайна - дом «Ам Хорн» в Веймаре; здание Баухауза, ряд жилых домов, Биржа труда и поселок Тортен в Дессау - классические образцы функционализма в архитектуре; модернистские скульптурные композиции С.Шлеммера и абстрактная живопись В.Кандинского, проектируемая в синтезе с архитектурой интерьера; современная по сей день посуда из металла и керамики Т.Боглера и М.Брандта. Известны во всем мире такие шедевры дизайна, как настольная лампа В.Ва-генфелда, Баухауз-шахматы Ю.Хартвига, выпускаемые до сих пор, и одно из самых престижных в современных интерерах офисов - кресло «Василий» М.Бройера из никелированных стальных труб.
39. Влияние наследия Баухауза на современный дизайн
БАУХАУЗ (нем. Bauhaus - "дом строительства"). Высшая школа строительства и художественного конструирования - художественное учебное заведение и художественное объединение (1919-1933). Основана в 1919 в Веймаре (Германия) давшее искусству ХХ в. много замечательных идей и ряд выдающихся деятелей. Девиз Баухауза: "Новое единство искусства и технологии".
Цель дизайнерской деятельности представители Баухауза видели в преображении форм реального мира и благодаря этому в гуманизации всей практической предметной среды. Они считали, что главная задача дизайнера - проектирование промышленных изделий и их систем с позиций высокой ответственности перед человеком и обществом. По мнению Вальтера Гропиуса, основателя и руководителя Баухауза, дизайнер должен сознавать ответственность перед развитием культуры. Дизайнером, так же как и художником, должно руководить страстное желание освободить духовные ценности от индивидуальной ограниченности, поднять их до уровня объективной значимости. Вот почему наш ведущий принцип, - писал В. Гропиус, - состоял в том, что формообразующая деятельность является не односторонним интеллектуальным или односторонним материальным делом, а неотъемлемой частью жизни, необходимой в каждом цивилизованном обществе.
Согласно замыслу Гропиуса, Б. призван был объединить основные искусства и ремесла в «единое художественное производство» (Einheitskunstwerk — ср.: Гезамткунстверк), в некий синтез искусств при главенстве архитектуры, что уже было в истории культуры в Средние века, на новых научно-техническом и художественно-эстетическом уровнях. В этом Гропиус видел прообраз будущего искусства-производства, направленного на создание среды обитания человека.
Благодаря стремлению к функциональности и использованию новых высококачественных материалов и технологий, Баухауз оказал огромное влияние на развитие модерна, охватив все возможные сферы дизайна – от дизайна интерьеров и мебели до керамики, графики и архитектуры. Многие предметы интерьера, кресла, лампы и т.д., созданные Баухаузом, выпускаются до сих пор. Влияние идей Баухауза наиболее заметно в функциональной архитектуре современных офисов, фабрик и т.п. Баухаус, совместно с институтом психологии проводили исследования на предмет воздействия цвета на психологию. Результатом исследования являются цветные моющиеся обои.
Баухауз оказал сильнейшее влияние на многие стороны современной художественной культуры — особенно на развитие художественно-проектного конструирования, дизайн, средовой подход в архитектуре, да и на принципы современного художественного мышления в целом. Баухауз был основоположником современного формообразования в дизайне. Творческое достижение и прогрессивные идеи Баухауза составляют неотъемлемую часть нашего культурного достояния.
Влияние Баухауза на развитие современной архитектуры и дизайна было значительно как в практическом, так и в теоретическом плане. Деятельность Баухауза явилась очень заметной вехой на пути развития функционализма. Преподаватели Баухауза создали в США ряд школ дизайна при Гарвардском университете, при Массачусетском и Иллинойском технологических институтах и т. д. В Западной Германии после второй мировой войны на основе принципов Баухауза создается одна из передовых организаций дизайна – Ульмская школа.
40.Влияние искусства русского авангарда на становление советского дизайна
Начало прошлого столетия, которое сегодня воспринимается как время блестящих научных открытий, философских откровений, художественных свершений, современники вовсе не считали таковым. В искусстве сильны как никогда апокалипсические мотивы, свидетельствующие о том, что в обществе господствует смятение, предчувствия, что прежний мир вскоре прекратит свое существование.
Ощущение это во многом было связано с последними научными открытиями, которые кардинально изменили традиционное восприятие мира. Выяснилось, что материя, казавшаяся вечным и незыблемым основанием природы, состоит из мельчайших частиц с загадочными свойствами, что пространство пронизано невидимыми глазу излучениями, что значительную часть психики человека составляет бессознательное...
В то же время научно-технические изобретения, которые получили широкое распространение в начале XX века, сильно меняют повседневную жизнь человечества. Самолет, телефон, радио, печатные СМИ становятся неотъемлемой частью быта. События, происходящие в самых отдаленных уголках планеты, сразу становятся известны всем. Информация о природных и социальных катаклизмах – землетрясениях, массовых эпидемиях, войнах, революциях, случившихся где-то на другом конце света, – воспринимается не как катастрофа, а как что-то естественное.
Многие научные открытия затрагивают искусство напрямую. Так, если раньше одна из основных задач искусства состояла в том, чтобы зафиксировать облик человека, сохранив память о нем, то с изобретением фотографии необходимость в этом отпадает. Художник вынужден переосмыслять значение искусства, по-новому обосновывать его право на существование. И научные открытия помогают ему в этом. Новое сознание больше не ограничивается традиционными представлениями, основанными на естественном восприятии. Теперь важнейшей его составляющей является знание, которое нельзя воспринять органами чувств, и искусство вынуждено искать способ передать эти изменения художественными средствами.
В начале XX века искусство осознает, что оно может использоваться как инструмент познания окружающей действительности. Художник начинает ощущать себя исследователем и первооткрывателем, ставящим эксперименты и создающим теории. Искусство начала XX века мыслит себя не только как особый метод изучения действительности, но и как важный инструмент ее изменения, «жизнестроительства»
Авангардизм - (франц. avantgardisme от avant -- передовой и garde -- отряд) -- обобщенное название экспериментальных течений, школ, концепций, идей, творчества отдельных художников XX в., преследующих цели создания совершенно нового искусства, не имеющего связей со старым.
Авангардизм - это тенденция отрицания исторической традиции, преемственности, экспериментальный поиск новых форм и путей в искусстве. Понятие, противоположное академизму. Но и авангардизм имеет свои истоки, поскольку он вырос из искусства периода Модерна. Авангард -- порождение абсурда, несоответствия духовного смысла реальности искусства и жизни.
Общим для русского авангарда был радикальный отказ от культурного наследия, полное отрицание преемственности в художественном творчестве и сочетание деструктивного и созидательного начал: духа нигилизма и революционной агрессии с творческой энергией, направленной на создание принципиально нового в искусстве и в иных сферах жизни. На разных этапах эти новаторские явления в русском искусстве обозначались терминами «модернизм», «новое искусство», «футуризм», «кубофутуризм», «левое искусство» и др.
К середине 1910-х роль авангарда в искусстве переходит к России. С этого времени все самое смелое, новаторское создается в России или выходцами из России. Еще за несколько лет до этого ничто в русском искусстве не предвещало столь резкого поворота: в конце 19 – начале 20 вв. русская официальная живопись оставалась в академических рамках. Вероятно, поэтому творчество традиционных по западным меркам художников – Борисова-Мусатова, Серова, Коровина – рассматривается как новаторское. Дизайна 1920-х годов был очень разнообразен: от повторения образов дореволюционного модерна до конструктивизма и социалистического реализма. Этот плодотворный для советского дизайна период 20-х-30-х годов ХХ века теперь изучается как феномен мировой культуры, а его достижения широко используются во всем мире как образец и элемент оформления интерьеров офисов, госучреждений, общественных заведений и частных владений.
Перемены, начавшиеся здесь на рубеже XIX-XX вв., определяют все дальнейшее развитие искусства вплоть до современных форм художественного творчества.
Художники: Ларионов, Филонов, Татлин, Малевич.
41.Школа советского дизайна ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН
25 декабря 1920 года были созданы Московские государственные высшие художественно-технические мастерские (сокращенно ВХУТЕМАС). Это должно было быть специальное высшее учебное заведение, имеющее целью подготовку "художников-мастеров высшей квалификации для промышленности".
Образовался ВХУТЕМАС первоначально в результате слияния бывшего Строгановского училища и бывшего Училища живописи, ваяния и зодчества. В 19 году ВХУТЕМАС был преобразован в институт (ВХУТЕИН), который просуществовал до 1930 года. В новом учебном заведении художественное творчество трактовали широкую сферу, включавшую и создание произведений искусства, и художественно ценных предметов быта и техники.
Первые два года обучения, где студенты получали общехудожественное образование, были названы основным отделением. Этот курс, наряду с входным курсом "Баухауза", по существу, предвосхитил все вводные курсы современных дизайнерских школ.
Руководители ВХУТЕМАСа - ВХУТЕИНа рассматривали подготовку художника-производственника как синтетическую задачу воспитания всесторонне и гармонично развитого работника нового общества. Факультеты металло- и деревообработки делали очень большую работу, прокладывая путь будущему дизайну. Это, по существу, уже была программа подготовки первых советских дизайнеров.
Для реализации учебных программ были организованы производственные мастерские, которые мыслились как художественно-конструкторский центр, где могут выполняться любые задания - от архитектурных макетов до костюма. При ВХУТЕМАСе и ВХУТЕИНе работали и научно-исследовательские лаборатории, которые ставили своей целью создание действительно научно обоснованного преподавания и исследования природы художественных дисциплин.
В 1925 году на Международной выставке декоративного искусства и промышленности в Париже ВХУТЕМАС был отмечен Почетным дипломом за новый аналитический метод, программы и учебно-экспериментальные работы студентов. Советский научно-учебный центр получил международное признание наряду с "Баухаузом". Целый отряд архитекторов, искусствоведов и художников поставил перед собой цель - слияние своего искусства с новой жизнью, видел целью развития искусства вхождение его в промышленное производство, в "делание вещей". Их называли "производственниками".
То, что они могли дать обществу реально полезного - проекты совершенной мебели или одежды, в то время было не нужно: все это почти не производилось. Резкий разрыв между мечтами, теоретическими устремлениями "производственников" и насущными конкретными задачами, стоявшими перед новым обществом, в конце концов привел к упадку этого течения.
42.Пионеры советского дизайна
В 1923-1932гг. Россия становится одним из важнейших центров формирования дизайна. Происходит становление школы профессиональной подготовки дипломированных дизайнеров — производственных факультетов ВХУТЕМАСа.
В этот период формируются оригинальные творческие концепции дизайна, определившие его дальнейшее развитие. Более подробно о них можно узнать из работ самих авторов — А. Родченко, Л. Лисицкого, В. Татлина. Развивается конструктивизм. Производственные факультеты ВХУТЕМАСа охватывает эйфория изобретательства. Безусловно, тон задавали их лидеры — А. Родченко и Л. Лисицкий, которые наиболее ярко проявили себя именно в графическом дизайне. Фотомонтаж, коллаж, шрифтовые композиции, рекламная и плакатная графика, книжные конструкции составляют золотой фонд мирового дизайна. Множество их открытий и проектов в других областях (новые принципы организации выставочных и бытовых интерьеров, типовой мебели, архитектурных ансамблей и небоскребов) были реализованы значительно позже.
Комплексный подход к созданию объектов нашел отражение и в программе Владимира Татлина, преподававшего культуру материала. Он уделял основное внимание роли взаимосвязей и взаимоотношений: человек и вещь, функция и материал, различные материалы в процессе создания «систематической, жизненно необходимой вещи». Он учил студентов с самых первых шагов разработки проекта учитывать функциональный (конечная цель создания предмета, особенности производства) и органический (человек, который будет этой вещью пользоваться) факторы.
Родченко Александр Михайлович (1891-1956), российский дизайнер, график, мастер фотоискусства, художник театра и кино. Один из основоположников конструктивизма, родоначальник нового вида искусства дизайна. В 1920-30 преподавал на деревоотделочном и металлообрабатывающем факультетах Вхутемаса-Вхутеина (в 1928 факультеты были объединены в один Дерметфак). С 1921 по 1924 работал в Институте художественной культуры (Инхук), где сменил в 1921 В. В. Кандинского на посту председателя. В 1930 году на базе полиграфического факультета ВХУТЕИНа (Высшего художественно-технического института — так к этому времени называлось учебное заведение) был создан Московский художественно-полиграфический институт (МХПИ), ныне — Московский государственный университет печати. Выпускники ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа-МГУПа, станковисты и иллюстраторы, во многом определили лицо российского искусства ХХ века. Лазарь Маркович Лисицкий (Эль Лисицкий). Лисицкий - яркая фигура в искусстве XX века, но фигура очень непростая для исследователей. Бесспорны его высокое художественное мастерство, профессионализм работы и тонкий вкус. И все же есть существенное отличие творческого вклада Лисицкого в становление современного стиля от вклада таких пионеров нового искусства, как Малевич, Татлин и некоторые другие. Отличие состоит в том, что у Лисицкого не было четко выраженной оригинальной концепции формообразования, что было, однако, не слабой, а сильной стороной творчества Лисицкого
К пионерам советского дизайна первого поколения можно отнести тех, кто завершил свое профессиональное художественное образование к началу 20-х годов. Это В. Татлин, К. Малевич, А. Родченко, А. Экстер, В. Стенберг, Г. Стенберг, Г. Клуцис, А. Ган, К. Иогансон и Л. Лисицкий.
20. Статика, динамика. Движение в композиции. Контраст движения и неподвижности. Ключевые кадры. Длительность. Связность, упорядоченность, изменчивость.
По схемам построения и характеру трактовки орнамента композиционные решения бывают двух видов: статичные и динамичные. Статичные (неподвижные) композиционные схемы чаще всего симметричны и требуют строгой трактовки орнамента. Сюда, как правило, относятся линейные рисунки (полосы и клетки), композиции с геометрическим орнаментом и некоторые произведения с растительным узором. Статичные композиции передают состояние покоя и уравновешенности. Орнамент располагается в основном но прямоугольной сетке, все элементы лежат на вертикальных или горизонтальных осях, перпендикулярных или параллельных краям изделия, изобразительные элементы даны фронтально, они устойчивы, и место их в композиционной схеме четко определено.
В динамичных по решениям композициях элементы узора располагаются по диагональным осям или свободно распределяются на плоскости. В них ярче выражено движение, схемы более разнообразны, здесь возможно смелое нарушение симметрии. Контур рисунка зачастую бывает смещен относительно цветового пятна, цветы и листья изображаются на энергично и упруго согнутых ветках. Цветовое решение в динамических композициях может быть более напряженным.
Ритм в жизни и в искусстве проявляется через большую или меньшую периодическую повторяемость какого-либо элемента тождественных, аналогичных положений, дублируемых через некоторые интервалы. Если симметрии свойственно спокойное равновесие элементов, то ритм подразумевает движение, которое может быть продлено до бесконечности.
В некоторых проектах требуется неподвижность (классика, культура и тд), а в некоторых — динамика (танцы, соревнования, спорт и тд). Само собой это два контрастных явления. Но они могут и совмещаться, так как если все рассказывать в статике, то становится скучно, а если в динамике, то можно утомить зрителя постоянно двигающимися предметами. Чтобы их грамотно совместить, нужно обратить внимание на длительность: опять же если мы рассказываем про что—то спокойное и уравновешенное, то статики нужно уделить больше внимания, а динамике меньше. И наоборот. Так же нужно помнить и о связанности этих двух видов. Например, после статичного изображения нельзя сразу давать резкую динамику — это может привести пользователя в замешательство. Нужно плавно придавать объекту динамичности и далее переходить уже на движущиеся ритмичные компоновки. (Один из примеров статики, динамики: сайт. Бывают статичные сайты, бывают динамичные, опять же все зависит от темы, но сейчас очень пользуются популярностью флэшевские заставки, которые могут быть ненавязчивыми и в тоже время придавать динамику даже самому обычному сайту, делая его более запоминающимся и ярким).
43 Основные особенности национальных моделей дизайна
Мир послевоенного дизайна столкнулся с общими для разных стран проблемами. Во-первых, с конверсией, переводом предприятий военных отраслей на мирные рельсы. Во-вторых, с демократизацией, сопровождавшейся выпуском массовых, социально необходимых дешевых товаров. В-третьих, с глобализацией производства, средств коммуникации, транспорта. Каждая национальная модель дизайна по-своему решала эти проблемы.
Функционализм — общая стратегия мирового дизайна 1950— 1970-х гг., давшая название характерному образному строю промышленных изделий — от бытовых предметов до технических устройств и аппаратуры. Функциональный дизайн подразумевал минимум декора, действительные, а не мнимые полезные свойства вещей, в которых максимально учитывается эргономика и психологический комфорт, а также используются рациональные технологические процессы. Функционализм — наследник модернизма в искусстве и дизайне 1920-х гг. Благодаря своей нейтральности он стал интернациональным дизайн-стилем.
Германия.
Традиции функционализма всегда были особенно сильны в Германии. Функционализм в дизайне пропагандируется как национальное достояние. В технике, производстве культивируется особое отношение к дизайнерскому качеству, безопасности, производственной технологичности, экономичности производства, удобству пользования.
Уважительное отношение к технической вещи было заложено еще в XIX—XX вв. трудами Г. Земпера, Ф. Рело, Г. Мутезиуса. Сложилось понимание того, что новая техническая вещь обладает собственной выразительностью, основанной на правде материала и выраженной функциональности. Благодаря наследию «Баухауза» немецкий дизайн традиционно был связан с модернизмом, с ориентацией на минимализм выразительных средств.
Во времена Третьего рейха развитие дизайна прервалось. Вся промышленная мощь была направлена на производство вооружения. В архитектуре преобладали неоклассика, гипертрофированные по своим размерам интерьеры, во всем доминировал имперский стиль. Считалось, что творчество «Баухауза» чуждо немецкому духу, что вещи должны отражать «здоровое, присущее немецкому народу чувство формы»1.
В годы послевоенной реконструкции, особенно в западных секторах Германии, под влиянием американских оккупационных войск, а также благодаря новой власти культура, в том числе и дизайнерская, вернулась в русло европейского модернизма и далее — интернационального стиля.
«Веркбунд» организует в 1951 г. Институт новой технической формы. Устраиваются временные передвижные выставки. Немецкие дизайнеры, выключенные из мирового процесса дизайна на 15 лет, жадно интересуются работами Чарлза Имса, Джорджа Нельсона, Марчелло Ниццоли, мебелью американской фирмы «Кнолл».
С 1958 г. выходит журнал «Форм», среди инициаторов создания которого был и Вильгельм Вагенфелд, выпускник «Баухауза», специалист по проектированию осветительной арматуры. Он выступал за более разнообразную и свободную трактовку дизайна и его художественных потенций.
44.Дизайн России современного периода. Собственная оценка состояния и перспектив развития
Дизайн — вид проектно-художественной деятельности, связанный с разработкой предметного окружения человека, систем визуальной коммуникации и информации, организацией жизни и деятельности человека на функциональных, рациональных началах. В своей работе дизайнер пользуется всем арсеналом проектных средств: от технического конструирования, компоновки — до композиционного формообразования, стилеобразования; от функционального анализа — до организационных, концептуальных моделей предметной среды. Однако все эти средства подчинены выявлению общекультурного, художественно-образного понимания дизайнером всего комплекса проблем предметного мира и мира коммуникации. Разработка этой «второй природы» базируется на ряде принципиальных методов — функциональном анализе, компоновке, создании пространственной или графической композиционной структуры, стилизации и т.д. Цель дизайна — удовлетворение разнообразных потребностей человека, включая потребность в культурной идентификации, эффективная организация предметной и информационной среды жизни и деятельности на основе художественно-образных моделей. Это работа художника с формой, и потому процессы формообразования здесь принципиальны. Форма интегрирует понимание дизайнером всего круга стоящих перед ним задач: и утилитарных, и социокультурных, и художественных, и технологических. Через форму дизайнер общается с потребителем (понимая под формой не только оболочку или конструкцию материальных предметов, но и структуры, сценарии действия, те или иные правила и условия).
Большая часть эпитетов и определений, которыми можно описать Российский современный дизайн, сведётся к «оформительству». Оформлению пространства, оформлению предмета, оформлению образа. Иными словами дизайн для нас это способ работы над формой, внешней оболочкой чего-либо. Однако в своём изначальном значение слово «дизайн» это, прежде всего содержание, которое затем диктует форму. Дизайн нового продукта на Западе, откуда к нам и пришло это слово, это не просто упаковка, это не просто красивая или необычная форма, это, прежде всего новое конструкторское решение, новый уровень удобства применения и эргономики.
Работа дизайнера это не просто красивая этикетка, это эргономичная и удобная бытовая техника и мебель, это ноутбуки, телефоны и плееры не хуже чем Apple, это учебники по которым хочется учиться, это одежда, которую хочется носить, это дома, в которых хочется жить и парки и площадки возле них, по которым хочется гулять. Дизайн формирует окружающий нас мир, а пока дизайн будет пустым, внешним или наполненным, но чужим содержанием, то такой пустой или чужой и будет пространство в которым мы живём и предметы которые нас окружают. Вот почему приходя в магазин, я вижу двадцать различных марок сгущёнки, но при этом все как одна упакованы в железо, а этикетки все сплошь сине-белые, и на всех отпечатана тоска о советском прошлом. Неужели все покупатели сгущёнки так безумно тоскуют по советам ,что будут стоять и выбирать между двадцатью банками, которая из них точнее похожа на «ту самую? Но производители упорно продолжают штамповать одинаковые металлические контейнеры и красить их в совдеповую гжель. И так у нас во всём, от уныло-серого здания новой школы до массивов однообразных чёрт знает как понатыканных многоэтажек, от упаковки молока, до пресловутой Лады «Калина». Пока мы относимся к дизайну как к «оформительству» никакой модернизации мы не добьёмся и никаких инноваций не внедрим. Кто виноват? Таким отношением к дизайну, мы во многом обязаны нашему советскому прошлому, рассказывать о качестве дизайна продукции, во времена которого никому, думаю не нужно. Основные препоны на пути развития современного российского дизайна это нехватка квалифицированных кадров, отсталость российского образования в этой сфере, отсутствие на предприятиях понимания о возможностях эффективного применения дизайна в производстве и отсутствие единой государственной системы поддержки развития дизайна.
Кадры. С кадрами у нас вообще замкнутый круг. Отечественные вузы выпускают специалистов, которые никому не нужны. Предприятия не могу найти нормальных дизайнеров, поэтому сокращают ставки и сворачивают работу в этом направлении, обходясь минимальными требованиями к внешнему оформлению продукции. Соответственно даже способные ребята, закончив вузы не могут работать по специальности и вынуждены уходить в другие отрасли. Сегодняшний кадровый рынок дизайна переполнен самоучками. Самоучки очень чутко реагируют на изменяющиеся запросы рынка и могут, начав с графического дизайна постепенно перепрофилироваться в 3D-дизайнеров и заняться, промышленны дизайном. Однако отсутствие базового художественного или технического образования не позволяет таким специалистам создавать принципиально новые продукты, поэтому, как правило, мы сталкиваемся с более или менее качественными копиями уже существующих образцов дизайна. Присутствие на рынке такого количества непрофессионалов вызвало так же и деформацию системы оплаты и критериев качества в сфере дизайн-услуг. Если у вас мало денег, то мы вам клипартов надёргаем, смастерим из них нечто и готово. Если же у вас денег побольше, то тогда мы, конечно же, подойдём к вашему заданию посерьёзней, возможно, даже привлечём профессионалов, который сделает работу качественно. А так быть не должно. Должно быть сразу качественно, независимо от суммы гонорара. Оплата должна зависеть от объёма работ и особенностей технического задания. Ответственное отношение к каждому заказу, комплексное решение каждой проблемы это профессиональный принцип, который редко формируется само по себе, и поэтому должен культивироваться в средних и высших учебных заведениях.
Производство. Отсталое производство и отсутствие по-новому мыслящих кадров это проблемы уже старые и впринципе понятные. Более серьёзной проблемой сегодня является непонимание руководящим составом предприятий истинной роли дизайна в современной экономике. Дизайн почти не применяется на начальных стадиях разработки, а воспринимается исключительно как итоговое внешнее оформление готовой продукции. Менеджеры очень часто не умеют грамотно составить техническое задание для разработчиков дизайна. А в малом и среднем бизнесе зачастую главным заказчиком и приёмщиком дизайн-услуг выступает хозяин предприятия. А какие критерии он предъявляет к оформлению продукции? - «Вы мне нарисуйте так, чтобы побогаче выглядело, и золота побольше, блёсток и звёздочек всяких. А вот тут узоров нарисуйте. И надпись сделайте побольше, да цветом поярче, чтоб с тридцати метров в глаза бросалось. А в центр композиции, очень уж прошу, поместите фотопортрет дочери моей фотомодельной, она у нас лицо кампании, основа бренда, так сказать…» ну и так далее. Инновации, модернизация, ага. Государственная поддержка. В России сегодня отсутствует система поддержки и развития дизайна на государственном уровне, а это значит, что такая система отсутствует вообще, так как рынок самостоятельно не в силах выполнять эту функцию. Помимо отсутствия какой-либо внятной и планомерной деятельности в направлении развития дизайна, государство так же очень мало уделяет внимания дизайну в своей непосредственной деятельности. Градостроение, возведение зданий социально-культурно направленности, госзакупки в сфере образования, здравоохранения, транспорта, социального обеспечения производятся без учёта современных требований к дизайну и функциональности предметов и окружающего пространства. Во многом это вызвано тем, что отсутствуют стандарты и регламентация в области дизайна. Пренебрежение пространственным дизайном при градостроительстве приводит в итоге к постепенной деградации городского социума, выражающегося в надписях на стенах, грязи в подъездах и неухоженных придомовых территориях.
Проблем, безусловно, много, однако все их можно решить, подходить к их решению необходимо комплексно, координируя усилия по адаптации российского профильного образования, популяризации вопросов применения дизайна на производстве и в бюджетных организациях, а так же разработав систему государственного регулирования и поддержки в сфере дизайна. Развитие российского дизайна, поможет повысить конкурентоспособность российских товаров и услуг, как на региональном, так и на международном уровне, а так же улучшить качество жизни наших граждан.
45. «Культура» и «цивилизация». Происхождение и смысл. Представления о соотношении этих понятий.
Культура- понятие, имеющее множество значений в различных областях. В основном, под культурой понимают области человеческой деятельности, связанные с самовыражением.
Городская и государственная (полисная) жизнь связана с развитием разного рода технологий: строительства, производства, правления, социальных коммуникаций и т. д. Отсюда словом «цивильно» определялись вкусы и манеры, соответствующие нормам гражданского (то есть городского) устройства жизни
Одним из первых понятие «цивилизация» подразумевалось: стадию в развитии человеческого общества, характеризующуюся существованием общественных классов, а также городов, письменности и других подобных явлений.
Если цивилизация – это технологии, то что же тогда культура? В культуре вызревают идеальные (мыслительные) модели мира, так называемые системы ценностей, смыслы, которыми человек наделяет окружающую его действительность.дизайн возникает как реакция культуры на цивилизацию. Или – как технологическая возможность зафиксировать новые культурные смыслы. Уравнительные технологии одухотворяются дизайном как «полномочным представителем» культуры и, со своей стороны, предоставляют дизайну возможность воплощения проектных идей.Дизайн своей содержательной частью вписан в культуру, но не мыслится вне цивилизации в части выбора выразительных средств.
46. «Художественный образ». Основные свойства. Особенность образного восприятия. Роль образа в художественной коммуникации.
Художественный образ - всеобщая категория художественного творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции определенного эстетического идеала путем создания эстетически воздействующих объектов. Художественным образом также называют любое явление, творчески воссозданное в художественном произведении. Художественный образ — это образ от искусства, который создается автором художественного произведения с целью наиболее полно раскрыть описываемое явление действительности.
Художественный образ диалектичен: он объединяет живое созерцание, его субъективную интерпретацию и оценку автором (а также исполнителем, слушателем, читателем, зрителем).
Художественный образ создается на основе одного из средств: изображение, звук, языковая среда, — или комбинации нескольких. Он неотъемлем от материального субстрата искусства.
• художественный образ глубоко укоренен в культуре, поэтому его формирование и его восприятие возможны лишь внутри определенной эстетической системы;
• художественный образ рождается в акте коммуникации на пересечении воплощенного художником замысла и его восприятия зрителем (читателем, слушателем), оценка образа зависит от подготовки и ориентации воспринимающего сознания;
• художественный образ целостен, он одномоментно воспроизводится в воспринимающем сознании;
• художественный образ всегда эмоционально окрашен.
Художественныйобраз должен обладать свойствами - :
• идеальность (способность к существованию в идее);
• целостность;
• осмысленность.
дизайн-проектировании это:
• художественное моделирование – воспроизведение идеальной жизни вещи в художественном воображении;
• композиционное формообразование – построение вещи как композиционной формы, обладающей внутренней завершенностью, гармоничностью, соразмерностью, целостностью и т. п.;
• смыслообразование – постижение смысла вещи, раскрывающего содержание ее социокультурного бытия (этот аспект наиболее сложен, и на нем мы подробнее остановимся в главе 3).
Поскольку проектный образ принципиально конформен, то он наглядно моделирует (в нем заложено):
• реальное состояние культуры, социальных процессов, социально-психологических особенностей, экономических и прочих факторов, которое на данный момент характеризует действительность – объективный фактор;
• отношение к сформированному проектному образу со стороны потенциальных адресатов – субъективный фактор.
47. Особенность дизайнерского мышления. Принципиальное различие между понятиями «задача» и «проблема». Связь с инновационным и аналоговым проектированием.
Любое творческое мышление отличается от рутинного, и было бы несправедливо заявлять, что у дизайнеров все происходит совсем не так, как у других проектировщиков. По способу профессионального мышления дизайнер ближе всего, конечно, к архитектору, но тот дизайнер, который занимается проблемами городской среды, как раз зачастую и не находит общего языка с архитектором, получившим классическое образование (в следующей части книги мы попытаемся понять, отчего так происходит).
Для производства любого промышленного изделия творческие способности столь же необходимы и конструктору, и инженеру, и технологу, и прочим специалистам, которые своим трудом создают тот же материальный объект. И все же, не в обиду будет сказано представителям этих профессий, определенное отличие существует. Особенно ясно и наглядно демонстрирует его одна краткая фраза-формула, ставшая уже хрестоматийной. Звучит она так:
«Дизайнеру заказывают не мост, а переправу».
Почему? Проанализируем предложенную сентенцию.
Понятно, что перед нами не просто некая констатация, но метафора, которую следует «расшифровать». Так что же такое в этом высказывании – «мост»? С заказом на проект моста – а это вполне конкретный заказ – обращаются к инженеру-мостостроителю, к конструктору, специализирующемуся на проектировании этих сооружений, наконец, к архитектору. При этом изначально полагается очевидным, что в сложившейся ситуации требуется именно мост и ничто иное. Задание формулируется именно и только так: «спроектировать мост». Далее он может быть решен самыми различными способами: исходя из реальных условий, финансовых возможностей, соображений проектировщика, он может оказаться подвесным или понтонным, на «быках» или какой-либо иной конструкции – но это всегда будет мост и только мост. Итак, «мост» в этой фразе есть обозначение самой идеи задачи, «мост» – метафора задачи, которая, будучи однозначно сформулированной, требует четкого и адекватного проектного ответа.
В отличие от этого, слово «переправа» в приведенной фразе определяет содержание сложившейся проблемы. Она состоит в том, что существует необходимость переправиться через некое пространство, то есть попасть на ту сторону, тот берег – реки, оврага, пропасти, железнодорожных путей и т. д. Спектр решений такой проблемы включает в себя, среди прочего, и сооружение моста, но никак этим не исчерпывается. Переправится в принципе можно различными способами: прорыв под землей тоннель, на плавучем средстве (если через воду), на воздушном шаре, по канатной дороге… телепортацией, наконец! На последним способе, разумеется, слишком настаивать не будем – он приведен лишь как указание на несдерживаемое рациональным рассудком максимально возможное расширение способов решения поставленной проблемы. Итак, в этом контексте «переправа» – метафора проблемы.
Итак, мы имеем противопоставление («не… а…») задачи и проблемы. В приведенной фразе утверждается, что к дизайнеру не следует обращаться за решением узко поставленной, конкретизированной задачи; поле его деятельности – поиск возможностей разрешения проблемы, всегда обладающей качеством неопределенности.
Трансформация задачи в проблему – есть процедура «проблематизации», то есть расширения смыслового контекста первоначальной задачи, включения в него новых смыслов и значений.
Еще Петер Бернс, автор первой в истории дизайна (Германия, 1907 год) целостной дизайн-программы АЭГ («Всеобщая электрическая компания») говорил: «Меня всегда интересуют только проблемы. Тем, что само собой разумеется, пусть занимаются другие». Звучит немного высокомерно, но взглянем на ситуацию. То была эпоха становления новой профессии, и этим заявлением Петер Бернс жестко противопоставляет себя, как активного ее представителя, специалистам тех профессий, которые давно уже зарекомендовали себя на производстве и в обществе. Кто эти «другие»? Полагаю: инженеры, конструкторы, технологи, все те, кто досконально знает, как решать свои профессиональные задачи. Хочется сказать: узко профессиональные. Но Петер Бернс – дизайнер, он иной, он берется вовсе не за их дело, самого его «интересуют только проблемы». А решение проблемы может вдруг оказаться совершенно непредсказуемым. Таким заявлением автор АЭГ позиционировал себя в системе профессионалов-проектировщиков, обслуживающих производство.
Но не будем вставать в позу и делать вид, что дизайнеры всегда занимались и занимаются исключительно инновационными проектами. Во-первых, в любой деятельности есть корифеи, и есть хор – то есть в нашем случае те, кого знаменитый американский дизайнер Джорж Нельсон называл «пленными дизайнерами»: работая на производстве, им приходится заниматься текущим проектированием с минимальными нововведениями и даже модернизацией устаревших образцов продукции. Так что внутри самого дизайна сложилось естественное разделение на инновационное проектирование и проектирование аналоговое. Между двумя этими профессиональными установками (возникших по объективной необходимости или в силу дарованных природой возможностей) есть принципиальное различие в методе работы.
Таблица 3.1.
Принципиальное различие логики инновационного и аналогового проектирования
Аналоговое проектирование (решение задачи) |
Инновационное проектирование (разрешение проблемы) |
неопределенная ситуация сводится к определенной, имеющей известное решение |
определенная ситуация при расширении ее контекста (при включении в нее новых обстоятельств, точек зрения и т. п.) освобождается от готовых решений |
находятся аналоги, прототипы решения сходной задачи |
ситуация становится неопределенной, открытой, обладающей широким веером возможных разрешений |
проверяется возможность перенесения найденных решений на проектируемый объект |
выбранное решение конкретизируется, проверяется его уместность и своевременность в данной социокультурной ситуации, рассматривается практическая возможность воплощения, соответствие уровню развития технологий, допустимым финансовым затратам и т. д. |
в проектном предложении минимально трансформируются знакомые решения сходной задачи |
в проектном предложении содержится неожиданное и на первый взгляд парадоксальное разрешение проблемы |
Прототипический подход («мост») |
Проблематизирующий подход («переправа») |
И все же, как бы реальные жизненные обстоятельства не корректировали дизайн-деятельность, но для представителя этой профессии более характерна логика, обозначенная во втором столбце таблицы – логика «проблематизирующего» подхода. Именно эта способность делает проектировщика вещей – дизайнером, и именно это отличает его от прочих, близких ему, специалистов. Инженерное проектирование тоже может быть исключительно новаторским, но эта новизна содержится в способах совершенствования вещи относительно исполняемого ею практического назначения, в направлении большей технологичности или рентабельности ее производства и т. п. Тогда как дизайнер вносит изменения в саму жизненную ситуацию, где эта вещь традиционно использовалась. В обновленной ситуации она в прежнем своем качестве, возможно, и вовсе не потребуется (нет смысла думать, каким спроектировать мост, если проблему переправы решает канатная дорога). И тогда уже эту, обновленную, ситуацию дизайнеру придется оснащать новыми вещами.
Особенность дизайнера состоит также не в том, что он усваивает композиционные приемы. Архитекторы владели ими задолго до того, как возникла (выделилась) профессия дизайнера. Специалисты же технических профессий тоже могли бы с пользой обучаться им, поскольку усилиями таких школ, как Баухауз или ВХУТЕМАС, эти приемы достаточно формализованы. Такие знания и навыки были бы ими востребованы при решении их профессиональных задач, включая и квази-дизайнерские, то есть требующие аналогового проектирования. Но подлинный дизайн – это внесение социально-культурных инноваций и поиск нестандартных решений, дизайн – это, прежде всего, разрешение проблемы «переправы» в ситуации, когда «мостостроительство» почему-либо невозможно или нецелесообразно.
А теперь попробуем сопоставить логику «проблематизирующего» подхода, нацеленного на получение новой вещи – с путем получения нового знания, как это прослеживается исследователем эволюции стиля научного мышления [М. Х. Хаджаров]. Мы уже обращали внимание на то, что современное мышление отличается от традиционного, полагавшего между всеми явлениями бытия наличие однозначных связей. В процессе развития вероятностного стиля мышления в научный категориальный аппарат вошли такие понятия, как «неопределенность», «случайность», «возможность», «вероятность» и пр., которые обнаруживают тесную связь с новейшими философскими представлениями. Такую философскую и научную парадигму называют «вероятностной» и «системно-структурной». Со своей стороны, дизайнерская мысль всегда стремилась сочетать в процессе поиска новизны образное и системное начала.
Таблица 3.2.
Семантика научного познания, вероятностный и системно-структурный стиль мышления
Исследовательский процесс |
Первый этап. |
Второй этап. |
последовательные этапы решения научной проблемы |
Дивергенция (расширение) семантического поля научной проблемы: определение и конструирование ряда вариантов ее возможного решения |
Редуцирование множества имеющихся вариантов решения проблемы и сведение их к единственному оптимальному решению |
логико-методологические принципы, выражающие названные стили мышления |
Координационно- конструктивные. Регулирование формирования семантического поля возможных решений |
Селективно-вариационные. Формирование требований, предъявляемых к возможным решениям, а именно: их максимальной емкости, максимальной информативности, минимума исходных понятий, аксиом |
содержание логико-методологических операций |
Аналогия, соответствие, инвариантность |
Полнота, универсальность, простота |
Расшифровка «первого этапа» исследовательского процесса весьма напоминает процедуру «проблематизирующего» подхода, не правда ли? Дивергенция, то есть расширение смыслового контекста объекта проектирования или исследования – универсальный путь поиска новизны. «Второй этап» призван лишь адаптировать найденное знание к насущной реальности, сводит многообразие решений к оптимальному для конкретных условий. «Аналоговый» же подход начинает сразу со второго, редуцирующего, этапа, и потому результаты его недалеко уходят от первоначального состояния материального объекта или знания.
Так называемый «проблематизирующий» подход был уже давно осознан внутри профессии и вполне самостоятельно применялся параллельно с происходящим в науке изменением стиля мышления от строго детерминированного (предсказуемого) – к вероятностному. Близость эта, видимо, объясняется тем, что вероятностное начало всегда присутствовало в художественно-образной составляющей мышления дизайнера, и это, по выражению Ю. Шрейдера, не позволяло ему «превращать «бритву Оккама» в гильотину» [60]. Итак, дизайн – посредник между художественным и научным постижением мира, но дизайн, в силу прикладного характера, мысль свою материализует, изменяя не только ментальную сферу существования человека, но и его физическое бытие.
48. Принципиальное отличие предметно-пространственной среды от предметного окружения. Роль человека (людей) в формировании предметно-пространственной среды.
Наиболее наглядно и убедительно понятие «предметно-пространственная среда» можно определить через сопоставление его с понятием «предметное окружение». Если «предметное окружение» – это весь рукотворный мир окружающих нас вещей, то «среда» – лишь тот фрагмент этого мира, который нами эмоционально и чувственно освоен. Реально такой средой становится пространство нашей комнаты, квартиры.среда – это хорошо освоенное окружение. Понятие «среда» чрезвычайно емко, оно включает в себя все свойства и факторы окружающего мира, которые создают «средовую атмосферу», воздействующую на чувства, мысли и ощущения погруженного в нее человека. Именно это делает словосочетание «средовой подход» инструментальным для анализа и описания новых представлений об объекте дизайнерского проектирования. Конкретная среда с определенными свойствами может существовать, только будучи освоенной его деятельностью, его сознанием, его эмоциями. Если в том же физическом пространстве находится другой человек, наделенный другим характером восприятия, другими ожиданиями, то параметры его среды будут отличными от параметров среды первого человека. С другой стороны, на месте каждого из них может оказаться и множество людей, объединенных на данный момент общими вкусами и предпочтениями. Тогда такое множество людей становится «совокупным средовым субъектом», и для всех них существует одна та же среда. Так спортивный стадион – общая среда для всех болельщиков, объединенных одной страстью, но предметно-пространственная среда «высокого» кабинета будет совершенно разной для его хозяина и для посетителей.
Структура предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда имеет радиальную структуру, послойно распространяющуюся от центра.
Центром среды, ее средоточием и средообразующим фактором – является человек, осваивающий свое предметное окружение. Этот человек зовется «средовым субъектом» (или «субъектом среды», или «средовым Я»). Конкретная среда с определенными свойствами может существовать, только будучи освоенной его деятельностью, его сознанием, его эмоциями. Если в том же физическом пространстве находится другой человек, наделенный другим характером восприятия, другими ожиданиями, то параметры его среды будут отличными от параметров среды первого человека. С другой стороны, на месте каждого из них может оказаться и множество людей, объединенных на данный момент общими вкусами и предпочтениями. Тогда такое множество людей становится «совокупным средовым субъектом», и для всех них существует одна та же среда. Так спортивный стадион – общая среда для всех болельщиков, объединенных одной страстью, но предметно-пространственная среда «высокого» кабинета будет совершенно разной для его хозяина и для посетителя. Восприятие и возможное описание среды глубоко субъективны – и это составляет одно из ее родовых свойств.
Остается вопрос: где «кончается» субъект и «начинается» среда? Проведение этой границы зависит от критериев ее определения. Для социокультурного человека такая граница, разумеется, не проходит по поверхности его кожи, как для человека анатомического. Проходит ли она по поверхности его одежды? Ведь одежда – это уже инструмент социальной и культурной самоидентификации (вспомним, что говорилось в главе 2 о «знаковых» функциях вещи).
Вокруг «средового субъекта» (в том числе и «совокупного субъекта», когда людей множество) концентрируется зона его непосредственных контактов с окружением, «средовое ядро». Это – внешнее по отношению к его телу, но полностью освоенное пространство, пребывание в котором доведено им до полного автоматизма. «Ядерная» структура среды практически перестает замечаться человеком. Поэтому, хотя это и зона его ближайшего взаимодействия с миром – те предметы, которые являются инструментами утилитарной деятельности и на которых – что важно! – в данный момент концентрируется его внимание, выпадают из средового контекста. Для занятого практической деятельностью человека среду создает все то, что воспринимается им «по касательной» – именно оно представляет для него источник «средовой атмосферы», «средового комфорта».
Если же удалить из среды все, что связано с обеспечением утилитарной деятельности или переместить это в разряд незадействованного человеком фона, то тогда она вся целиком станет представлять для него «средовой контекст» существования. Но как только его внимание из этой «размытой» в ощущении среды вновь выхватит какой-либо определенный, дискретно воспринимаемый объект и сфокусируется на нем – тот начинает переживаться им внеконтекстуально, средой же останется все остальное освоенное фоновое окружение. То, что для субъекта практически важно – оценивается слишком рационально, но то, что его сознание игнорирует, что «отдается на откуп» эмоции, рефлексии, ощущению – то и составляет ткань его предметно-пространственной среды.
По мере все большего удаления и отчуждения от «средового субъекта», располагаются ее периферийные слои. «Средовая периферия» продолжается до тех пор, пока уже не перестает быть средою данного субъекта, а плавно перетекает в неосвоенное им предметное окружение. Окончательная граница среды определяется «средовым субъектом» по ощущению как граница данного «места». «Место» – это не географический локус и не реально обозримое пространство, это – интуитивное переживание человеком определенной части неохватного окружения как «своего», видимого внутренним взором.
Например, в родном городе у человека может быть много изолированных друг от друга территорий, с которыми у него связаны эмоциональные переживания или они были им хорошо освоены в процессе жизни (он жил там или там жили его друзья, он там работал, учился и т. д.). Между этими участками пролегают неосвоенные, чужие для него пространства, а знакомые – связываются в несуществующий на реальной городской карте, но освоенный им архипелаг. Такое, живущее лишь в его воображении, предметно-пространственное образование – и есть тот город, который этот человек с полным правом может назвать «своим». Это и есть его «место» в реальном городе: границы его расплывчаты, зато субъективное переживание атмосферы «своего» города вполне определенно, эмоционально насыщено и уникально.
Итак, структура предметно-пространственной среды выстраивается концентрическими кругами, плавно переходящими друг в друга и меняющими свои свойства по мере не только пространственного, но и эмоционального удаления от освоившего среду человека:
«средовой субъект» (в т. ч. совокупный);
«средовое ядро»;
«средовая периферия»;
граница «места»;
неосвоенное предметное окружение.
49.Каковы место и роль мифологического (архаического) слоя сознания в мышлении современного человека? Каковы структурные особенности такого сознания?
Черты мифологического мышления:
1. Мир мифа всегда целостный. Вне мира ничего нет.
2. Для мифологического сознания всё, что существует одушевлено.
3. События мифа дискретны, так как миф повествует лишь о важных событиях, между ними нет логической связки, она домысливается. Мифологическое мышление не требует достоверности, доказательств.
4. Так как связи между явлениями домысливаются, всякое проявление внешнего мира обретает тайный смысл, мистичность.
5. Вещь в мифологическом сознании: единство пользы, красоты и сакрального смысла.
Мифологическое сознание с древних времен и до наших дней является необходимой составляющей социальной жизни и оказывает существенное влияние на современное общество. Сегодня мифологическое сознание, проникая на теоретический уровень общественного сознания, активно реализуется в так называемых социальных мифах. В настоящее время мифы можно обнаружить в коллективном бессознательном, где они являются основой архетипов; в политике, где они намеренно инкорпорируются в идеологический уровень политического сознания; в экономике, где на основе мифов строятся различные брэнды.
Современное мифологическое сознание представляется достаточно динамичным явлением, в нем происходят изменения его свойств исодержания, утрачивается присущая архаическому мифологическому сознанию целостность.
Архаическое мифологическое сознание является целостной системой, основными элементами которой выступают миф, ритуал (в их идеальной части), символ и вера, а в качестве основных свойств можно выделить синкретизм, принцип партиципации (сопричастия), стремление к противопоставлению сакральной и профанной сфер, коллективность и эмоциональность.
Если в архаическом мифологическом сознании вера была основана на непосредственном чувственном отражении реальности, то в современном мифологическом сознании в вере опосредованно рационально отражается реальность, и вера становится в сущности идеологической.
Символ является средством интерпретации результатов деятельности мифологического сознания - мифов и ритуалов, что способствует их научному пониманию. С развитием общества символы претерпевают изменения: они перестают напрямую передавать заложенное в них ранее значение и чаще всего представляют лишь коннотации традиционных символов на фоне появления новых.
Современное мифологическое сознание - это, прежде всего, мифология идей.
В сознании каждого современного человека, помимо сугубо рациональных структур, содержится также слой «индивидуального бессознательного». Его составляют забытые впечатления жизни, вытесненные из активной памяти страхи, вновь погрузившиеся в подсознание сновидения и т. п. Крупнейший швейцарский ученый К. Г. Юнг показал также, что на еще более глубоком уровне психика любого человека сохраняет структуры, общие для целого человеческого сообщества, объединенного общим культурным пространством, — структуры «коллективного бессознательного».
Наличием таких психических структур объясняется отмечаемая у большой группы людей общность представлений о том, что недопустимо, а что приветствуется, что стыдно, а что является благородным поступком.
К. Г. Юнг пока з ал, что все перечисленные ниже явления имеют под собой одну и ту же природу, один исконно образный символический язык человеческого воображения:
• дошедший до нас архаический миф;
• творческая фантазия современного художника;
• совершенно бессознательное фантазирование в сновидениях;
• метафорическое поэтическое высказывание.
Дизайн, то и дело основывается на мифах и символах. Будь то логотип или реклама — главная задача затронуть бессознательное, вызвать доверие и необходимые эмоции.
50. Параметры эстетически полноценной предметно-пространственной среды. Пересечение основных характеристик среды и различных уровней ее восприятия.
Наиболее наглядно и убедительно понятие предметно-пространственной среды можно определить через сопоставление его с понятием предметного окружения. Если «предметное окружение» — это весь рукотворный мир окружающих нас вещей, то «среда» — лишь тот фрагмент этого мира, который нами эмоционально и чувственно освоен.
Понятие «среда» чрезвычайно емко, оно включает в себя все свойства и факторы окружающего мира, которые создают «средовую атмосферу», воздействующую на чувства, мысли и ощущения погруженного в нее человека.
Известно, что древнейший человек свое представление о добре, надежности и порядке помещал в иное, необыденное, пространство, а затем строил свой мир по
образцу идеального, воплощенного в мифе.
Реальное поведение человека в предметно-пространственной среде зависит не
только от функционального назначения объекта и предоставляемых им возможностей. Это поведение направляется также и собственными привычками, установками, темпераментом, ожиданиями и потребностями самого человека, его
социокультурными ориентациями, личным отношением к «предлагаемым обстоятельствам»... то есть огромным количеством не всегда легко учитываемых обстоятельств.
Если проектировщику удастся совместить в едином экспозиционном решении исходящие от них требования, то он обеспечит «средовой» комфорт каждого из посетителей и всех вместе. Структура предметно-пространственной среды Предметно-пространственная среда имеет радиальную структуру, послойно распространяющуюс от центра.
Центром среды, ее средоточием и средообразующим фактором является человек,
осваивающий свое предметное окружение. Конкретная среда с определенны
ми свойствами может существовать, только будучи освоенной его деятельностью,
его сознанием, его эмоциями. Если в том же физическом пространстве находится
другой человек, наделенный другим характером восприятия, другими ожидания
ми, то параметры его среды будут отличными от параметров среды первого человека. С другой стороны, на месте каждого из них может оказаться и множество людей, объединенных на данный момент общими вкусами и предпочтениями. Тогда такое множество людей становится совокупным средовым субъектом, и среда для всех для них одна та же. Так, спортивный стадион — общая среда для всех болельщиков, объединенных одной страстью, но предметно-пространственная среда «высокого» кабинета оказывается совершенно разной для его хозяина и для посетителя. Так, в нашей культуре недопустима двусмысленность в восприятии, например, мемориального комплекса. Восприятие и возможное описание среды глубоко субъективны — и это составляет одно из ее родовых свойств.
Предметно-пространственная среда — сложная саморазвивающаяся система, катализатором развития которой выступает погруженный в нее человек. В познании среды у дизайнера есть только две возможности:
• объективно оценить ее системные свойства, отстранившись от нее, выйдя за
ее пределы (но тогда она перестанет существовать для него как среда);
• субъективно пережить ее изнутри, сделавшись субъектом среды или идентифицировав себя с ним (но тогда не претендовать на ее беспристрастное описание). Не случайно практически любое из встречающихся в специальной литературе описаний предметно-пространственной среды включает в себя набор оппозиций.
Это противопоставление:
• субъективного и объективного;
• внутреннего и внешнего;
• разумного и чувственного;
• нормативного и маргинального;
• вещи и знака и т. д.
51. Происхождение понятия «виртуальная реальность» и ее противопоставление. Современный взгляд на иерархию реальностей |
"Категория виртуальности разрабатывалась в схоластике (средневековье). Она была необходима для разрешения ключевых пробем схоластической философии.. идея виртуальности предлагает принципиально новую для европейской культуры парадигму мышления, в которой ухватывается сложность устройства мира, в отличии от идеи ньютоианской простоты, на которой зиждится современная европейская культура"( Н.А.Носов)
Миф массового сознания приписывает возникновение термина «виртуальная реальность» Жарону Ланье (или, на английский лад, Джарону Ланьеру), создателю фирмы, ставшей в начале 80-х годов прошлого века выпускать бытовые компьютеры, создающие виртуальные миры. Так в массовом сознании понятие «виртуал» тесно увязалось с компьютерными технологиями. Но это совершенно неверно! Ошибочное представление, что все родилось вместе с нами, лишает любое понятие присущей ему глубины, упрощают его культурный смысл, а это самый короткий путь к культивированию «усеченных» представлений, свойственных «масскульту». На самом деле понятию «виртуал», «виртуальная реальность» исполнилось теперь, по меньшей мере, шестнадцать веков.
Понятие «виртуал» возникло в IV веке в ранневизантийской философии. Василий Великий писал в своей книге «Беседы на шестиднев»: «Некая реальность может породить другую реальность, законы существования которой не будут сводиться к законам порождающей реальности». Исаак Сирин считал, что мир устроен по принципу «матрешки», то есть содержит в себе реальности разного иерархического уровня. Николай Кузанский допускал «виртуальное присутствие» дерева в семени, а семени в исходном Начале. Фома Аквинский видел в растениях вегетативную душу, в животных – соединение души вегетативной и души чувственной, а в человеке полагал виртуальное сосуществование души растительной, души животной и собственно человеческой, то есть мыслящей, души. При этом человек волен переходить внутри себя с одного душевного уровня на другой. Все это справедливо и для современных представлений о виртуале.
В дальнейшем категория виртуальности активно разрабатывалась в средневековье. Она была необходима для разрешения ключевых проблем схоластической философии, таких как: возможность сосуществования реальностей разного уровня, образование сложных вещей из простых, энергетическое обеспечение акта действия, соотношение потенциального и актуального. Средневековый логик Дунс Скотт придал термину «virtus» тот смысл, который и стал после него традиционным. Он использовал его для примирения в своей теории единой реальности концептуальных положений – и разнообразного, неупорядоченного опыта отдельного человека. Он утверждал, что реальная вещь содержит в себе свои качества виртуально, отдельно от эмпирических наблюдений. Многообразие качеств вещи складывается из ее восприятия множеством людей, воспользовавшихся для ее понимания своим субъективным опытом. Все качества вещи никогда не могут проявиться в ней одновременно, однако они постоянно в ней присутствуют. Значит, вещь виртуально содержит в себе весь набор своих свойств – иначе они не закрепились бы в ней как принадлежащие этой вещи.
В схоластике средневековья категория «виртуальное» жестко противопоставлялась категории «субстанциональное», где первое мыслилось как предельная божественная реальность, а второе – как нечто пассивное, неразвивающееся, существующее в собственном, не связанном с высшей реальностью, времени и пространстве. Такое, схоластическое, антитетическое, представление об устройстве мира оказывает влияние и на дальнейшее развитие философии европейского типа. Картина мира Нового времени (рационализированной эпохи Просвещения) пошла по пути еще большего упрощения (от жесткого диалога – к монологу): было провозглашено, что все сущее принадлежит реальности единого типа и может быть объяснено едиными «мировыми законами» – космическими или природными.
Философия ньютонианского типа основана на моноонтичном («моно» – один, «онтос» – сущее) сознании, для которого мир воспринимается с единственно возможной внешней позиции, он внеположен наблюдателю и являет собой объект для его размышлений. В таком миропонимании субъект всегда противопоставлен объекту, сущность – явлению, а потенциальное – актуальному.
В отличие от этого, в философии, утвердившейся в европейской культуре с 80-х годов прошлого века, развиваются представления о полионтичности бытия, складывается предположение, что существует множество типов разнородных объектов, принадлежащих одной и той же реальности. Иными словами, в соответствии с новыми представлениями, устройство всего сущего мыслится структурно более сложным, в нем допускается сосуществование реальностей разного уровня, обладающих различными, не сводимыми друг к другу, свойствами, утверждается множественность различных сущностей, составляющих одну реальность. Однако такое миропонимание представляется столь новым и необычным лишь в сравнении с картиной мира последних столетий классической европейской философии. На самом деле в ней возрождаются и находят свое развитие на современном уровне представления древних культур и те, которые всегда существовали за пределами миропонимания европейского типа.
Уже на уровне выяснения этимологии (первичных значениях) терминов «виртуальный», «виртуальная реальность», обнаруживается некий парадокс.
В отношении слова «реальность» все определенно:
«realis» означает «вещественный», «действенный», «существующий в действительности».
Что же касается ключевого понятия «virtus», то здесь существуют разные версии, например:
Латинская: virtualis – «возможный», «потенциальный», «мнимый», «такой, который может или должен появиться». Латинской слово «virtus» обозначает также понятия «истина», «доблесть», «добродетель», «сила», «энергия».
Английская: virtual – «фактический», «действительный», «являющийся чем-либо по существу, реально».
Отсюда понятие «виртуальная реальность» может означать и «возможная реальности», и «существующая реально, но не вещественно», но также и «истинная реальность», «энергетическая реальность» или «действительная реальность», «реальность по существу». В любом случае термин предполагает наличие иерархических уровней реальности.
Показательно, что следы этого термина прослеживаются в самых неожиданных смысловых контекстах. В старославянском глагол «верьти» означает «кипеть», «бурлить» (имеется в виду «кипение родника»), то есть корень vrt обозначает событие, творимое, порождаемое чьей-то активностью сейчас, в данный момент. Это соотносится с современными представлениям о виртуальной реальности, которая может существовать лишь актуально, «здесь и теперь», и исчезает сразу же после прекращения процесса порождения.
Далее: «…слово «врач» происходит от слова, имеющего в качестве корня vrt, то есть «врать». Врачом в древности называли колдуна, заклинателя, который мог врать, то есть заговаривать, лечить» .И это тоже соотносится с представлением о виртуальной реальности как измененной форме сознания, погружение в которую традиционно применяется при лечении (например, введением в гипнотическое состояние).
Глаголы с этим же корнем в буддизме, как и в европейской схоластической философии, обозначают мгновенную беспрепятственную актуализацию психического акта в психике йогина (приверженца практике йоги) или средневекового исихаста (христианского мыслителя, получающего высшее знание путем озарения).
Итак, не только само рассматриваемое явление существует столько, сколько существует осознающий мир разум, но и понятие «виртуал» появилось задолго до компьютерных технологий. Однако следует различать наше мнение о том, что какое-либо явление «виртуально», и действительно состоявшийся переход сознания на иной уровень реальности. Например, для древнего человека реальность мифов не являлась виртуальной, поскольку он осознавал ее как подлинную. Но исходя из теперешних наших представлений, мифы продуцировали виртуальные миры и можно сказать, что «в конечном счете, результатом виртуального развития является цивилизация людей, в которой мы живем». «…процессы мышления, изменения состояний сознания субъектов, возникновение и взаимодействие образов, символов, смыслов – это тоже бытие, но не материальное». Так что «цивилизация людей всегда была частично виртуальной. Феномен виртуальности не есть изобретение последнего времени, а, как и рефлексия, является одним из важных и неотъемлемых свойств развития». [И. Г. Корсунцев].
Мало того, психолог Чарльз Тарт утверждает, что даже привычное, самое обыденное наше мировосприятие – несет черты виртуальности. Он пишет: «Нормальное восприятие физической реальности не является восприятием реальности per se (как она есть), но, скорее, достаточно произвольная конструкция виртуальной реальности, но специфическая виртуальная реальность, имеющая в своем основании культурные презумпции. …Различные физические энергии, подобные свету, звуку, не воспринимаются непосредственно. Скорее они запускают электромеханические процессы в различных рецепторах... Конечный паттерн нервных событий, который мы осознали, и другие нервные события, ведущие к этому, есть наш персональный Процессуальный Симулятор Мира, наш механизм порождения ВР (виртуальной реальности. – И. Р.), в которой мы реально живем»
Так что переход от осознания мира как предметно-пространственной среды к осознанию его как среды «взаимодействия образов, символов, смыслов» – на самом деле не столь уж резок. Он более последователен, чем смена представлений о космосе, подчиняющемся единым законам механики – на системно-вероятностные представления, допускающие, что привычный вид за окном поставляется нашим персональным Процессуальным Симулятором Мира. Восприятие информации с дисплея компьютера, возможность интерактивного взаимодействия с ней, философия медиадизайна в еще большей степени отвечает новому отношению к миру. И это естественно, поскольку «нервная система сформирована так, что она приспособлена к взаимодействию не с самими предметами, а с их информационным кодом]. «Виртуальное пространство – как противоположность естественному телесному пространству – содержит информационный эквивалент вещи».Здесь вспоминается теория средневекового логика: даже материальная вещь со всеми присущими ей свойствами по сути своей – виртуальна.
Соотношение реальностей разного уровня
В литературе можно найти утверждение, что все типы западной философии можно реконструировать из двух мировоззренческих позиций: позиции монизма допускающей существование только одной реальности и позиции дуализма, допускающей существование реальностей двух видов.
Монистическое мировоззрение приводит к стремлению построить в пределе единую теорию, модель мира, в которой все связано со всем. Но, выстраивая такую теорию, человек сам выходит из этой модели и претендует на обладание божественным разумом. Это противоречит научной картине мира, принципу экстерриториальности наблюдателя, ибо если б такой разум был, то его тоже надо было бы включить в картину мира. Поэтому возникла бы необходимость обладать еще более сложным умом, который бы знал законы божественного разума первого порядка… и т. д.
Дуалистическое мировоззрение разрабатывалось в аристотелевской философской парадигме и у схоластов, здесь virtus, виртуальная реальность, противопоставляется субстанциональной реальности – пассивной, неразвивающейся, существующей во времени-пространстве, не связанном с высшей, виртуальной, реальностью. Такая позиция противоречит современным представлениям об иерархии реальностей, поскольку их всего две: божественная и субстанциональная, и характеристики каждой могут быть определены только через их противопоставление.
Плюралистическую, новую для европейской традиции, парадигму потребовалось принять, когда для объяснения многих явлений, обнаружившихся при современной технике наблюдений, стали нужны промежуточные уровни реальности. Развитие современной науки привело европейское мышление к новому пониманию мироустройства.
На формирование таких представлений воздействовали «радикальные изменения фундаментальной топологии того пространства, которое мы «закладываем» в теоретические основания всех наших концептуальных построений». На необходимость выработки новой фундаментальной модели мира указывают новейшие направления исследований: синергетика, общая теория систем, «а также все более явно фиксируемые прямым экспериментом теленомические детерминации (будущее состояние) биологических и даже физических объектов – в опытах с так называемым «отложенным» («отсроченным») выбором в современной лазерной оптике» . Это означает признание совершенно непривычных представлений о времени и причинности. Важнейшим понятием современной теоретической физики является понятие когерентности – требование «внутренней согласованности» объектов, смысл которого в классической оптике заключается в: «постоянстве разности фаз, приходящих в данную точку волновых процессов». В науках о живом исследователи постоянно сталкиваются «с объектами неколичественной и даже неметрической природы» и т. д.
С позиции полионтичности бытия нет ограничений на количество уровней в иерархии реальностей. Но конкретный человек способен одновременно воспринимать только два уровня: порождающий, называемый константным (постоянным, неизменным), и порожденный, который относительно первого уровня и будет для него виртуальным. Однако надо обратить внимание на относительность этих понятий («константный/виртуальный»). Дело в том, что как только воспринимающее сознание человека достаточно освоится на новом уровне и перестанет воспринимать его как необычное состояние – этот уровень станет для него постоянным и способным порождать новые реальности. Тогда сознание человека трансцендируется, то есть переместится на следующий, более высокий уровень… Виртуальная реальность может породить реальность следующего уровня, по отношению к которой сама станет реальностью константной.
Константная реальность уровня нашей обыденной жизни обладает материальной субстанцией. В отличие от нее виртуальная реальность – событийная. «Специфика виртуалистики относительно своих объектов заключается в том, что она рассматривает проявление объектов, существующих в одной реальности, в плоскости другой реальности. С точки зрения той реальности, в которой проявляется действие объекта, этот объект имеет статус события и не имеет субстанции» .
Порожденная реальность интерактивна: не смотря на ее статус порожденности, она взаимодействует с объектами порождающей реальности как равноправная.
Виртуальные объекты существуют не самостоятельно, а как момент взаимодействия других объектов. С окончанием процесса порождения виртуальные объекты исчезают (как, например, виртуальные частицы при физических реакциях). Однако временное существование виртуальных событий не делает их менее реальными, не снижает их статуса.
Виртуальная реальность существует, хотя и не субстанционально, но вполне реально, и в то же время – не потенциально, а актуально, то есть «здесь и теперь».
Природа виртуальной реальности может быть различной: психологической, социальной, техногенной и др. Но вне зависимости от способа порождения виртуальной реальности, ей присущи следующие специфические свойства:
Порожденность. Виртуальная реальность всегда продуцируется активностью какой-либо другой, внешней по отношению к ней, реальности;
Актуальность. Виртуальная реальность существует актуально, только «здесь и теперь», только пока активна порождающая ее реальность;
Автономность. В виртуальной реальности свое время, пространство и законы существования. Для человека, находящегося в виртуальной реальности, нет внеположного ей, то есть находящегося за ее пределами, прошлого или будущего;
Интерактивность. Виртуальная реальность может взаимодействовать со всеми другими реальностями, в том числе, и с порождающей ее, как онтологически независимая от них, обладающая своими, отличными от их, свойствами .
Профессор Н. А. Носов, психолог и философ, основатель и руководитель московского Центра виртуалистики, еще в 1991 году организованного при Институте человека Российской Академии наук, считает, что «Соотносительная значимость виртуального и константного в мире изменилась, то есть мир изменился. Мир стал виртуальным в том смысле, что виртуальное приобрело статус, которым невозможно пренебречь». В своем Манифесте виртуалистики он пишет: «Мир в целом, как и любая его часть, видится таким, в котором события порождаются, действуют, сами порождают другие события, умирают или включаются в другие события и т. д. – и все это реально существует. Мир получается многослойным, сложным, непостоянным, в котором все время порождаются и умирают его части и даже целые слои. И все это истинно, поскольку существует на собственных основаниях. И нет ограничений ни «вверх», ни «вниз», ни «вширь», ни «вглубь».
52. Основные характеристики виртуальной реальности. |
Особенности виртуальной психологии
Философия медиадизайна, соотносится с пониманием мира, как иерархии разнородных реальностей. Это не означает, что медиадизайнеры создают «виртуальные» объекты в привычном понимании этого слова, то есть что эти объекты обязательно вызывают у адресатов иллюзию существования в измененной реальности. Но уже пространство Интернет соответствует современной концепции полионтичного бытия, уже то, что сетевой продукт интерактивнен (а это – одно из основных его свойств), предполагает возможность взаимодействия реальностей разного уровня (порождающего и порожденного, антропогенного и техногенного). Интерактивность – это признание постулата единства мира, в котором снимается вопрос о первичной и истинной реальности. В так понимаемом мире все уровни реальности одинаково истинны, но каждая из них автономна, то есть внутренняя природа одной реальности не сводится к природе другой реальности, но обладает собственным временем, пространством и причинностью. Что уж говорить о таком дизайн-продукте, как компьютерная игра или виртуальное путешествие!
Исследователи отмечают необычность для «ординарного (по терминологии Ч. Тарта) сознания» тех впечатлений, которые получает человек, погруженный в виртуальные события. Приятие идеи полионтичности бытия (описанной в предыдущей главе), изменило картину мира, его культурный ландшафт. Вновь возвращаясь к мысли Мальдонадо (см. эпиграф), постараемся установить взаимосвязь между тем, как мы понимаем этот мир – и философией дизайна, создающего виртуальные миры, обретающие свое существование лишь в электронных сетях. Некоторые особенности, отмечаемые исследователями в переживании виртуальных событий, заставляют внимательнее присмотреться к характеру восприятия этого вида дизайнерского продукта его адресатами. Ведь если мы заинтересованно относились к ожиданиям потребителя вещи или «средового» объекта, созданных усилиями дизайнеров – то и теперь не можем игнорировать эту проблему.
Во второй части книги мы рассматривали особенности мифопоэтической картины мира и касались таких тем, как «архетип», «мифологема», «мифологическое мышление». Мы говорили, что эта форма сознания обладает яркой спецификой, которая и сегодня остается актуальной для современного человека. В частности, процесс освоения предметно-пространственной среды окрашен именно таким мировосприятием. Также мы обращали внимание на то, что мифопоэтическая картина мира не воспринималась породившим ее сознанием как фантом – люди ощущали, что они реально живут именно в таком мире. «Виртуалистика» – такой подход к миропониманию, такая парадигма, которая признает, что и образы наших фантазий и снов, и целостная система миропонимания древнего человека – не случайные и зыбкие феномены сознания (или его заблуждения, наваждения и ошибки), а такая же реальность, как и наше физическое бытие. Только это – реальность другого уровня и она обладает своими законами. Законы эти отличаются от тех, которые в качестве единственно возможных создала в своем развитии западная культура и через образование и традиции внедрила в наше сознание. Они непохожи на законы, которые сделались непререкаемой истиной наших представлений. Но – как уже упоминалось – сегодня время ассимиляции обыденным сознанием новейших научных представлений (хотя бы и в существенно упрощенной форме) значительно сократилось.
Дело в том, что философия с античных времен привыкла работать только с вечными и абсолютными сущностями, с тем, что уже «существует», но не с тем, что находится в становлении, то есть не с живыми системами. «Современная философия не имеет средств мыслить действующие вещи» – утверждает Н. А. Носов. Мир же виртуальной причинности близок законам причинности живого, законам развивающихся и самоорганизующихся систем. В чем же их особенность?
Если мы посмотри на мир неживой природы, то обнаружим, что это – «мир классического причинения, полного и даже довольно однозначного, иногда жестко-детерминированного определения будущего только «причинными тенями» прошлого…» Мир неживого, физический мир имеет свою причину в прошлом. А разве может быть иначе?! – спросим мы.
Но мир общественных явлений – «это уже детерминация преимущественно будущим: ведь почти все люди действуют в обществе в соответствии с какими-то своими представлениями – планами, проектами, идеалами, опираясь на прошлое лишь как на базу для формирования этих своих представлений о будущем». Так что социальный мир уже имеет основную свою причину – в будущем.
И только «мир живого – это как раз пограничная, промежуточная область «перехода» от одного главенствующего типа детерминации к другому… это – спонтанная внутренняя активность, постоянное направленное воздействие живых объектов на окружающие их предметы внешнего мира». И такую форму причинности сохраняет все живое от молекулы – до сложных органических форм: «Тигр, например, с колоссальной точностью «измеряет» и предвидит будущее движение свое и жертвы – в прыжке на спину последней». Если в природе органического мира – черпать свои причины из прошлого и из будущего – человек как сложнейший организм способен одновременно и помнить, и предвидеть, а это сильно меняет и его понимание мира, и его положение в этом мире.
Не только особая форма причинности, но и пространственно-временной континуум виртуальной реальности, типологически сходный с некогда угаданным мифологическим сознанием – позволяет погруженному в виртуальную реальность человеку свободно «путешествовать» во всех направлениях, поскольку убежденность в линейной однонаправленности времени перестает довлеть над ним и его поступками. Так же и иллюзорно трехмерное пространство игры или пространство глобальной информационной сети – иной природы, нежели окружающее нас физическое пространство (включающее в себя также и техническое приспособление для входа в сеть). Так пространство нашего сознания иное, чем пространство черепной коробки и не может быть измерено в тех же единицах, что и объем мозга. Виртуальные миры иной модальности, они выводят человеческие представления за рамки повседневного опыта.
Итак, по мнению исследователя, именно виртуалистика оказалась способной «мыслить действующие вещи», то есть объекты, находящиеся в движении, в становлении, поскольку виртуальная реальность – это мир причинности живого, мир сложных развивающихся самоорганизующихся систем. Дизайн, создающий виртуальные миры, проникает в еще неосвоенные пространства, где действуют особые законы движения. Естественно, основным инструментом такого проектирования становится время, понимаемое уже не как астрономическая длительность или условие биологического старения, а как неотъемлемая компонента художественного текста.
Как невозможно изъять время из музыкального произведения, кинофильма или театрального действа без того, чтобы они не превратились в «свернутый образ» эмоциональной памяти о них – так и из мультимедийного объекта неустраним его временной параметр. Но воспринимающий мультимедийный продукт отличается от слушателя законченного музыкального сочинения с заданной последовательностью интервалов в пространстве (соотношение звуков по их высоте и интенсивности) и времени (соотношение длительностей звуков) – скорее его можно уподобить участнику живой импровизации.
Потребитель талантливо выстроенного мультимедийного дизайн-продукта реально пребывает в особом пространстве-времени (что предполагает определенную длительность, протяженность). Он последовательно переживает коллизии предложенного ему сюжета, но условия этой последовательности волен определять самостоятельно. Он обретает предельную синтетичность восприятия и свободу передвижения в обозначенных автором пространственно-временных пределах.
Создание мультимедийного продукта, если отнестись к этому занятию с должной серьезностью – уникальное направление не только в дизайне, но и вообще в творчестве. Но это еще очень мало изученный творческий полигон.
В виртуалистике – научном подходе, рассматривающем виртуальные реальности не как эфемерные феномены сознания, но как действительно существующие реалии – психика человека видится совокупностью не сводимых друг к другу реальностей. «Реально человек осуществляет свою жизнь на одном из возможных уровней психических реальностей, относительно которой все остальные, в которых он может существовать, имеют статус виртуального существования, и любая из них в любой момент может развернуться в самостоятельную реальность или свернуться в элемент другой, константной реальности. Принятие идеи виртуальности приводит к тому, что психика рассматривается как сложное образование, т. е. включает в себя разнородные реальности, не сводимые не только к непсихическим реальностям (например, физиологической или социологической), но и друг к другу» .
В виртуальной психологии различаются такие понятия, как: гратуал, ингратуал и консуетал:
«Гратуал – ощущение пребывания в виртуальной реальности более высокого уровня, чем константная реальность». Это ощущение связано с весьма приятными переживаниями, оно подобно состоянию вдохновения, эйфории.
«Ингратуал – ощущение пребывания в виртуальной реальности более низкого уровня, чем константная реальность» . Это ощущение связано с тяжелыми переживаниями, оно подобно состоянию депрессии.
«Консуетал – ощущение… субъективной нормальности протекания осуществляемой человеком деятельности… Консуетал – это нормальное, естественное, нерефлексирующее состояние человека, такое же нормальное, как и ощущение давления атмосферного столба. Следует подчеркнуть, что консуетал – это не обязательно спокойное состояние». Консуетал противопоставляется виртуалу как состоянию сознания, воспринимаемому как необычное, измененное в ту или иную сторону.
Есть в нашем языке такие выражения: «приподнятое настроении» и «подавленное настроение». Употребляющие эти выражения не имеют в виду погружение человека в какую-то непривычную, отличную от обыденной, реальность. Однако он все же переживает некие измененные состояния (вдохновения, восторга, окрыленности, взлета и – подавленности, мрака, депрессии, увязания в проблемах). В. М. Розин выделяет три уровня погружения человека в измененное состояние сознания, то есть в виртуал, три типа самоощущения, при котором:
сохраняется понимание условности происходящего, как у зрителей фильма или спектакля, у читателя книги, созерцателя виртуальных событий техногенного происхождения и пр.;
появляется возможность действия в психическом плане, что реализуется у творческих личностей при глубоком погружении в фантазии, в реальности искусства и науки;
появляется возможность действия в реальном плане – реализуется у «гениев эзотеризма» и душевнобольных. К этому следует добавить и находящихся под воздействием психотропных средств.
Не будем рассматривать последний пункт, поскольку он связан или с экзотической ситуацией, или с клиническим отклонением. Но два предыдущих – вполне применимы как для описания ситуации восприятия объектов искусства (пункт первый), так и для определения состояния тех, кто эти объекты создает (пункт второй). Значит, не отдавая себе в этом отчета, все мы довольно часто попадаем в виртуальную реальность. Пусть не слишком ярко-выраженную, не столь «невероятную», какая рисуется нам при обращении к технически «продвинутым» компьютерным играм и т. п. Разумеется, это происходило всегда, но теперь вдохновение мы можем назвать гратуалом, а подавленность – ингратуалом. Дело, конечно, не в словах, а в том, что, называя эти состояния так, мы вводим их в контекст новых представлений о мироустройстве. А это позволяет нам понять, проследив в заостренной форме, что именно переживают и создатели, и потребители дизайн-продукта, когда продукт этот создается для жизни в электронной среде с такой целью, чтобы завлечь в свои «сети» наше сознание.
В течение длительного времени человеческая культура развивалась как культура текстовая. Дело даже не в устной или письменной традиции, уникальных или тиражированных книгах, о чем шла речь в предыдущей главе. Любая из этих форм – в основе своей текстовая. А тексты, как известно, воспринимаются левополушарным сознанием, ответственным за усвоение последовательных цепочек смыслов. В последнее время, в эпоху развития массмедиа, необычайно возросло количество информации, для усвоения которой востребуются правополушарные структуры мозга, воспринимающие целостные визуальные образы, а также синтетическое единство текстовых, зрительных и музыкальных сообщений. Пропорции заметно сместились в указанную сторону, и это – прямой вызов профессиональному мышлению дизайнера, совмещающему в себе как традиционное логическое мышление, так и более архаическое образное, ставшее в каких-то новых своих формах – суперсовременным.
53.Восемь свойств виртуального события в восприятии его человеческим сознанием. Особенности каждого из этих свойств. |
В течение длительного времени человеческая культура развивалась как культура текстовая. Дело даже не в устной или письменной традиции, уникальных или тиражированных книгах, о чем шла речь в предыдущей главе. Любая из этих форм – в основе своей текстовая. А тексты, как известно, воспринимаются левополушарным сознанием, ответственным за усвоение последовательных цепочек смыслов. В последнее время, в эпоху развития массмедиа, необычайно возросло количество информации, для усвоения которой востребуются правополушарные структуры мозга, воспринимающие целостные визуальные образы, а также синтетическое единство текстовых, зрительных и музыкальных сообщений. Пропорции заметно сместились в указанную сторону, и это – прямой вызов профессиональному мышлению дизайнера, совмещающему в себе как традиционное логическое мышление, так и более архаическое образное, ставшее в каких-то новых своих формах – суперсовременным.
Как уже говорилось, то, что на одном уровне реальности было объектом, обладающим субстанцией, может быть рассмотрено на другом уровне, где действие этого объекта утрачивает свою субстанциональную природу и обретает статус события. По аналогии с этим, говоря о предметно-пространственной среде, мы обращали внимание на то, что вещь как структурная единица проектирования уступила место поведенческой ситуации, которая включила ее в себя и собою поглотила.
Между понятиями «виртуальное событие» и «поведенческая ситуация» по сути расстояние меньшее, чем между понятиями «ситуация» и «вещь». Прежде всего, и событие, и ситуация имеют процессуальную природу и разворачиваются во времени. Различие состоит в том, что при «средовом» подходе пространство-время (хронотоп) хоть и переживается эмоционально, рационально же – «средовой субъект» хронометрирует свое поведение по специальному прибору и соотносит его с трехмерным физическим пространством. Переживание предметно-пространственной среды, как уже говорилось, можно рассматривать в качестве промежуточной ступени к пониманию процессов, происходящих в виртуале. Будучи участником виртуального события (пункт второй, по В. М. Розину), человек полностью пребывает на соответствующем уровне реальности, особый хронотоп которого на этот период воспринимается им как единственно возможный. Ведь, находясь на этом уровне погружения, человек переживает все не как порождение фантазии, а именно как реальность.
Глубокое проникновение в виртуальную психологию не входит в нашу задачу, да и вряд ли возможно для непрофессионалов в этой области. Но получить представление о том, как измененное состояние сознание влияет на переживание происходящего, для нашей цели необходимо. А цель наша: представить себе особенности восприятия продукта медиадизайна его адресатом, который обычно пребывает, в лучшем случае, на первом уровне погружения, но, хоть и в ослабленной форме, переживает те же состояния. Чем такие состояния живее и острее – тем, значит, сильнее воздействие объекта, больше его суггестивность, тем, следовательно, удачнее дизайнерское решение, заразившее потребителя ощущениями и эмоциями автора. В идеале – автор продукта медиадизайна должен вывести воспринимающего этот продукт адресата на свой уровень погружения в виртуал. Это накладывает на автора особую нравственную ответственность, в этом же сказывается и профессионализм его, включающий не только технологические навыки и знания композиционных приемов, но и личностные качества, и способность работать в гратуале (то есть, если на романтический, а не психологический лад – находясь в «приподнятом» состоянии вдохновения).
Путем анализа переживаний, рассказанных разными людьми о своем глубоком виртуальном опыте, исследователи выявили восемь основных свойств виртуального события, это:
непривыкаемость;
спонтанность;
фрагментарность;
объективированность;
измененность статуса телесности;
измененность статуса сознания;
измененность статуса личности;
измененность статуса воли.
Каждую из этих позиций для наших целей следует рассмотреть внимательнее.
Непривыкаемость виртуала заключается в следующем: сколько бы человек не погружался в виртуальную реальность, он никогда не привыкает к своему измененному состоянию, чем бы это состояние ни было вызвано – компьютерной игрой, гипнозом или сосредоточением по методу йогов. Вернувшись на обычный, константный, уровень реальности он осознает свой опыт как необычный, яркий, уникальный. Теоретически, если бы этот человек воспринял свой виртуальный опыт как обычный, ординарный – тот стал бы для него константным, а человек мог бы переместиться на следующий уровень реальности (что, по свидетельству знающих людей, и происходит в некоторых духовных практиках).
Спонтанность виртуала заключается в неожиданности его возникновения именно сейчас. Субъект не фиксирует момента «перехода» из состояния консуетала (обычного состояния, оцениваемого как нормальное) в виртуал (необычное, измененное состояние) и обратно. «Нет временной границы довиртуального и виртуального режима, как, впрочем, и нет грани виртуального и после виртуального режима» [42, с. 422]. Человек либо еще «здесь», либо уже «там» (как если бы он засыпал: если он думает, что засыпает – значит, он еще не спит, а если он уже уснул, то не думает, засыпает ли).
Фрагментарность виртуала заключается в особенностях построения в человеческом сознании виртуального образа. Замечено: когда человек, вернувшись в обычное, консуетальное, состояние, пытается рационально описать пережитое, он, говорит не о целостном самообразе, а фиксирует внимание на поведении отдельных фрагментов своего тела («рука потянулась» и т. п.). Хотя состояние виртуальной реальности переживалось всем его существом целиком, в восприятии сохраняется образ самостоятельного поведения отдельного фрагмента тела. Выражения такого типа как «ноги побежали» – характерны для особых средств художественной выразительности, называемых поэтическими тропами. Породившее их сознание – отголосок мифопоэтического мышления, при котором часть неотделима от целого в том смысле, что эта часть целое и представляет. По этому принципу строятся такие поэтические тропы как синекдохи, где эмоционально-значимая часть заменяет целое (обращение: «эй, ты, борода!»). Ничего удивительного, что в виртуале активизируется именно такое самоощущение, становясь из литературного приема весьма впечатляющей реальностью.
Объективированность виртуала заключается в том, что переживший его человек затем вспоминает себя не как активное действующее начало, а в качестве объекта воздействия каких-то внешних по отношению к нему сил. В виртуале он оказался чему-то подвластным: он говорит, что его «охватили» мысли, его «потянуло» туда-то и т. п. Возможно, древний человек именно так ощущал себя в мире, пронизанном неведомыми силами, которым был вынужден подчинялся, но для налаживания отношений с которыми он выработал сложную обрядовую практику. Возможно, позднее, с гордыней Ренессанса и сугубым позитивизмом эпохи Просвещения, человек, приобретя бесконечно много, что-то и утратил. И, может быть, попадая в виртуальную реальность, он возрождает в себе эту проникновенную чуткость в восприятии многоуровневого мира?
Измененность статуса телесности в виртуале связано с тем, что «меняется ощущение собственного тела и ощущение внешнего пространства» [там же, с. 419]. Характер изменений зависит от того, на более высокий или более низкий уровень реальности попадает человек. В гратуале (на более высоком уровне) «тело человека становится легким и приятным, а пространство, в котором человек действует, расширяется и переживается как привлекательное, аттрактивное» [там же]. В ингратуале же (на более низком уровне) происходит обратное: «тело становится чужим, неподвластным», а пространство становится «вязким, тяжелым и переживается как непривлекательное» [там же].
Измененность статуса сознания в виртуале также связано с тем, на какой, более высокий или более низкий, уровень реальности попадает человек. В гратуале «сфера деятельности человека расширяется – человек легко схватывает и перерабатывает весь необходимый объем информации… Находясь в гратуале, говорят о предельной ясности сознания, об обострении чувства прогнозирования и т. п.». Обратный эффект производит погружение в ингратуал: «информация схватывается и перерабатывается с трудом… Находясь в ингратуале, говорят о сознании сузившемся, темном; мышление становится при этом вязким, внимание – рассеянным и т. п.» [там же].
Измененность статуса личности в виртуале связано с изменением самооценки человека. «В гратуале при сверхэффективной и чрезвычайно легко текущей деятельности у человека появляется чувство своего могущества: возможность преодолеть все препятствия, свернуть горы, ощущение окрыленности. В ингратуале же при очень трудно текущей деятельности у человека появляется чувство своего бессилия, ощущение подавленности» [там же].
Измененность статуса воли в виртуале говорит о различной роли волевых усилий в деятельности человека. «В гратуале деятельность совершается без волевых усилий со стороны человека, как бы самопроизвольно, кажется текущей сама собой, деятельность становится самодействующей силой. В ингратуале, напротив, осуществление деятельности возможно только с помощью напряженных волевых усилий, деятельность «не идет», «сопротивляется», тело человека «не слушается» его и т. п.» [там же].
Таковы выводы из профессиональных наблюдений за людьми, пережившими глубокий и полный виртуальный опыт. Но для нас важно отметить следующее: исходя из сказанного, возможность для адресата медиадизайна качественно воспринять предоставленную ему информацию целиком зависит от того, на каком уровне реальности он с ней встретится.
Если автор создавал свое произведение, не покидая консуетала, то по отношению к напряженной энергетике виртуала (среди прочих значений, virtus – это энергия) продукт его творчества, похоже, может оказаться заряженным негативными ощущениями ингратуала. Собственно, это несильно отличается от обычной художественной практики: встретившись через произведение, два обыденных сознания вряд ли найдут, что сообщить друг другу. Но если даже произведение и создавалась автором в гратуале, но он не сумел спровоцировать адресата покинуть собственный консуетал, то по отношению к энергетике посыла, тот все равно, скорее всего, ощутит состояние ингратуала – творческого «заражения» не произойдет.
Если же автор, создавая свое произведение, сам испытывал соответствующее приподнятое (на следующий уровень виртуальной реальности) состояние и способен поднять до своего уровня воспринимающее сознание – то потребитель переживет свой гратуал вместе с ним. Продукт медиадизайна обязан «выдернуть» воспринимающее сознание из состояния обыденности, и тогда…
Тогда адресат информации ощутит приятную легкость, сознание его прояснится и станет предугадывать смысл и содержание дальнейшей информации (ведь он – живая система, а для нее характерно сочетание способностей памяти и прогнозирования). Это облегчит процесс понимания и запоминания, создаст у потребителя эмоциональный потенциал сделать больше, чем это возможно для него в обычном состоянии. Это мобилизует его волю, которая станет действовать без особых усилий с его стороны, как бы самопроизвольно, но в нужном для него направлении. Короче говоря, адресат продукта медиадизайна встретится с его автором на одном, поднявшемся над обыденным, уровне реальности. И это станет для него впечатляющим событием, оставившим заметный и приятный след. Можно себе представить, каким потенциалом могли бы обладать обучающие программы, созданные по таким принципам.
54. Систематизация знаков (по Ч.Пирсу). Связь каждого типа знаков с замещаемым ими объектом или явлением. |
Любая вещь, помимо того, что в форме ее заключена информация о способе ее использования, наделяется в человеческом обществе еще и знаковой функцией, то есть она обозначает нечто сверх своего утилитарного назначения. Электронная среда окончательно «растворяет» в себе материальную вещь, превращая ее в знак самой себя, и медиадизайнер оперирует уже не материальными объектами, а только их знаками. Вещь обращается знаком, а поскольку для восприятия виртуальной реальности справедливы многие законы мифопоэтического постижения мира, такому восприятию присуще также и свойство диффузности (см. главу 5). В соответствии с этим свойством, предмет неотделим от знака этого предмета, о чем живо свидетельствует восприятие реальности при погружении в компьютерные игры. Но знаки могут быть разной природы и разного свойства.
Начало науке о знаках было положено американским ученым Чарльзом Пирсом (1839–1914). Заслуга Пирса в том, что он дал характеристику основных семиотических понятий, таких как знак, значение знака, отношения между знаками и т. д., создал наиболее полную, практически исчерпывающую классификацию знаков на три типа, и, кроме того, выделил эту область исследования в отдельную науку, названную им семиотикой. Семиотику он определил как науку о природе и свойствах знаков и знаковых процессах. Человек же как создатель и интерпретатор знака занимает в теории Пирса ведущую позицию.
Согласно Ч. Пирсу, любой знак имеет три основные характеристики:
1) материальную оболочку;
2) обозначаемый объект;
3) правила интерпретации, устанавливаемые человеком. Исходя из этих трех характеристик, сформулировано множество определений знака. В частности, знак определяется как двусторонний материальный факт, замещающий какой-либо предмет и используемый человеком для восприятия, хранения, передачи и преобразования информации об обозначаемом предмете. Знак отражает и преломляет другую действительность, поэтому он может или искажать эту действительность, или быть ей верным, или воспринимать ее под определенным углом зрения и т. д.
Классификация знака по Пирсу:
1) Иконический знак. В переводе с греческого «икона» – это образ. Для иконических знаков характерно определенное подобие изображения объекту. Например, реалистический рисунок, фотография — изображение объекта с высокой степенью подобия. Чем больше абстракции, тем меньше иконизма. Это знаки, изображающие материальный объект в любой степени его достоверности или стилизации. Эти знаки могут называться также миметическими, от слова «мимезис», на принципе мимезиса, подражания основано, например, лицедейство, актерская профессия;
2) Знак-индекс. Знаки-индексы характеризуются смежностью знака и объекта. Между ними есть определенная причинно-следственная связь, которая проявляется в виде общей характеристики с объектом. Примерами знака-индекса служат: дым над лесом как знак костра, дыра от пули как знак выстрела, след на песке как след прошедшего человека. «С точки зрения семиотики перед нами как бы наименее интересный знак, поскольку он является кусочком самого объекта или реальным результатом его воздействия». Это – примеры природных, естественных индексов. К индексам следует отнести и условные обозначения, выработанные, например, в картографии – эти знаки мы читаем правильно, поскольку договорились понимать их именно так, то есть это конвенциональные знаки-индексы;
3) Символ — не имеет видимой связи между знаком и объектом. Символ конвенциален – люди договорились между собой о его трактовке. Ярким примером символизации могут служить слова естественного языка. Мы сегодня не знаем, почему рыба названа «рыбой», но это не мешает нам пользоваться этим словом. Simbolon (греч) – совпадение, слияние, соединение, встреча двух начал. Прочтение знаков этого рода настолько зависит от их контекста, что вне своего смыслового окружения они не могут быть рассмотрены.
Правильное понимание знака-символа требует погружения воспринимающего сознания в контекст породившей его культуры. Способность адекватно воспринимать сообщения, составленные на символическом языке, предполагает наличие конвенции (соглашения) внутри культуры по поводу их значения. Но, в отличие от знаков-индексов, употребление которых при расплывчатости значения утрачивает смысл – символы наделены всей органичностью и неисчерпаемостью художественных образов (см. главу 2).
Не всякий знак способен стать символом. Лингвист XIX века Фердинанд де Соссюр предложил следующий пример: весы – знак, содержащий идею равновесия, а телега ее не содержит; поэтому весы могут быть символом справедливости, а телега – нет.
В культурном опыте каждого региона складывается интуитивно данный подход к истолкованию значимых для нее символов.
Один из самых очевидных примеров: черный цвет в европейской культуре – цвет траура, «чернее дела» – это плохие дела и т. д. Но в китайской традиции цвет горя и траура – белый, который в привычных для нас представлениях имеет смысл чистоты и невинности, это – цвет подвенечного наряда.
Единство основного набора доминирующих символов определяет национальные и ареальные границы культуры.
Культурный ареал не всегда совпадает с границами национальных культур: в каких-то соседствующих культурах символы могут истолковываться схожим образом и, напротив, внутри национальных культур могут создаваться ареалы их более узкого употребления внутри различающихся субкультурных сообществ.
Символы не принадлежат определенному историческому срезу, а пронизывают этот срез по вертикали из прошлого в будущее. Символ – это посланец далеких эпох, поскольку память символа всегда древнее, чем память его несимволического окружения. В разные эпохи символ реализуется в вариантах, но сам он инвариантен и узнаваем во все времена. Он изменяется от контекста к контексту, но и сам изменяет этот контекст. Через посредство символов осуществляется механизм единства и преемственности культуры, они осуществляют ее память, и обеспечивают ее аутентичность (соответствие самой себе). Так что же это такое – символ?
Вот как определяет это понятие и отношение символа к символизируемому им объекту замечательный исследователь культуры С. С. Аверинцев [1, стб. 831]:
Символ вещи больше самой вещи, шире ее по охвату принадлежащих ему значений. Под символом понимается знак, который обозначает такую обширную область значений, что употребление его включает некоторый культурно-смысловой регистр, большую культурно-смысловую область. Представление о символе связано с идеей некоторого содержания, которое, в свою очередь, служит выражением другого, как правило, более ценного содержания. В символе содержание лишь мерцает сквозь выражение, а выражение лишь намекает на содержание.
Символ может иметь и более узкое, вещественное значение (например, императорский орел – знак «римского легиона», «римская слава», идея империи и т. д.). Смысл символа колеблется между вещественным и собственно символическим значением. Он – не обозначает некое определенное содержание, а указывает на смысловое поле, определенную культурную традицию, область общей памяти. Символы – это сигналы общей памяти.
Из сказанного ясно, что знаки-символы, не имея прямой наглядной связи с отображаемым в них, обладают огромным эмоциональным потенциалом и всегда с успехом использовались во всех видах искусства, в том числе, и в изобразительном творчестве. Смысл символа, как и смысл художественного образа, неисчерпаем. Символ нельзя «перевести» на язык однозначной логический формулы – при такой процедуре он из многомерного сделается плоским и перестанет быть символом. Смысл символа можно только пояснить, соотнеся его с другими, родственными ему, постепенно приводя к большей рационализации, но никогда не достигая однозначности.
Символы различаются на:
простые – элементарные геометрические формы, имеющие графическую природу; основные цветовые оппозиции;
сложные – изображения, составленные из графически усложненных форм.
Простые символы имеют глубоко архаичную природу, хотя всегда сохраняют свою культурную активность. Они обладают сложной многоплановостью и многозначностью содержания. Чем создаваемый образ более универсален – тем ближе к нему простые символы и их сочетания.
Известный ученый и религиозный мыслитель Отец Павел Флоренский выделил восемнадцать элементарных символов, это:
точка, вертикальная линия, наклонная линия, горизонтальная линия, их пересечение, угол, треугольник, четырехугольник, крест, пятиугольник, шестиугольник, семиугольник, восьмиугольник, круг (окружность), диск (поверхность круга), сфера, яйцо, валюта.
Сложные символы имеют более определенное, фиксированное и однолинейное значение. Чем более частный, локальный характер несет создаваемый образ, тем ближе к нему сложные символы.
К сложным относятся такие, как «Амур», «лавровый венок», «Медный всадник» и т. п. символы.
Эмблемы, аллегории и роль знака в культурах разного типа
Символ определенным образом связан с эмблемой и аллегорией.
Будучи выражены в определенной материальной структуре, символы превращаются в эмблемы. Символ становится значением этой эмблемы, ее символическим смыслом. Эмблема же имеет характер высказывания на символическом языке.
Эмблемами занимается наука геральдика. Традиционно эмблема (герб) имела изобразительные (графические) и словесные элементы. Символический рисунок плюс символический текст (девиз) составляли сложную систему смысловых отношений. Это была поэтика загадок, сознательно затрудняющая прочтение. Создавалась также «легенда» об эмблеме (о гербе) – описание, поясняющее ее смысл. Умение прочесть смысл эмблемы всегда выступало знаком посвященности.
Так понимали и по таким правилам создавали эмблему во времена, когда каждый сюзерен имел свой родовой герб. Сегодня этому же набору признаков практически полностью соответствует набор базовых элементов так называемого «цвето-графического фирменного стиля». В числе таких элементов:
изобразительный компонент: фирменный знак в виде стилизованного изображения или же логотип, выполняющий функцию знака, символика фирменных цветов и написания шрифтов (ср. символический рисунок);
словесный компонент – слоган (ср. символический текст, девиз);
сопроводительный текст – руководство по использованию фирменного стиля (ср. описание, «легенда»).
Роль сюзерена в этом случае выполняет некая компания, желающая хорошо выглядеть и процветать на потребительском рынке (ср. турнире).
Тенденция к однозначности выражения и восприятия в крайних своих формах, при использовании весьма усложненных символов и эмблематических композиций – реализуется в аллегориях. XVIII век, называемый «эпохой Просвещения», характеризуется признанием безусловной ценности рационального рассудка. Любые двусмысленности в эту пору представляются несовместимыми со строгими правилами торжествующего разума и, соответственно, одному выражению всегда должно соответствовать одно строго фиксированное содержание. В эту эпоху восторжествовал рационалистический аллегоризм. Аллегории связываются с обозначаемыми ими предметами или явлениями столь же условно, но – единственно возможным образом. Поэтому аллегорические изображения дешифруются без того эмоционального напряжения, которым сопровождается постижение символов: восприятие аллегорий – это просто смысловая игра. При всех достижениях в области обретения позитивных знаний, в эту эпоху происходит определенное упрощение языка культуры.
Такое усеченное, сугубо позитивистское восприятие мира для целостного человека не проходит безнаказанно. Ю. М. Лотман отмечает, что в тот же период нагнетается стрессовое состояние общества, компенсирующее недостающие эмоции: нормой жизни становятся всевозможные шествия, маневры, массовые казни и прочие символические ритуалы, сопровождавшиеся накалом страстей.
Ю. М. Лотман показал [32], что в истории культуры чередуются:
символические культуры, порождающие в своих глубинах новые символы;
несимволические культуры, ориентированные исключительно на рацио.
Периодически складываются культуры, сами себя осмысливающие как символические.
Например, рубеж XIX-XX веков – художественное течение «символизм».
Такие культуры создают свою мифологию, поскольку миф – это те же символы, сложившиеся в сюжет. Через этот миф символическая культура по-своему осмысливает художественный опыт и на основе этого опыта создает новую реальность, новый мир.
Однако, символика, то есть стремление понять себя через символы, свойственна и тем культурам, которые определяют себя как «прозаические», рациональные.
Например, чин, орден – для гоголевской эпохи тоже символы. Такие культуры осмысливают жизненный материал, структурируют его и этим тоже обнаруживают свою мифогенность. Эмоциональную недостаточность несимволические культуры, как уже говорилось, компенсируют за счет массовых социальных выплесков.
Следует подчеркнуть, что значение символических и несимволических культур для символов несимметрично: символические культуры созидают новые символы, тогда как несимволические не могут их уничтожить. В несимволическую эпоху символы лишь временно перестают «прочитываться» как многозначные, а воспринимаются только как знаки, за которыми нет обширной культурной памяти. Символы способны «пережидать» такие периоды, как бы впадая в анабиоз.
Можно предположить, что сейчас, в эпоху, преодолевшую недавнее торжество логоцентризма, складывается культура, которую можно охарактеризовать скорее как символическую – с ее пониманием неоднозначности основ мироустройства и допущением существования многоуровневой реальности, со стремлением к универсализму и гуманитаризации так называемых «точных» знаний, со своей мифологией киберпространства, своими «чудесами» и своими «демонами».
В такой культурной ситуации дизайнер выступает посредником между различными уровнями реальности, между той, что привычна нашему обыденному сознанию и той, парадигма которой еще только вызревает в недрах современной культуры. «Проблематизация дизайна… подсказывает нам место в мире будущего: это место Медиума, который корректирует процесс превращения вещей в знаки, а знаков в вещи и, благодаря своему положению человека «in the middle», хранит себя в иллюзорном мире компьютерной культуры»
Общепринятое свойство знака – его способность замещать, что-либо обозначая. Качества замещения и обозначения свойственны любому знаку. Другое существенное его свойство – коммуникативность, т. е. способность выступать средством связи между людьми, средством общения. Это естественное и неотъемлемое свойство знака, поскольку знак должен быть передан какому-либо лицу от какого-либо лица, иначе он лишается своей знаковости. Например, любое рекламное сообщение выступает средством связи производителя данного продукта с потенциальным потребителем; светофор на перекрестке «общается» с пешеходами и водителями, предписывая и тем, и другим соблюдать определенные правила езды и перехода; денежные знаки являются средством и способом общения покупателя с продавцом и т. д. Из коммуникативной функции знака вытекает, что знак социален, т. е. существует только в обществе и для общества.
Важнейшим свойством знака является его способность обобщать, так как знаки обычно отражают наиболее существенную сторону предмета. Например, графическое обобщенное изображение ножа и вилки на автотрассе означает, что поблизости есть столовая и здесь можно к ней свернуть. Нет никакой необходимости подробно рисовать супы, блинчики и шашлык, чтобы проезжающий получил информацию о столовой. То же можно сказать об изображении кренделя при входе в булочную (в булочной продаются не только кренделя) или сапога – над обувной мастерской (где чинят не только сапоги).
Композиция. Цветоведение. Основы визуального восприятия.
Теория и технологии дизайн проектирования.
55.Синтез, ансамбль, целостность. Гармония как неотъемлемая составляющая творческого продукта в дизайне. |
Всякий раз при зрительном восприятии информации мы в первую очередь пытаемся обнаружить сходства и различия в том, что видим. Благодаря этому мы можем не только выделить объекты в образе, но и понять их значения. Например, различие в цвете подразумевает, что перед нами два различных объекта (или две различные части одно объекта), различие в масштабах подразумевает, что один объект расположен дальше от нас, чем другой, и так далее. После того, как наш мозг проанализирует отношения между объектами, мы собираем все части образа воедино и понимаем, что мы видим.
Этот процесс ускоряется еще больше благодаря нашей способности визуально группировать объекты. Когда мы наблюдаем лист травы, окружающие объекты, имеющие такой же цвет, форму, размер и положение, группируются вместе, создавая общее понятие лужайки. При этом мы не сравниваем все травинки друг с другом.
Эти принципы восприятия дают нам ключ к пониманию того, как мы группируем информацию. Например, как объекты, которые расположены рядом друг с другом, группируются нами по признаку близости, также как одинаковые объекты группируются нами по признаку схожести.
Синтез - метод научного исследования, состоящий в познании объекта исследования в единстве и взаимосвязи его частей.
греч.Synthesis - соединение
Ансамбль - в театральном искусстве - стройность и согласованность игры актеров. Ансамбль:
- служит раскрытию замысла сценического произведения, осуществлению стилевого единства спектакля;
- возникает в результате длительной работы актеров в одном коллективе или в результате их принадлежности к одной художественной школе.
фр.Ensemble – согласованность
Симметрия, пропорции, ритм, контраст, цельность, равновесие – все эти категории образуют гармонию. Гармония осуществляет связь между всеми элементами вашей работы, примиряет форму и содержание, предмет и пространство, сводя все воедино.
Гармония – это эстетическая категория и нельзя ее сводить только к понятиям пропорции, симметрии и другим. Гармония включает в себя личностное, ваше отношение к своей работе. Если вам неприятно то, что вы создаете – это так или иначе отразиться в том, что вы создаете.
Ваш зритель не разбирается в принципах дизайна, не знает его основ, но он без труда уловит дисгармонию в вашей работе, не нужно быть дизайнером или художником, чтобы интуитивно почувствовать, что работа дизайнера или художника оставляет желать лучшего.
56.Стиль и стилистическое единство в произведениях дизайна. Сравнительный анализ понятий: стиль, стайлинг, стилизация в дизайне. |
Что такое стиль? Это система визуальных элементов, призванная обеспечить цельность восприятия данной странички или всего сайта. Исходя из разработанной вами концепции и контента (текстового материала, готовых иллюстраций и рисунков), вы выбираете шрифты, цвет фона, способ обработки картинок, коллажей, иконок и пр. элементов. Ну а затем просто стараетесь придерживаться выбранной вами манеры исполнения элементов по ходу создания и развития сайта.
Да, еще... Стиль призван обеспечить хотя бы минимальную уникальность вашего сайта. Вы можете использовать распространенный набор цветов, шрифтов, стандартные приемы оформления... Но что-то свое, особенное в нем должно маленько быть. Иначе среди нескольких миллионов страничек вашу могут и не заметить.
Стиль — набор признаков, характеризующих искусство определённого времени, направления или индивидуальную манеру творца.
Стайлинг "дизайн" - художественная адаптация уже готовой формы (интерьер-экстерьер) или улучшение технической части объекта. В России развивается довольно причудливо :) Средовой дизайн - дизайн архитектурной среды (интерьер-экстерьер), услуги дизайнеров, проектирующих художественные праздники, выставки и тд. Стилизация в дизайне интегрировать определенный стиль в стиль своей работы.
СТИЛИЗАЦИЯ — термин применяют в нескольких значениях. Первое, наиболее известное значение — намеренное, сознательное использование художником форм, способов и приемов формообразования, ранее созданных в истории искусства. Такую стилизацию можно назвать целостной и локализовать ее на уровне творческого метода.
57 Приемы и методы создания композиционной целостности проекта. Принципы соподчиненности (иерархия) элементов в дизайнерском проектировании (композиции). Главное, второстепенное
Главный элемент композиции обычно сразу бросается в глаза, именно ему, главному, служат все другие, второстепенные элементы, оттеняя, выделяя или направляя взгляд при рассматривании произведения. Это смысловой центр композиции. Ни в коем случае понятие центра композиции не связано только с геометрическим центром картины. Хотя, как правило, композиционный центр располагается в активной, центральной ее части. Смещение относительно геометрического центра придает порой произведению большую внутреннюю напряженность и пластическую выразительность в раскрытии художественного образа и темы.
Центр, фокус композиции, ее главный элемент может быть и на ближнем, и на дальнем, может оказаться на периферии или в прямом смысле в середине картины – это не важно, главное что второстепенные элементы «играют короля», они подводят взгляд к кульминации изображения, в свою очередь соподчиняясь между собой.
Принцип соподчиненности требует соотношения:* объемов* цветов* тона* формы* передачи ритма и пластики* движения или состояния относительного покоя* симметрии или асимметрии
Сбалансированная иерархия помогает не только задать порядок восприятия информации, но также помогает объединять разрозненные элементы страницы в единое целое. Так создается ощущение порядка и баланса. Без визуальной иерархии каждый элемент страницы тянет внимание пользователя на себя, и в результате - внимание рассеивается. Во всех иерархиях лишь несколько определенных элементов должны стоять во главе; остальные же должны составлять их свиту. Положение того или иного элемента в иерархии зависит от того, что именно вы хотите сказать.
Любая веб-страница состоит из множества отдельных элементов, например, меню навигации (несколько уровней), контактная информация, блок поиска, логотипы, пиктограмма корзинки с покупками и так далее. По тому, как страница визуально компонована, можно сказать о сходстве и различии ее элементов, а также об их относительной важности. Поняв относительную важность каждого из элементов страницы, посетители вашего сайта затем переносят это понимание на все страницы сайта.
58 Особенности восприятия цвета. Сумеречное и дневное зрение. Константность восприятия цвета. Эмоциональное воздействие цвета на человека.
Виды воздействия цвета
На вопрос о том, каково воздействие синего цвета, физик ответит, что синий цвет активен, а художник скажет, что синий цвет пассивен. Физик под воздействием синего цвета понимает в первую очередь воздействие электромагнитного излучения. Он исходит из физических законов. Художник же, говоря о цвете, имеет в виду ощущения и восприятия, т.е. психологические последствия цветового впечатления.
С точки зрения психологии все обстоит иначе. Тут мы признаем за желтым и красным цветом большую активность, так, как они возбуждают.
Для физика, само собой разумеется, что более темные поверхности превращают больше световой энергии в тепловую, чем светлые. Психологически же ощущение тепла вызывают как раз светлые цвета, например желтый и оранжевый. Эмоциональное воздействие цвета возрастает с увеличением длины волны, а физическое – с возрастанием частоты.
Ассоциации и впечатления, вызываемые цветом
Характер и выразительность цвета может значительно меняться в зависимости от различных ассоциаций.
Эмоциональную характеристику того или иного цвета пытались объяснить характером трех предметов, на которых мы обычно воспринимаем этот цвет. Таким образом, эмоциональная характеристика цвета объяснялась ассоциациями.
Цвет может благодаря ассоциациям приобретать определенную эмоциональную окраску или вызывать те или иные чувства в зависимости от опыта, приобретенного человеком при восприятии цвета и соответствующего предмета. Но отнюдь не каждая эмоциональная характеристика зависит от ассоциаций.
Установить здесь какие-либо общие правила невозможного, но с некоторой степенью вероятности можно предположить, что красный цвет ассоциируется с огнем и кровью, желтый – с солнцем, синий – с водой и далью, зеленый – с лугами и лесом.
Цветовая символика
Для целого ряда свойств цвета не существует специальных наименований. Поэтому мы заимствуем понятия из музыки или из других областей.
Цвет имеет “тон”, а до следующего цветового тона – “степень”. Некоторые цвета “насыщены”. Красный цвет “кричащий”, он “горит”, “светится”, бывает “огненным” и может что-то “подчеркивать”, “акцентировать”. Мы более точно определяем его как “кроваво-красный, огненно-красный, ярко-красный”.
Зеленый цвет может быть “зеленый, как трава”, или же “ядовито-зеленый”. Белый бывает “белый, как полотно”, “белый, как снег”. Черный – “черный, как ворон”, “черный, как смоль”.
Когда сочетание цветов “говорит о чем-то” или “имеет акцент”, когда о нем говорят, что оно “живое” или “мертвое”, то это, конечно, понимается в переносном смысле.
Цвет - свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого излучения.
Цвет - одно из свойств объектов материального мира, воспринимаемое как осознанное зрительное ощущение. Тот или иной цвет "присваивается" человеком объектам в процессе их зрительного восприятия. Восприятие цвета может частично меняться в зависимости от психофизиологического состояния наблюдателя, например усиливаться в опасных ситуациях, уменьшаться при усталости.
59. Основные характеристики хроматических цветов. Цветовой тон, насыщенность, светлота, яркость. |
Хроматические цвета — это те цвета и их оттенки, которые мы различаем в спектре (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый). Хроматический цвет определяется тремя физическими понятиями: цветовой тон, насыщенность и яркость.
Цветовой тон характеризуется преобладающей длиной волны. Так, например, преобладающая длина волны фиолетового цвета равна 390—450 нанометров, синего — 450—480, голубого — 480—510, зеленого— 510—550, желтого — 550—585, оранжевого — 585—620, красного — 620—800. Любой хроматический цвет может быть отнесён к какому-либо определённому спектральному цвету. Оттенки, сходные с одним и тем же цветом спектра (но различающиеся, например, насыщенностью и яркостью), принадлежат к одному и тому же тону. При изменении тона, к примеру, синего цвета в зеленую сторону спектра он сменяется голубым, в обратную — фиолетовым.
Насыщенность — степень отличия хроматического цвета от равного по светлоте ахроматического.
Под насыщенностью понимают степень разбавления данного цвета белым. Чем больше разбавления цвета белым, тем менее насыщенным он становится. Например, синий цвет имеет насыщенность 20 %. Это значит, что он состоит из 20 % синего и 80 % белого. Два оттенка одного тона могут различаться степенью блёклости. Например, при уменьшении насыщенности синий цвет приближается к серому.
Цветовой тон и насыщенность являются качественными характеристиками цвета. Количественную сторону цвета определяет светлота (яркость), т. е. количество света, отражаемого данной окрашенной поверхностью. Степень близости цвета к белому называют светлотой. Поэтому, кроме цветового тона и насыщенности, каждая окрашенная поверхность должна характеризоваться величиной коэффициента отражения.
Наконец, третьей характеристикой считают яркость хроматического цвета, зависящую от падающего на отраженный объект общего светового потока. Отсюда вывод: цвета можно измерять по трем основным характеристикам — цветовому тону, насыщенности и яркости. Первые две характеристики цвета (цветовой тон и насыщенность) являются его качественными параметрами, а третья (яркость) — количественным параметром.
60 Цвет как функция красоты. Характер и выразительность цвета. Круг естественных цветов по Гете. Цветовой круг. Ассоциативное и символическое значение теплых и холодных цветов.
Классическая эстетика в качестве основного критерия красоты цвета рассматривала его чистоту. Наиболее отчетливо это выражено у Гегеля «Цвета в живописи должны быть не серыми и нечистыми, а ясными, определенными и простыми в себе».
Требование чистоты цвета как непременное условие его красоты выдвинул в своей эстетике И. Кант, считавший, что цвет сам по себе, как и звук, может быть красивым лишь в том случае, если он чист. Смешанные цвета он считал нечистыми и, следовательно, некрасивыми.
Чистота цвета как критерий его эстетической оценки, несомненно, в основе своей объективна. Но следует внести уточнение. Чистым мы обычно называем цвет, который не содержит примеси черного, то есть является максимально насыщенным. Но не всегда такой цвет представляется красивым, ибо одновременно с насыщенностью повышается и яркость, и цвет становится «жестким», режущим глаз. Отсюда следует, что всякая примесь постороннего цвета, незначительное затемнение делают цвет более спокойным, мягким, что рассматривается обычно и как более красивое. Таким образом, чистота обеспечивает красоту цвета при условии, если она не абсолютна или, говоря точнее, не чрезмерна.
Иттен «Субъективное и объективное в искусстве»
Жёлтый – самый светлый, уплотнённый белый, выражает материю, силы света, самый чистый, жёлтый символизирует разум, познания, правду.
Жёлтый тусклый, в который вошёл чёрный, символизирует сомнение, недоверие, предательство, измену, двуличие.
Красный – имеет мощную яркость, нелегко затемнить, имеет наибольшее количество модуляций по теплохолодности. В этом цвете – жар физической силы, подчинён крови. Более холодный красный – более духовный.
Синий – пассивен, сжат, сосредоточен на себе, подчинён нервам. Представляет большую силу, подобную силе природы земной, когда в темноте, тишине скрыто всё зарождается и растёт, увертюра перед взрывом. Если на весы положить красный и синий, то чаши весов будут уравновешены.
В. Кандинский «О духовном в искусстве» (на съезде художников)
Жёлтый – пронзает глаз, тяготеет к белому, перепрыгивает границы, рассеивается в окружении, устремлён к человеку.
Синий – погружает глаз, тяготеет к чёрному, стремится к собственному центру.
Зелёный – две противоположные силы, встречаясь, парализуют друг друга, и возникает состояние неподвижности, т.е. цвет не имеет движения вверх – вниз, вперёд – назад, вправо – влево.
Белый – безмолвие с возможностью рождения.
Чёрный – безмолвие без возможности рождения.
Серый – неподвижность.
«Символика цвета. На протяжении веков различные цвета использовались для выражения определенных качеств и понятий. Багряный цвет у древних олицетворял силу и власть; на Дальнем Востоке в таком же значении употреблялся желтый цвет. В странах английского языка синий цвет связывается с понятием мудрости, истины, а красный означает мужественность. Краскам придается духовное и религиозное значение» (Н. В. Серов).
Во времена Шекспира языком цветовой символики можно было выразить много вещей, особенно в области чувств. Большой выбор цветов связан с религиозными и мифологическими воззрениями:
белый – святость, чистота, невинность, божественный свет,
серый – смирение,
коричневый – отречение от мира,
тускло-желтый – ревность, предательство,
зеленый – триумф жизни, надежда на воскресение,
синий – цвет небес, божественной любви и истины,
фиолетовый – страдание, покаяние.
Цвет мог трактоваться как символ, намекающий на то, что порой не может быть показано, будь то образ Бога, высших космических сил или потустороннего бытия.
Белый цвет символизировал чистоту; черный – несчастье, горе, траур; красный – радость, красоту, любовь, а с другой стороны – вражду, месть, войну.
Ассоциация (лат. associatio соединение) – в психологии – связь, образующаяся. при определённых условиях между двумя или более психическими образованиями (ощущениями, восприятиями, представлениями, идеями и т.п.)
Словарь иностранных слов. – 14-е изд., - М.: Рус. С 48 яз., 1987. – 608 с.
Символика (символ – опознавательный знак) – выражение идей, понятий или чувств с помощью условных знаков или предметов (символов); совокупность символов.
Словарь иностранных слов. – 14-е изд., - М.: Рус. С 48 яз., 1987. – 608 с.
Цвет - средство невербальной (неязыковой) коммуникации. Цвет вызывает физическую и эмоциональную реакцию.
Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов. Индивидуальное восприятие цвета определяется его спектральным составом, а также цветовым и яркостным контрастом c окружающими источниками света, а также несветящимися объектами. Очень важны такие явления, как метамерия; особенности человеческого глаза, и психики.
Характер и выразительность цвета может значительно меняться в зависимости от различных ассоциаций. Каждый из нас пытается объяснить эмоциональную характеристику того или иного цвета характером предметов, на которых мы обычно воспринимаем этот цвет. Это очень индивидуальная особенность каждого человека, зависящая от приобретенного им опыта. Установить здесь какие-либо правила очень трудно, но с некоторой вероятностью можно предположить, что красный цвет ассоциируется с огнем и кровью, желтый - с солнцем, синий - с небом, водой, зеленый - с лесом, лугами. Наконец, существует такое понятие как слышание цвета, т.е. каждому цвету сопоставляется музыкальная нота. Это явление невозможно точно описать для каждого конкретного цвета, но не найдется ни одного человека, который стал бы искать впечатления от ярко-желтого на басовых клавишах рояля.
Круг естественных цветов по Гете Обозначение цветов и их название в цветовом круге: К - красный; КО - красно-оранжевый; О - оранжевый; Ж - желтый; ЖЗ - желто-зеленый; 3 - зеленый; СЗ - сине-зеленый; С - синий; СФ -сине-фиолетовый; Ф - фиолетовый; КФ - красно-фиолетовый. Все существующие в полиграфии краски (краски, а не цвета!) образуются путем смешения всевозможных количественных сочетаний трех основных красок - красной (пурпурной), синей (голубой) и желтой. Исходя из этого, в круге представлены: треугольником СКЖ - первичные (основные) цвета, перевернутым треугольником ФОЗ - смешанные цвета первою порядка, а точками на окружности СЗ, СФ, КФ и т.д. - смешанные цвета второго порядка.
Значение холодных цветов: холодные цвета оказывают успокаивающее действие. С одной стороны спектра расположены холодные, безличные цвета. Расположенные с другой стороны холодные цвета успокаивают и облагораживают. К холодным цветам относятся синий (голубой), зеленый, нейтральные белые цвета, серый и серебряный.
Позитивные свойства холодных цветов:
Значение голубого (синего) цвета - сила, важность, умиротворенность, интеллект
Значение зеленого цвета - рост, здоровье, природа, гармония
Значение теплых цветов: теплые цвета передают самые различные эмоции и состояния - от оптимизма до жестокости и агрессии. Тепло красного, желтого, розового или оранжевого цветов может вызвать возбуждение или даже гнев. К теплым цветам также иногда относят нейтральные оттенки черного и коричневый.
Позитивные свойства теплых цветов:
Значение красного цвета - любовь, страсть, тепло, радость, мощь
Значение розового цвета - сладость, удовольствие, игривость, романтика, утонченность
Значение желтого цвета - эйфория, радость, оптимизм, память
Значение золотого цвета - роскошь, излишество, яркость, традиции
Значение оранжевого цвета - энергия, перемены, здоровье
Значение цветов, полученных смешением теплого и холодного цвета: цвета, имеющие свойства как теплых, так и холодных цветов, могут как успокаивать, так и возбуждать. Это цвета, полученные в результате соединения таких цветов, как синий и красный или синий и желтый. Хотя зеленый принято считать холодным цветом, он скорее относится именно к категории смешанных цветов.
Позитивные свойства смешанных цветов:
Значение фиолетового цвета - аристократизм, величественность, романтика, духовность
Значение лавандового цвета - харизма, элегантность, утонченность, женственность
Значение зеленого цвета - рост, здоровье, природа, гармония
Значение бирюзового цвета - женственность, утонченность, ретро
Значение бежевого цвета - консерватизм, умиротворенность
Значение нейтральных цветов: нейтральные цвета помогают привлечь внимание к другим, более насыщенным цветам, или служат для того, чтобы немного приглушить слишком яркие цвета. Черный, коричневый, бежевый и золотой считаются в некоторой степени теплыми цветами, а белый, цвет слоновой кости, серебряный и серый - цветами холодными. Значение нейтральных цветов более динамично и размыто, поэтому они универсальны.
Позитивные свойства нейтральных цветов:
Значение черного цвета - консерватизм, таинственность, утонченность
Значение серого цвета - официоз, консерватизм, утонченность
Значение серебряного цвета - тонкость, гламур, роскошь
Значение белого цвета - чистота, невинность, мягкость, женственность
Значение цвета словной кости - безмятежность, удовольствие, сдержанная элегантность
Значение коричневого цвета - основательность, простота, дружелюбие
Значение бежевого цвета - консерватизм, умиротворенность
61.Образ в художественной деятельности. Специфика художественных эмоций. Создание образа в произведениях дизайнера Филиппа Старка. |
Художественный образ представляет собой не что иное, как особое средство, употребляемое не для копирования объектов, а для кодирования обобщенных переживаний. Цель же такого кодирования состоит в передаче эмоциональной информации от художника к зрителю, т.е. достижении сопереживания. Последнее же невозможно без перехода от мысленного кода, каким является художественный образ, пока он фигурирует только в воображении художника, к его материальному воплощению. Только тогда образ становится особой реальностью, отличной как от чисто объективной реальности произвольных умозрительных образований в нашем сознании. Код должен быть доступен зрителю, иначе декодирование окажется невозможным.
РЕЗЮМЕ
Художественный образ представляет собой некоторый символ. Следовательно, совпадение образа и знака является характерной чертой художественного образа.
Значением художественного символа является переживание (чувство, эмоция). Следовательно, художественный символ иррациональным (эмоциональным) значением.
Художественные символы способны обобщать эмоции.
Между художественным образом и выражаемой им эмоцией существует строго однозначная связь. Мы не можем выразить переживания, закодированные в “Тайной вечере” Леонардо да Винчи или “Гернике” Пикассо иным способом, чем тот, который дают эти картины. Изменение кода в данном случае приводит к существенной модификации самих переживаний. Таким образом, специфика художественных символов состоит в том, что они не конвенциональны, а уникальны.
Критерием истинности (подлинности) художественного образа будет соответствие (адекватность) выражаемого им переживания переживанию самого художника. Другими словами, степень “истинности” художественного образа определяется степенью его выразительности. Следовательно, истинность в искусстве означает искренность, а заблуждение – фальшь.
Французский дизайнер с мировым именем Филипп Старк. Плодотворно работающий дизайнер и архитектор, Филипп Старк коснулся, кажется, всех областей, которые охватывают эти виды искусства. Знаменитый французский мастер поставил перед собой цель изменить нашу повседневную жизнь и дать нам возможность насладиться изобретениями прошлого. Старк - дизайнер-универсал. Он создает частные дома и интерьеры, проектирует стулья, столы, диваны, зубные щетки, соковыжималки и ножи, разрабатывает дизайн телевизоров, машин. Каждый созданный им объект - отдельная история, своеобразное философское эссе. Филипп Старк совершил революцию в дизайне, изменил отношение к вещам, провозглашенное еще функционалистами в 20-х годах. Участники школы "Баухауз" и русские конструктивисты на пике индустриализации общества провозгласили приоритет функции, когда красота трактовалась как "осознанная необходимость", то есть функциональный аскетизм, доведенный до совершенства. Старк со свойственным французам шармом вернул повседневным предметам эмоциональный и гедонистический смысл, а искусству - игровую сущность. Он заново открыл миру, что дизайном можно восхищаться, а вещи могут радовать, что искусство существует ради искусства, а красота - ради красоты. На вопрос: "Почему вы делаете вещи, которые красивы, но не функциональны? С помощью вашей соковыжималки неудобно получать сок из фруктов". Старк ответил, что он сделал соковыжималку не для того, чтобы показать, как давить сок. Это прекрасный повод поговорить, например, о любви. Артистичной натуре дизайнера мало одной идеи, абстрактного художественного образа. Он ориентируется не только на сам объект (как вещь в себе), но и на восприятие этого объекта, провоцируя ответную реакцию зрителя и потребителя. Это касается и дизайнерских творений Старка, и его поведения, поступков, озвученных мыслей. Старк выступает за "доступность" дизайна, показывая, что его вещи может если не купить, то увидеть каждый.
Специфика эмоциональных переживаний состоит в том, что:
Они отражают не объект, а отношение субъекта к объекту;
Это отношение имеет не познавательный, а оценочный характер;
Эти оценки не являются логическим следствием каких-нибудь утилитарных или моральных принципов.
Итак, специфика чувства состоит в том, что это иррациональный субъективный образ. Иррациональность означает, что его содержание:
Не выразимо адекватным образом на рациональном языке;
Не определяется непосредственно содержанием объекта, который его вызывает;
Может приводить к алогичным (неразумным, непредсказуемым, бессмысленным) поступкам (руководство «эмоциями», а не здравым смыслом»).
62 Оптические иллюзии, причины возникновения. Иллюзии, связанные с анатомическими особенностями зрительной системы.
Оптической иллюзией называется несоответствующее действительности представление видимого явления или предмета вследствие особенностей строения нашего зрительного аппарата. Попросту говоря - это неверное представление реальности. (Важно отметить, что здесь не имеются в виду несоответствия, которые связаны с индивидуальными нарушениями зрения, например, с дальтонизмом.)
Почему возникают оптические иллюзии? Зрительный аппарат человека - сложно устроенная система со вполне определенным пределом функциональных возможностей. В нее входят: глаза, нервные клетки, по которым сигнал передается от глаза к мозгу, и часть мозга, отвечающая за зрительное восприятие. В связи с этим выделяются три основные причины иллюзии:
1) наши глаза так воспринимают идущий от предмета свет, что в мозг приходит ошибочная информация;
2) при нарушении передачи информационных сигналов по нервам происходят сбои, что опять же приводит к ошибочному восприятию;
3) мозг не всегда правильно реагирует на сигналы, приходящие от глаз.
Часто оптические иллюзии возникают сразу по двум причинам: являются результатом специфической работы глаза и ошибочного преобразования сигнала мозгом.
По происхождению оптические иллюзии делятся на три вида:
естественные, или созданные природой (например, мираж);
искусственные, или придуманные человеком (например, фокус “левитация” или, как говорят в народе, “летающая дама”;
смешанные, то есть естественные иллюзии, воссозданные человеком (например, известные иллюзионные картинки, модель миража).
Слепое пятно. Наличие слепого пятна на сетчатой оболочке глаза впервые открыл в 1668 г. известный французский физик Э.Мариотт. Дело в том, что сетчатая оболочка глаза в том месте, где в глаз входит зрительный нерв, не имеет светочувствительных окончаний нервных волокон. Поэтому изображения предметов, приходящихся на это место сетчатки, не передаются в мозг и, следовательно, не воспринимаются. Слепое пятно, казалось бы, должно мешать нам видеть весь предмет, но в обычных условиях мы этого не замечаем. Во-первых, потому что изображения предметов, приходящиеся на слепое пятно в одном глазу, в другом проектируются не на слепое пятно; во-вторых, потому, что выпадающие части предмета невольно заменяются образами соседних частей или фона окружающими этот предмет.
Иррадиация (оптика)- явление зрительного восприятия человеком трехмерных объектов и плоских фигур на контрастном фоне, при котором происходит оптический обман зрения, заключенный в том, что наблюдаемый предмет кажется иного размера, нежели его истинный размер.
Такая иллюзия возникает при наблюдении светлых фигур или объектов на черном фоне и наоборот. Подобная иллюзия возникает из-за несовершенства анализа человеческим головным мозгом информации, полученной от органов зрения.
Астигматизмом глаза называется его дефект, обусловленный обычно несферической - (торической) формой роговой оболочки и иногда несферической формой поверхностей хрусталика.
Астигматизм- искажение изображения оптической системой, связанное с тем, что преломление (или отражение) лучей в различных сечениях проходящего светового пучка неодинаково.
63 Общие закономерности восприятия. Иллюзии, связанные с особенностями «деятельности» мозга.
Восприятие - это отражение предметов и явлений в совокупности их свойств и частей при непосредственном воздействии их на органы чувств. Оно включает в себя прошлый опыт человека в виде представлений и знаний.
Среди общих закономерностей восприятия обычно отмечают:
принцип избирательности: означает преимущественное выделение объекта из общего фона, при этом фон выполняет функцию системы отсчета, относительно которой оцениваются другие качества воспринимаемого предмета как фигуры. Избирательность восприятия сопровождается его центрацией - субъективным расширением зоны фокуса внимания и сжатием периферийной зоны.
принцип целостности: это отражение предмета в качестве устойчивой совокупности элементов, даже если отдельные ее части в данных условиях не наблюдаются.
принцип константности (устойчивости): это независимость отражения объективных качеств предметов (величины, формы, цвета) от изменения условий их восприятия – освещенности, расстояния,угла зрения.
Иллюзии, связанные с особенностями «деятельности» мозга.
Константность и зрительные искажения.
Иллюзии размера
Рисунок Геренга (иллюзия веера)
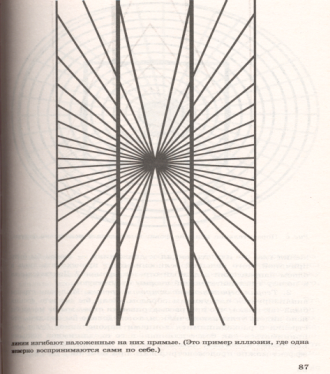
иллюзия Понцо.
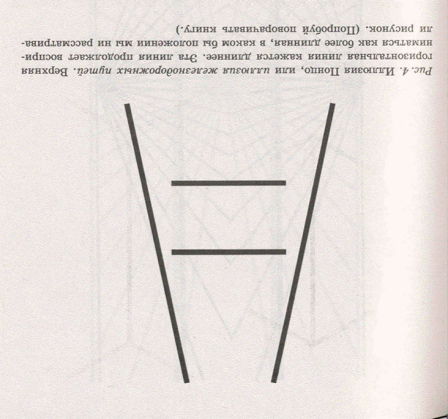
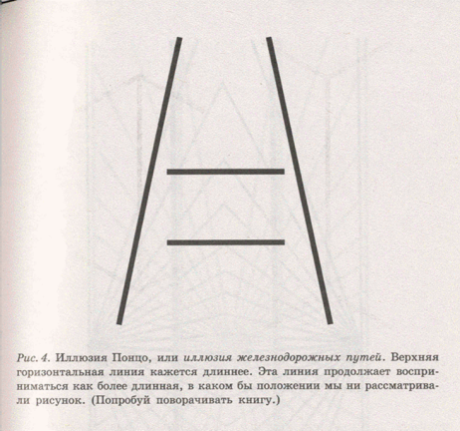
Иллюзия Мюллера-Лайера (иллюзия стрелы).
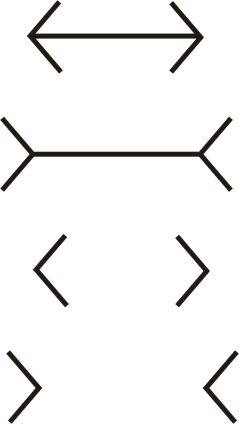
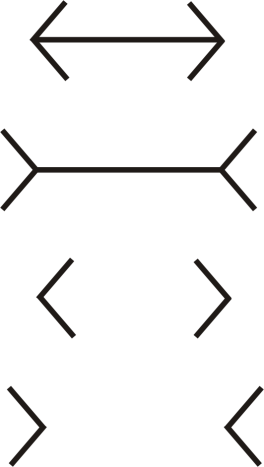
Иллюзия Эббингауза (сопоставление).
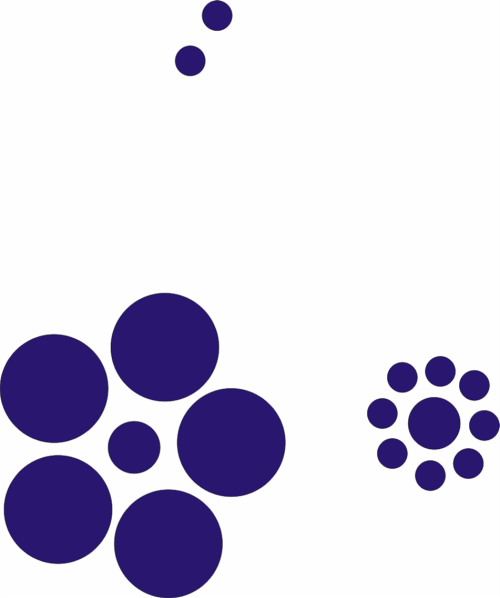
![]()
С. Томпсона (уподобление одной части фигуры другой).
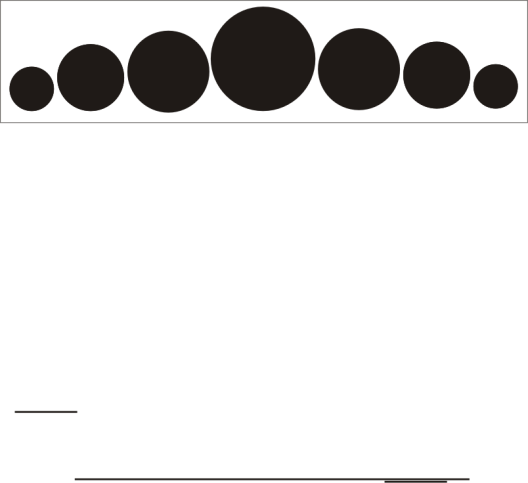
Иллюзия У. Эренштейна
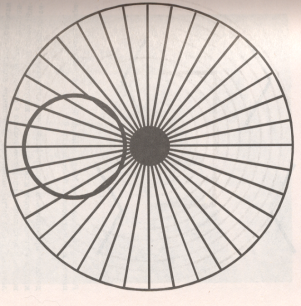
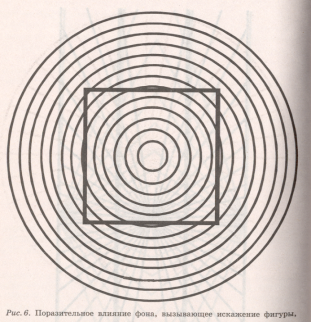
Иллюзия выравнивания или направления
Иллюзия Поггендорфа.
