
- •Оглавление
- •Глава 1. Сценография театрализованного зрелища в условиях ландшафта 14
- •Глава 2. Естественные средства ландшафта в сценографии художественного зрелища 67
- •Глава 3. Предметы игровой сценографии в ландшафтном действе 104
- •Глава 4. Зрительный образ театрализованного ландшафтного представления 123
- •Глава 5. Предварительная работа над оформлением ландшафтного представления 184
- •Введение
- •Глава 1. Сценография театрализованного зрелища в условиях ландшафта
- •1. 1. Сценография ландшафтного театрализованного зрелища как художественное явление
- •1. 2. Пространство как выразительное средство сценографии ландшафтного театра. Зарождение ландшафтной сценографии
- •1. 3. Пространство театрализованных представлений средневековья и Возрождения
- •1. 4. Пространство театрализованных празднеств эпохи французской буржуазной революции (1789 – 1794 гг.)
- •1. 5. Пространство народных празднеств России
- •1. 5. 3. Торжественные парады в России
- •Массовые празднества и представления в советской России
- •1. 7. Сценографическое пространство Питера Брука
- •Краткий итог по главе 1
- •Вопросы для самоконтроля
- •Задания для творческих работ и подготовки к коллоквиуму
- •Литература к главе 1
- •Глава 2. Естественные средства ландшафта в сценографии художественного зрелища
- •2. 1. Роль ландшафта в формировании зрительного образа театрализованного представления
- •2. 2. Памятники театральной архитектуры в художественном зрелище
- •3. Историческая архитектура в художественном зрелище
- •2. 4. Прибрежный ландшафт и вода в массовом действе
- •2. 5. Огонь и свет в ландшафтном зрелище
- •Краткий итог по главе 2
- •Вопросы для самоконтроля
- •Задания для подготовки к коллоквиуму
- •Литература к главе 2
- •Глава 3. Предметы игровой сценографии в ландшафтном действе
- •3.1. Особенности формирования зрительного образа предметами игровой сценографии
- •3 . 2. Истоки вещественных сценографических персонажей
- •3.3. Игра с вещами
- •Краткий итог по главе 3
- •Вопросы для самоконтроля
- •Вопросы для подготовки к коллоквиуму
- •Литература к главе 3
- •Глава 4. Зрительный образ театрализованного ландшафтного представления
- •4. 1. Поиск образа идеи
- •4. 2. Функции образного решения в зрелище
- •4. 3. Перевод образа идеи в образ ландшафтного зрелища
- •4. 3. 1. Художественный прием образного решения действа
- •4. 3. 2. Жанрово-стилевое единство образного решения действа
- •Краткий итог по главе 4
- •Вопросы для самоконтроля
- •Задания для подготовки к коллоквиуму
- •Литература к главе 4
- •Глава 5. Предварительная работа над оформлением ландшафтного представления
- •5.1. Схемы
- •5.2. Эскизы
- •5. 3. План зрелищного пространства
- •5. 4. Объемно-пространственный макет ландшафтного зрелища
- •Краткий итог по главе 5
- •Вопросы для самоконтроля
- •Задания для творческих работ и подготовки к коллоквиуму
- •Литература к главе 5
- •Заключение
- •Список литературы
- •Словарь специальных терминов
- •Приложения
- •8 Сентября
- •9 Сентября
- •12 Сентября
- •14 Сентября
- •16 Сентября
4. 3. 2. Жанрово-стилевое единство образного решения действа
Жанрово-стилевое единство является фактором, организующим разрозненные элементы праздничного события (текст сценария, действия актеров, пространство зрелища) в художественную целостность. Стиль формируют «ключи»: цветовой, конструктивный, изобразительный, декоративный, шрифтовой и др. (Ключ – снаряд или орудие для доступа к чему-либо (30, с. 324).
Рассмотрим более подробно каждый из них.
4.3.2.1. Цветовой ключ подразумевает цветотональное решение всех зрительно воспринимаемых элементов празднества. Он может быть продиктован как вкусовыми пристрастиями художника, так и средой ландшафта, в котором превалируют те или иные цветовые оттенки. Можно выделить несколько существенных факторов, определяющих палитру красок. Таковы: цветовая гамма окружающей природной среды; цветовая символика, принятая в геральдике либо в ритуальном акте, психическая реакция человека на цветовое окружение.
Как известно, солнечный свет может быть разложен на семь цветов с различной яркостью. Свет от низкотемпературных источников имеет красный оттенок, он слабее по интенсивности и беднее по спектральному составу. В нем почти отсутствуют голубые, синие, фиолетовые лучи. С понижением температуры свет желтеет, потом приобретает оранжевый и красный оттенок. Так, постепенно меняется, например, цвет затухающего костра.
Цвет лучей высокотемпературных источников выглядит «холоднее»: так, зрительно пламя электросварки кажется нам относительно «холоднее» цвета затухающих углей костра или пламени тусклой свечи.
Нередко для создания особой атмосферы в зрелищном действе используют цветное освещение, получаемое с помощью окрашенных в различные цвета и оттенки светофильтров. Это значительно влияет на колорит природного окружения.
Колорит в основе своей предполагает такую гармонию цветов, которая выражает некое оптическое целое. При колористическом решении цвет, разделяя свою выразительную и изобразительную роль с другими средствами художественной выразительности, несколько стушевывается, становится менее заметным и броским.
Три основные характеристики цвета – цветовой тон, светлота и насыщенность – могут выступать между собой в различных связях, образуя различные гармоничные сочетания:
1) сочетания, построенные на подобии по цветовому тону, но разные по светлоте и насыщенности;
2) сочетания, построенные на подобии по светлоте, но различные по цветовому тону и насыщенности;
3) сочетания, построенные на подобии по насыщенности, но различные по цветовому тону и светлоте;
4) сочетания, построенные на подобии по цветовому тону и светлоте, но различные по насыщенности;
5) сочетания, построенные на подобии по светлоте и насыщенности, но различные по цветовому тону;
6) сочетания, построенные на различии цветов по всем трем параметрам.
Цветовые решения требуют специальных знаний и подчас посильны лишь специалистам-колористам (требуют консультаций у них).
Не следует путать колорит с «монохромностью». Признаки монохромности (одноцветности) присущи старинным фотографиям, черно-белому кино, старинной гравюре. В случаях театрализации, когда есть необходимость усилить в зрелище ощущение воспоминаний, либо хроник, можно использовать цветность одного порядка, прибегнув лишь к серым, либо палевым оттенкам (цветовая гамма пожелтевших от времени фотографий). Колорит такого рода органичен и понятен, когда нужно передать атмосферу экскурса в прошлое. Ученый-семиотик Ю. Лотман в одной из своих работ описал интересную закономерность: «Фактически более условное черно-белое кино в силу определенной традиции воспринимается как исходная естественная форма. Когда Питера Устинова спросили на телевидении, почему он снял «Билли Бадда» черно-белым, а не цветным, он ответил, что ему хотелось, чтобы фильм был правдоподобнее. Любопытен и комментарий А. Монтегю (английского историка и теоретика кино): «Странный ответ, но еще более странно, что никто не нашел в нем ничего странного» (53, с. 26, 27).
Надо иметь ввиду, что цвета приобретают различные тона в зависимости от того, подходим ли мы к окрашенной поверхности сверху (на фоне земли), снизу (на фоне неба) или со стороны (на фоне предметов, расположенных на уровне глаз наблюдателя). По-разному воспринимаются тела, освещенные зимним и летним солнцем, днем и вечерней порой, в ветреную или тихую погоду, прохладным утром или в знойный полдень. Перед художником ландшафтного зрелища стоит трудная задача: решить цветовую палитру театрализованного события, которая органично вбирала бы в себя сумму различных факторов: цвета естественного ландшафта (зимой, как правило, более сдержанные, суровые; летом – полихромные), колорит архитектурных сооружений (современные здания характеризуются большими отражающими поверхностями из стекла – в них зритель нередко видит опрокинутое небо). Цветовое решение может быть либо контрастным, либо нюансным в зависимости от задач декора.
В случае, когда активен не один, а два цвета, мы можем из суммы этих цветов составить один цвет при условии, что они не дополнительны друг к другу, потому что у дополнительных цветов это соединение бесперспективно. Красный и желтый не дополнительны, следовательно, в их сумме будет проявляться активность, жизненность. Красный и зеленый могут взаимодействовать как означающие активность и пассивность одновременно, и потому оба цвета создают впечатление беспокойства, мерцания при условии их одинаковой тональной насыщенности и если они расположены рядом друг с другом. Рядом стоящие желтый и синий цвета полярно противоположны; один цвет лучезарен, другой «уводит» вглубь и как бы увлекает за собой, что и создает впечатление подвижности.
Полярные цветовые пары при первом рассмотрении обнаруживают следующие признаки. Желтый – ультрамариново-синий: сильная напряженность, благодаря которой создается эффект движения. Оранжевый – синий (зелено-синий): ритмическая полярность между излучением и глубокой замкнутостью в себе, отчего создается сильное впечатление. Красный – зеленый (сине-зеленый): сильный контраст между энергией и спокойствием, отсюда впечатление жизнеутверждения; импульсивности. Пурпурный – цвет зеленых листьев: их сочетание повышает ощущение жизнеутверждения. Фиолетовый – лимонно-желтый: создают впечатление контраста тяжести и легкости.
Предпочтение цвета – это наша генетическая память. Во многих мировых культурах доминирует красный цвет. Красный цвет ассоциируется с активным началом, с кровью, с огнем. Издревле на Руси про все красивое, торжественное, главное говорили «красное». Про яркое солнышко – «красно солнышко», про пригожую девицу – «красна девица», про умное, к месту сказанное слово – «красное словцо», про парадное крыльцо – «красное крыльцо».
Синий – ассоциируется с космосом, вселенной. («Эта ледяная синева»). Это доминирующий цвет в культуре Китая, Бурятии. Слово «синий» предположительно происходит от слова «сияние». Голубой цвет ассоциируется с королевской властью и благородством происхождения. Это цвет миролюбивого начала, цвет небес, поверхности воды.
Белый цвет наделяется свойствами очищения и божественности, а в странах Дальнего Востока, наоборот, – траура.
Черный цвет – загадка. Это абсолютное поглощение всех цветов и света. (Более подробно о цветах-символах смотрите: работы В. В. Похлебкина и М. О. Суриной)
 Разумеется,
цветовое, как и любое другое, решение
строится на различных ассоциациях,
возникающих в контексте художественного
слова – сценария, либо пьесы. К примеру,
утвержденное олимпийской хартией
пятицветье включает в себя сочетания
синего, желтого, черного, зеленого и
красного цветов. Такую же гамму мы
наблюдаем и в фестивальной ромашке
международного молодежного форума.
Разумеется,
цветовое, как и любое другое, решение
строится на различных ассоциациях,
возникающих в контексте художественного
слова – сценария, либо пьесы. К примеру,
утвержденное олимпийской хартией
пятицветье включает в себя сочетания
синего, желтого, черного, зеленого и
красного цветов. Такую же гамму мы
наблюдаем и в фестивальной ромашке
международного молодежного форума.
Российский государственный флаг (триколор) содержит белый, синий и красный. Это сочетание цветов символично в ряде государств, в том числе и во Франции.
Флаг Челябинской области (Ил. 36), принятый областной думой 8 января 2002 г. красного цвета с желтой полосой и белым верблюдом (см. Прил. 3, 4). В геральдике часто присутствуют эти цвета как олицетворение нематериальных качеств: красный – борьбы, жизни; желтый – благородства, света, белый – чистоты.
Существующие так называемые цвета-символы в предложенных выше примерах могут ориентировать лишь на первое эмоциональное впечатление зрителя.
Определяющим цветовую палитру фактором может быть использование в оформлении праздничного действа предметов декоративно-прикладного искусства с их характерной расцветкой. Например, для промысла Гжели естественны синие, белые и голубые тона. Хохлома славится письмом золотом по черному и красному лаку. Искусство резьбы по дереву отличают естественные теплые цвета дерева различных пород.
Однозначное прочтение цветности невозможно. К примеру, мотивы использования оранжевого, красного, малинового цветов могут быть продиктованы необходимостью, с одной стороны, ликвидировать дефицит цветности зимой, а с другой – выразить драматизм события и т. д.
В цветовом решении ландшафтного театрализованного зрелища следует учитывать широкий спектр зрительных впечатлений, включая декоративные качества цвета и психологические особенности восприятия человека. Известны такие свойства цветовых оттенков как стимулирующие и успокаивающие. Стимулирующие (теплые) цвета, способствуют возбуждению и действуют как раздражители. Таков, к примеру, красный цвет – волевой, жизнеутверждающий. Дезинтегрирующие (холодные) цвета, например, синий – подчеркивают дистанцию между отдельными объектами. Пастельные цвета приглушают чистые цвета. Так, пастельно-зеленый – ласковый, мягкий; серовато-голубой – сдержанный. Синяя поверхность в отличие от белой или желтоватого оттенка воспринимается эстетичной даже в том случае, если соседствует с пыльными и грязными объектами. Синий уменьшает чувство страха. Желтый оказывает менее провоцирующее влияние на занятие «живописью» на фасадах.
Специалисты Института прикладной психологии считают, что речью можно передать осознанное, цветом – неосознанное.
4.3.2.2. Конструктивный ключ ориентирует постановочную группу на оформление как самой сценической площадки, так и разнообразных аттракционов, сопутствующих основному действу.
Постановщики зрелища призваны увязать три качества конструкции: первое – удобство и польза (функциональная задача), второе – прочность и экономичность (конструктивная и технико-экономическая задача), третье – красота форм (эстетическая задача).
О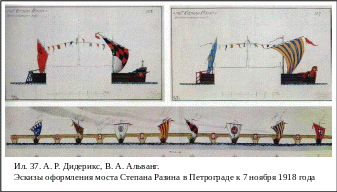 дин
из вариантов конструктивного ключа
может быть сформулирован как модульный,
то есть состоящий из большого количества
однообразных заготовок и позволяющий
в меру необходимости собирать уникальные
сооружения из них. Прообразом послужили
остроумные находки средневековых
уличных лицедеев.
«Вытаскивались бочки, на них клались
доски, и зритель мог следить за
представлением» (58, с. 38). Труппы бродячих
актеров были так же изобретательны. Они
во дворах гостиниц напротив ворот
устанавливали повозки, и сцена готова.
В наше время такие сцены на подвижных
фургонах, кузовах машин используются
как в сельской местности, так и в городских
кварталах.
дин
из вариантов конструктивного ключа
может быть сформулирован как модульный,
то есть состоящий из большого количества
однообразных заготовок и позволяющий
в меру необходимости собирать уникальные
сооружения из них. Прообразом послужили
остроумные находки средневековых
уличных лицедеев.
«Вытаскивались бочки, на них клались
доски, и зритель мог следить за
представлением» (58, с. 38). Труппы бродячих
актеров были так же изобретательны. Они
во дворах гостиниц напротив ворот
устанавливали повозки, и сцена готова.
В наше время такие сцены на подвижных
фургонах, кузовах машин используются
как в сельской местности, так и в городских
кварталах.
Современные масштабные зрелища требуют более грандиозных построек, для чего разрабатываются в промышленном производстве модульные конструкции на основе унификации сборочных узлов.
У нификация
– научно-обоснованное сокращение числа
общих параметров сооружений и их
элементов путем устранения функционально
неоправданных различий между ними –
предполагает перенесение максимального
объема производственных операций
монтировки декораций в заводские
условия: изготовление укрупненных
сборных элементов с высоким уровнем
готовности и нетрудоемким механизированным
монтажом этих элементов на месте.
нификация
– научно-обоснованное сокращение числа
общих параметров сооружений и их
элементов путем устранения функционально
неоправданных различий между ними –
предполагает перенесение максимального
объема производственных операций
монтировки декораций в заводские
условия: изготовление укрупненных
сборных элементов с высоким уровнем
готовности и нетрудоемким механизированным
монтажом этих элементов на месте.
Основные конструкции сооружений образуют линии модульных разбивочных осей в плане и разрезе. Оси обозначаются марками (цифрами и буквами) в кружках (маркировка осей). Они маркируются арабскими цифрами и прописными буквами алфавита. Цифрами маркируются оси вдоль стороны плана с большим числом разбивочных осей. Порядок маркировки – снизу вверх и слева направо по левой и нижней сторонам плана (см. Прил. 5). В начале монтировки зрелищного сооружения на месте осуществляется размещение его осей на местности для точного определения положения.
Другой вариант конструктивного ключа – монолитная конструкция, изготовленная таким образом, что трансформация ее невозможна. На протяжении веков создавались громоздкие триумфальные арки, ворота, алтари, трибуны, колоннады, дворцы, горки, монументальные изображения (сначала из камня, дерева, льда, затем из пластика, других синтетических материалов).
При установке такого рода конструкций необходимо помнить об ансамблевом решении декораций и постановочного пространства с городской средой.
Ансамбль предполагает приведение всех элементов оформления к единству художественного облика. Ансамбль может быть как городским, так и загородным, либо парковым. Пространственную композицию ансамблей делят на несколько типов: глубинно-пространственная перспектива (см. ил. 9, 18), раскрытая вдоль площади, улицы и т. п.; замкнутое пространство, ограниченное зеленью или застройкой; свободное пространство без строгих границ; панорама, раскрывающаяся с высоких точек зрения, на набережных и т. п., где имеет значение силуэт застройки. Основным конструктивным решением в советский период в России было использование фасадов жилых, производственных и административных зданий в качестве экспозиционных площадей для различного рода декоративных и пропагандистских элементов.
О губительных последствиях неумелого вписывания декораций в городскую среду в первые годы Советской власти говорил известный российский художник М. В. Добужинский, которому не раз приходилось участвовать в декоративном преображении города. В статье «Бомба или хлопушка. Беседа двух художников», опубликованной в мае 1918 г. в газете «Новая жизнь» (33, с. 53), полемизируя с воображаемым оппонентом, он писал: «Прежде всего, мне совсем не весело от приветствуемой тобой новой «красоты», которою вы облепили город. Обвешай микеланджеловского Давида самыми лучшими Рафаэлями и Рембрандтами – ты не создашь новой художественной радости. Я вижу, что действительно объявлена война, или, вернее, презрение к архитектуре. Но тогда рази смелее, уничтожай то, что не отвечает твоим требованиям прекрасного, укрой сплошь, замаскируй, преобрази» (Там же).
И далее: «Вот вы, обуреваемый мегаломанией, зря истратили чудовищное количество холстов […] и это количество, если бы оно было употреблено не на вашу «живопись», а хотя бы на флаги, вымпелы, гирлянды, ленты или я не знаю еще на что – тут было бы раздолье для выдумки художника, – то создалось бы куда больше «праздника» и радующего глаз ликования» (Там же).
В наши дни используются отдельно стоящие, а также прикрепленные к зданиям жесткие конструкции. Устанавливаются металлические мачты, стойки, ледяные помосты и каркасы из деревянных брусьев, резиновые (надувные) модули, образующие псевдоархитектурные формы. Широко распространены тросовые растяжки. Иногда приспосабливаются к монтажным функциям архитектурные элементы.
Сегодня явно просматриваются две тенденции эксплуатации пространства: а) активное преобразование для зрелища улиц, площадей города, его фасадов; б) органичное включение (вписываемость) праздничного события в исторический стиль местности.
Один из основных приемов создания зрелищного ансамбля в городах – установка новых и учет имеющихся в наличии композиционных узлов: сооружений, выделяющихся в городской среде своим масштабом, композицией или являющихся историческими памятниками архитектуры; монументами, посвященными важным событиям и видным деятелям. Крупными композиционными узлами в сельских ансамблях становятся центральные площади.
В части нахождения образного строя декоративного оформления праздников и театрализованных событий очень много полезного можно заимствовать в российской истории. Школьный театр XVII в. передал позднейшему оформительскому искусству свою механику: «подвесы», «полеты», «спуски», «провалы», шумовые и звуковые эффекты, музыкальное сопровождение. Художники первой четверти XVIII в. в оформлении празднеств активно использовали достижения театрального декорационного искусства. От последнего они взяли систему сложных объемно-пластических устройств и машинерию, расписные кулисы, декоративный антураж, бутафорию, костюмирование; четырехгранные, вращающиеся на «пятах» телларии с живописными картинами, подсвеченные транспаранты, подвесные щиты – «рамы перспективного письма». Тогда же прочно вошли в оформительскую практику триумфальные арки. Они состояли из трех ворот-проходов: в середине большой и по бокам поменьше, которые и примыкали к стенам. Все ворота были увешаны коврами, так что плотничной работы совсем не было видно. Наверху ворот устроена была «вислая» площадка, на которой стояли по два в ряд восемь молодых юношей, великолепно разодетых, сливавших свое пение с музыкой. Ворота увешаны были гербами, из коих некоторые имели иносказательные изображения с приличными подписями. Поверх стоял огромный орел и множество знамен» (62, с. 31).
Одним из важнейших элементов европейских церемониальных шествий XVI – XVII столетий являлся корабль-повозка, который затем хорошо прижился в карнавальных шествиях стран Латинской Америки. Корабль-повозка бывал двух типов: стилизованный (под античность или под «сказочный» вариант) или воспроизводивший реальный облик парусника. Он передвигался либо с помощью лошадей на колесах, скрытых от зрителя, либо благодаря какому-нибудь механизму. Эти повозки, специально оформленные платформы, ныне именуются «аллегориями». Каждая из них представляет собой огромное сооружение в несколько этажей, достигающее пяти-шести метров в высоту, замаскированное под символическое животное или птицу, олицетворяющих царственность, мудрость, силу, свободу и т. п. В основание каждой платформы обязательно встраивается шест, выступающий над уровнем верхней площадки. За него придерживается самая красивая девушка, представляющая в бразильском карнавале школу самбы. Все зрелище выстраивается вокруг королевы карнавала.
В христианском искусстве корабль имеет очень долгую историю, традиционно ассоциируясь с Ноевым ковчегом и символизируя церковь, или напоминая о странствиях по морю апостола Павла. С кораблем или его частями сопоставляли и само здание церкви – это был очень распространенный образ (мачта – крест с распятым Христом). Светский же, карнавальный аспект часто включал в себя корабль как олицетворение ада (например, в нюрбергских карнавалах XVI – XVII вв.). Интересны метаморфозы ада в нюрбергских карнавалах: дом, башня, дворец, корабль и т. д. Корабль «это сооружение, начиненное фейерверками, обычно сжигалось перед ратушей» (12 с. 427). «Верные» христиане его штурмовали, пытаясь потопить. Здесь же появляется «Корабль дураков»: он терпит крушение, а народ спасается с него на прочный «Корабль Веры».
Подвижные площадки – не редкость как в ландшафтных зрелищах, так и в закрытых сценах. Упомянутые в первой главе античные колесницы были излюбленным зрелищем аристократии, в античном театре использовались подвижные площадки – экиклемы, которые позволяли актерам разыгрывать перед зрителями, сидящими вдоль дороги, сюжеты мифов. Струги, лодки, корабли также участвовали в праздничных зрелищных действах. А там, где не было возможности продолжить путь по воде, их несли на плечах до места ритуального действа. Значительно позже к демонстрации динамических эпизодов были приспособлены мотоциклы, автомобили, вертолеты, железнодорожные платформы.
4.3.2.3. Изобразительный ключ. К нему относятся изображения отдельных знаков и сюжетов.
Л юбое
изображение предполагает наличие
некоего оригинала, материального, либо
идеального. Постановщики художественного
действа в закрытом помещении, как
правило, обращаются к тому или иному
способу воспроизведения такого оригинала
и создают его копию, в которую вкладывают
свое чувство, настроение, мысль.
Ландшафтное же зрелище рассчитано на
использование самого оригинала. При
этом важно совпадение впечатлений
организаторов и зрителей от образов,
формируемых средой и ее отдельными
объектами, которые начинают выступать
в качестве вещественных знаков этих
настроений, смыслов. Знаком может
выступать как сам объект, так и его
изобразительный или предметный
заместитель – символ. Символами
становятся: человек, природное явление,
предмет или численные значения. Характер
передачи информации похож на
пиктографическое (рисуночное) письмо.
Понимание смысла часто зависит от меры
условности, принятой в изображении,
степени образованности воспринимающего,
традиций и др.
юбое
изображение предполагает наличие
некоего оригинала, материального, либо
идеального. Постановщики художественного
действа в закрытом помещении, как
правило, обращаются к тому или иному
способу воспроизведения такого оригинала
и создают его копию, в которую вкладывают
свое чувство, настроение, мысль.
Ландшафтное же зрелище рассчитано на
использование самого оригинала. При
этом важно совпадение впечатлений
организаторов и зрителей от образов,
формируемых средой и ее отдельными
объектами, которые начинают выступать
в качестве вещественных знаков этих
настроений, смыслов. Знаком может
выступать как сам объект, так и его
изобразительный или предметный
заместитель – символ. Символами
становятся: человек, природное явление,
предмет или численные значения. Характер
передачи информации похож на
пиктографическое (рисуночное) письмо.
Понимание смысла часто зависит от меры
условности, принятой в изображении,
степени образованности воспринимающего,
традиций и др.
Рассмотрим некоторые из естественных реальных и изобразительных знаков.
Е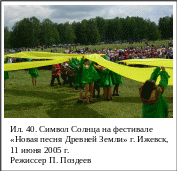 стественный
источник света – Солнце, характеризуется
более многозначно, нежели природный
фактор. В большинстве традиций Солнце
– всеобщий Отец, а Луна – Мать, за
исключением символических систем
индейцев Америки, маори, тевтонов,
народов Океании и Японии, где Луна
представляет мужское, а Солнце
– женское начало. Солнце
и дождь – важнейшие плодородные силы,
отсюда жених ассоциируется с Солнцем,
а невеста – с лунной богиней и
Матерью-Землей. Непрерывно восходя и
заходя, посылая лучи, которые могут быть
то животворящими, то разрушительными,
Солнце
символизирует то жизнь, то смерть, а
также обновление жизни через смерть.
Иногда его заменяет изображение лучей.
Очень близок по значению огонь,
символизирующий трансформацию, очищение,
дающий жизнь, производящую силу Солнца,
обновление жизни (69 с. 431).
стественный
источник света – Солнце, характеризуется
более многозначно, нежели природный
фактор. В большинстве традиций Солнце
– всеобщий Отец, а Луна – Мать, за
исключением символических систем
индейцев Америки, маори, тевтонов,
народов Океании и Японии, где Луна
представляет мужское, а Солнце
– женское начало. Солнце
и дождь – важнейшие плодородные силы,
отсюда жених ассоциируется с Солнцем,
а невеста – с лунной богиней и
Матерью-Землей. Непрерывно восходя и
заходя, посылая лучи, которые могут быть
то животворящими, то разрушительными,
Солнце
символизирует то жизнь, то смерть, а
также обновление жизни через смерть.
Иногда его заменяет изображение лучей.
Очень близок по значению огонь,
символизирующий трансформацию, очищение,
дающий жизнь, производящую силу Солнца,
обновление жизни (69 с. 431).
Звезды по образному выражению поэтов являются глазами ночи. «Звезды, в целом, являются символом духа, той светлой силы, которая выступает против сил тьмы» (85 с. 43). В Египте фараон после смерти идентифицировался с Полярной звездой. В христианстве звезда олицетворяет божественное водительство и благорасположение, рождение Христа (69 с.153). Советская Россия восприняла изображение пятиконечной звезды как символ путеводной звезды к светлому будущему, объединяющей многие народы освободительной идеей.
Естественные стихии: вода, огонь, земля являются зримым воплощением отвлеченных идей. Бесполезный валун, камень рядом с дорогой приобретают смысл в различных фольклорных историях. «Культ камня – один из древнейших. Поклонение ему связано с той огромной ролью, которую камень играл в жизни человека: являлся орудием труда, средством защиты, служил источником огня, связывался с очагом и т. д.» (27 с. 43).
О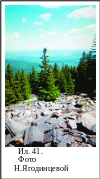 дин
из распространенных предметных символов
– дерево. В изображениях деревья часто
стилизуются под женскую фигуру. Дерево
символизирует синтез неба, земли и воды.
Вечнозеленое дерево
означает бесконечную жизнь, неумирающий
дух и бессмертие. Летнее дерево
– это мир в бесконечном обновлении и
возрождении, принцип умереть чтобы
жить, воскресение, воспроизводство, мир
жизни. И то, и другое дерево
символизирует различное в едином,
множество ветвей, растущих из одного
корня и вновь возвращающихся к единому
– семени, плоду. Перевернутое дерево
является широко распространенным
символом магического действия.
Майское Дерево
символизирует мировую ось, вокруг
которой вращается вселенная. Во время
полуязыческих общественных празднеств
девушки украшали полотенцами ветки
деревьев. Береза
– символ плодородия и света. Фиговое
Дерево
(Смоковница)
соединяет в себе символику как мужского,
так и женского принципов (69 с. 139-141).
дин
из распространенных предметных символов
– дерево. В изображениях деревья часто
стилизуются под женскую фигуру. Дерево
символизирует синтез неба, земли и воды.
Вечнозеленое дерево
означает бесконечную жизнь, неумирающий
дух и бессмертие. Летнее дерево
– это мир в бесконечном обновлении и
возрождении, принцип умереть чтобы
жить, воскресение, воспроизводство, мир
жизни. И то, и другое дерево
символизирует различное в едином,
множество ветвей, растущих из одного
корня и вновь возвращающихся к единому
– семени, плоду. Перевернутое дерево
является широко распространенным
символом магического действия.
Майское Дерево
символизирует мировую ось, вокруг
которой вращается вселенная. Во время
полуязыческих общественных празднеств
девушки украшали полотенцами ветки
деревьев. Береза
– символ плодородия и света. Фиговое
Дерево
(Смоковница)
соединяет в себе символику как мужского,
так и женского принципов (69 с. 139-141).
Определенное место в изобразительной символике занимают изображенные и реальные птицы: петух – солярная птица, атрибут солнечных богов. Два бьющихся петуха означают битву жизни. В христианстве петух приветствует восход Солнца-Христа на востоке, обращающего в бегство силы тьмы и зла; означает также бдительность. Голубь (Голубка) у многих народов символизирует дух жизни, душу, переход от одного состояния к другому, дух света, непорочность, невинность, нежность и покой.
Сердце – в фольклорной традиции – центр существа, как физический, так и духовный, божественное присутствие в центре. Сердце олицетворяет мудрость, мудрость чувства в противовес рассудочной мудрости головы. Сердце символизируется Солнцем как центр жизни. Все перечисленные знаки участвуют в ландшафтном зрелище как в натуральном, так и изображенном виде.
Иногда изображения настолько условны, что в них можно обнаружить лишь отдаленный намек на конкретный объект в форме геометрических фигур. Абстрактность с точки зрения содержания рисунка позволяет нагружать их самыми разными смыслами: треугольники могут символизировать как природные стихии: огонь (обращенный вершиной вверх), воду (обращенный вершиной вниз), воздух (обращенный усеченной вершиной вверх), землю (обращенный усеченной вершиной вниз). У пифагорейцев равносторонний треугольник символизирует Афину как богиню мудрости. Треугольник отображает триединую природу вселенной: Небо, Земля, Человек. Три точки образуют первую из плоских фигур. Круг – универсальный символ – означает целостность, непрерывность, первоначальное совершенство.
Ничто не изменилось, с тех пор как умер звук.
Но точно где-то властно сомкнули тайный круг.
И все, чем мы за краткость, за легкость дорожим, –
Вдруг сделалось бессмертным, и вечным – и чужим.
Затмило, каменея, как тело мертвеца…
Стремленье – но без воли. Конец – но без конца.
И вечности безглазой беззвучен срой и лад,
Остановилось время. Часы, часы стоят!
З. Гиппиус
Концентрические круги являются как солярными, так и лунными символами и означают Небеса. Христианская церковь часто представляет собой крест, расположенный внутри круга церковного двора.
Квадрат олицетворяет Землю как противопоставление кругу Небес, земное существование, статичную безупречность и совершенство, неизменность. В архитектуре священного здания, храма или церкви, преобразование круга в квадрат или квадрата в круг олицетворяет трансформацию сферической формы Небес в прямоугольную форму Земли и наоборот. Круг особенно часто распространен в культуре кочевников. Прямоугольник же – любимая форма оседлых землепашцев. Ученые убедительно аргументировали характер возникновения данных конфигураций: форма периметра отражает характер коллективной деятельности. Землю удобнее всего возделывать по прямым линиям (20, с. 124).
Крест олицетворяет Древо Жизни, а также универсального архетипического человека, способного к бесконечному и гармоничному расширению, как в горизонтальном, так и в вертикальном планах. Крест – это фигура человека в полный рост (69, с. 217).
Интересны и вспомогательные детали эмблем, гербов (см. 69, с.: 65, 73, 75, 115, 131-138, 369). К таковым относятся: бурелет (франц. bourrelet – жгут, набухание, припухлость) – гербовый элемент (атрибут), сохраняющийся до сих пор в государственной геральдике ряда стран. Первоначально представлял собой две-три матерчатые трубки, туго набитые сырой шерстью, перекрученные или сплетенные в жгут и связанные в виде кольца. Таким же представляется и венок – древнейший символ награды, почета, эмблема бессмертия, величия. Венки из зелени (веток различных деревьев, трав) и цветов с древнейших времен у всех народов употреблялись во время празднеств и жертвоприношений как знак союза (неразрывного) между потомками и предками, как эмблема бессмертия. В русской геральдике венки применялись как некий дополнительный атрибут в гербах, долженствующий иллюстрировать понятия «слава», «заслуги», «честь», «доблесть». Венок придавали соответствующим аллегорическим фигурам (гениям-вестникам, купидонам, несущим его обычно в вытянутой правой руке) или эмблемам животных (орел с венком в когтях, голубь с венком в клюве). В родовые гербы конца XVIII – первой половины XIX в.включались маленькие веночки, перевитые ленточками и окаймлявшие римские цифры XXX, XL, L, что означало выслугу лет, за которые было пожаловано дворянство. Корона, ее изображение по очертанию и по значению близки венку и бурелету. В христианстве корона символизирует праведность, благословение и благорасположение, победу над смертью, обретение, награду мученику. Золотая корона означает победу над пороком.
Девиз – одна из составных, необязательных частей герба или знамени. Термин «девиз» происходит от латинского слова devidere, то есть «разделять», и означает «отдельное», «обособленное». Девиз всегда располагается вне поля щита, на особом месте – девизной ленте или девизном щитке. Один из древних мужественных девизов принадлежит городу Козельску: «Умрем, но не сдадимся!» Девизы располагаются на зданиях парламентов, университетов, триумфальных арках, дворцах, виллах, надгробных памятниках, юбилейных обелисках и т. п.
Фигурные девизы (бэджи, импресы) имеют большое эмблематическое значение, поскольку служат фактически эмблемами. Свиток символизирует учение, знание, развитие жизни и знания, течение времени, срок жизни, свиток закона, предначертание. Лира олицетворяет числовую гармонию, лежащую в основе вселенной.
Во многих культурах, особенно в вавилонской, индуистской и пифагорейской самостоятельными знаками являются числа (69, с. 406-408). Число есть фундаментальный принцип, лежащий в основе меры вещей и гармонии вселенной. Ноль означает отсутствие качества и количества; единица – первичное единство, начало; два двойственность природы; три – множественность и т. д. Очень часто в фольклорных историях фигурируют простые и сложно-составные числа, например, тридевятое царство, за семь дней, на третью ночь и т. п. При постановке художественного зрелища на природе речь идет не об изображении цифр (чисел), а о нахождении их зримых воплощений. Обратимся к поэтическим примерам:
У царицы моей есть высокий дворец,
О семи он столбах золотых… В. Соловьев (70, с. 32).
Дом в три окна… Н. Гумилев (Там же, с. 253).
По трем мостам… Н. Гумилев (Там же, с. 252)
И в небе теплятся лампады семизвездья… М. Волошин (Там же, с. 381) и др.
В светских российских праздничных шествиях XVIII в. наиболее часто употреблялись такие изобразительные символы как победные колесницы, летящие Ники и Славы, герои греческой мифологии и Библии, античные божества, символизирующие войну, победу, мужество, вечность, мир. Двуглавый орел с мечом и оливковой ветвью олицетворял государство, дверь на замке – его крепость; плывущие парусники – флот; летящий Меркурий – процветание отечественной торговли; голубь с масличной ветвью – мир; Фемида с мечом и весами – правосудие и справедливость; Нептун с трезубцем – господство России на море и т. п.
В 1705 г. по приказанию Петра I в Амстердаме была издана книга «Символы и эмблемы», затем неоднократно переиздававшаяся. Книга эта давала образцы для символической системы украшений празднеств, фейерверков, триумфальных арок, скульптурных украшений зданий и т. д. Это был «букварь» новой знаковой системы, сменившей существовавшую до того церковную (51, с. 127).
Любое крупное торжество имело изобразительную доминанту в виде фейерверочной декорации, триумфальных ворот, «столбов», «тумб», «пирамид», обелисков. Эти громоздкие и внушительных размеров устройства обильно украшались живописью, скульптурой, барельефами, лепниной; дополнялись картушами, маскаронами, военными арматурой и трофеями, ликторскими связками, башнями, балкончиками, беседками, обрамлялись вставками из «живописных форм» (картин), вензелями, геральдикой, эмблемами, лавровыми венками, гирляндами, затейливой орнаментикой, лепными кессонами с розетками, легионерскими стягами, всякого рода символико-аллегорическими изображениями (62, с. 31).
Предметы естественной среды, как говорилось выше, также имели символическое значение. Известно, что в определенную эпоху в садах высаживались определенные цветы. Для садов Древнего Египта были характерны хризантемы, васильки, мальва, лотос. Считалось, что обилие лотосов в Ниле обещает обилие ила и плодородный год. В Древней Греции почитались розы, ирисы, фиалки, гвоздики, в Риме – люпин и т. д. (35, с. 24).
Символично и жилище человека. Конечно же, в первую очередь оно было предназначено для укрытия его от холода и врагов. Но ученые рассматривают его и как комплекс знаков и символов. Не учитывать в планируемом зрелище традиционные оценки элементов жилищных и хозяйственных построек было бы ошибкой. Исследователь язычества древних славян Б. Рыбаков заметил: «Дом – мельчайшая частица, неделимый атом древнего общества – был весь пронизан магическо-заклинательной символикой, с помощью которой семья каждого славянина стремилась обеспечить себе сытость и тепло, безопасность и здоровье» (71, с. 460).
Древние славяне-язычники рассматривали свой дом как крепость, защиту их от враждебных духов. Доброжелательные языческие символы размещались на самых уязвимых участках жилища и двора: изображения символов света и солнца, «громовые знаки», конские головы, фигура богини-Матери Земли на вершине строения и т. п.
Обратим внимание на то, что и в архитектуре, и в одежде был последовательно проведен один и тот же принцип размещения заклинательного орнамента – оберегались все проемы, все отверстия, через которые всевозможные злыдни могли проникнуть к человеку. Элементами таких орнаментов были солярные знаки (наиболее устойчивым является круг с шестью радиусами (знак Юпитера), изображения матери-земли Макоши с поднятыми руками, кони, земледельческие знаки (ромб, поделенный на четыре части или какие-либо другие фигуры, составляющие ромб) и т. д. Во дворе расставлялись различные оберегающие знаки – идолы, на колья ограды надевались имевшие магическую силу битые горшки, навешивались счастливые камни с естественным отверстием («куриный бог»)... Основным местом для украшения дома были наличники окон и ворота в виде накладной декоративной резьбы. Контрастно выделалась простая гладкая доска карниза и фриза на рельефной бревенчатой поверхности стены. Наличники часто подчеркивали побелкой или раскрашиванием. Контрастен изящный ажур невысокой решетки из металла, широко применявшийся на крышах домов и воротах в призаводских селениях Урала с начала XIX в.
Символичны росписи интерьеров уральских изб. В них были использованы растительные мотивы, включавшие изображения людей, птиц и зверей (коней, львов), выполненные небольшим набором цветов на ярких фонах: оранжево-красных, сине-голубых, зеленых, охристо-белых. Растительные мотивы – листья, цветы, ягоды – группируются в «гирлянды», «букеты», «ветки», «кусты», «сады».
Основу росписи среднего яруса составлял растительный орнамент. Главными его формами являются древо, куст, букет, нередко поставленный в вазу. В уральской домовой росписи обязательно присутствуют изображения птиц. Симметричная композиция, состоящая из дерева с парными изображениями птиц, свидетельствует о глубокой традиционности ее содержания, заключающегося в пожелании благополучия. Здесь несомненно сходство с содержанием прялочных росписей, доброжелательный смысл которых общеизвестен, но в доме они обращены ко всей крестьянской семье, тогда как благожелательность росписи прялки – только к девушке, ее хозяйке.
Свой дом крестьянин воспринимал как микромир, где вместе с его семьей живут добрые существа (домовой, суседка), прообразами которых были предки. Соблюдение выверенного опытом поколений порядка в жизни этого сообщества, по его представлениям, способствовало благоденствию семьи.
В ыбор
изобразительного ключа должен подчиняться
идее и сюжету ландшафтного спектакля
(зрелища).
ыбор
изобразительного ключа должен подчиняться
идее и сюжету ландшафтного спектакля
(зрелища).
4.3.2.4. Декоративный ключ характеризует качества воспроизведения оригинала тем или иным способом.
Соответствующая образному решению технология адаптации изображения к условиям ландшафтной сцены может быть найдена в предметах декоративно-прикладного искусства. Вот несколько выразительных примеров.
Русская народная вышивка – один из древнейших видов русского народного творчества. «Крестецкая строчка», «гипюрная строчка», их основными элементами являются розетки, окруженные или заполненные различными разделками. Узоры рязанской вышивки составляют четкие геометризованные растительные мотивы, с открытым красным цветом, дополненным яркими зелеными, желтыми, иногда черными тонами.
К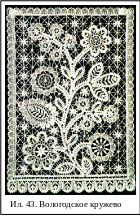 ружевоплетение
(Ил.
43)
известно на Руси с конца XVII в. Широкое
развитие этот вид художественного
ремесла получил в XVIII в. Первое место по
производству кружев занимала Вологодская
область. Для кружевоплетения используются
хлопчатобумажные и льняные нити, шелк
и синтетическая или шерстяная пряжа.
Вологодское кружево строится из условных
растительных мотивов, превращающихся
в непрерывный растительный орнамент.
У каждого рисунка есть название, например:
денежки, паучок, пуговка, березки.
ружевоплетение
(Ил.
43)
известно на Руси с конца XVII в. Широкое
развитие этот вид художественного
ремесла получил в XVIII в. Первое место по
производству кружев занимала Вологодская
область. Для кружевоплетения используются
хлопчатобумажные и льняные нити, шелк
и синтетическая или шерстяная пряжа.
Вологодское кружево строится из условных
растительных мотивов, превращающихся
в непрерывный растительный орнамент.
У каждого рисунка есть название, например:
денежки, паучок, пуговка, березки.
Интересна технология художественной росписи ткани «батик», придающая рисунку сходство с прозрачными стеклянными витражами.
Мотивы декоративного оформления ландшафтных зрелищ могут быть заимствованы от художественной обработки металлов. Это и литье, и ковка, и чеканка, и скань (филигрань). Прекрасными образцами изделий из металла может служить каслинское литье, возникшее в XIX в. в городах Касли и Куса Челябинской области. Характерными особенностями этого вида изделий являются черный цвет и матовая поверхность, выявляющие форму и рисунок ажурных изделий.
Интересно трансформируется в декор ландшафтного зрелища федоскинская лаковая живопись, которая на протяжении истории своего развития ориентировалась на образцы русской классической иконописи. На шкатулках, перчаточницах, табакерках в технике многослойного письма изображаются сюжеты русского лубка, старинных гравюр. Выбор картин для копий определялся их популярностью: «Тройки», «Чаепития», пейзажи Подмосковья стали своеобразными символами России. Особенность федоскинской миниатюры – черный фон.
Т ехнология,
основанная на крайней степени условности
изображения, доведенной до символа
характерна для орнамента.
ехнология,
основанная на крайней степени условности
изображения, доведенной до символа
характерна для орнамента.
Орнамент – ритмично повторяющийся рисунок, основанный на симметричной композиции его элементов и выражаемый линией, цветом или рельефом на плоскости, либо в объемах. Рисунок часто обусловлен материалом, на который наносится узор, например, плетение корзины предполагает чередование горизонтальных и поперечных прутьев, что определяет мотив.
И сторически
сложилось несколько типов орнаментов
на основе двух источников – природных
форм и геометрических фигур. Основные
типы орнаментов – сетчатые, прямолинейные
(ленточные) орнаментальные полосы,
круговые (кольцевые) орнаментальные
композиции, центрические (розеты),
основанные на симметрии многоугольников
и др. Примеры
сетчатого геометрического орнамента
можно увидеть в композициях ряда
металлических решеток и оград, плиточных
покрытий полов, в декоративном решении
стен с узорной кирпичной кладкой.
сторически
сложилось несколько типов орнаментов
на основе двух источников – природных
форм и геометрических фигур. Основные
типы орнаментов – сетчатые, прямолинейные
(ленточные) орнаментальные полосы,
круговые (кольцевые) орнаментальные
композиции, центрические (розеты),
основанные на симметрии многоугольников
и др. Примеры
сетчатого геометрического орнамента
можно увидеть в композициях ряда
металлических решеток и оград, плиточных
покрытий полов, в декоративном решении
стен с узорной кирпичной кладкой.
Ленточный орнамент используется в порезках карнизов античных храмов, в росписях стен древнерусских храмов. Розеты различных видов симметрии применены, например, в заполнении кессонов потолков в русских цветных рельефных изразцах. Орнаментальные заполнения филенок, пилястр и панно чаще имели симметричные композиции, за исключением стилей рококо и модерн, где встречались и асимметричные.
Обращаясь к орнаментальным способам декорирования архитектурного пространства необходимо учитывать специфику сочетания орнамента с содержанием композиции здания. На конструкциях и деталях, несущих нагрузку, характер орнамента выявляет их напряженность, на несомых и особенно на венчающих элементах – их легкость.
Примечательны декоративные сюжеты сельских подворий, их малой архитектуры. В домах с открытыми дворами парадность облику усадьбы, прежде всего, придавал силуэт высоких ворот. Уральские усадебные ворота, огораживающие двор по главному фасаду, обогащались фризовой частью в виде полосы легкой сквозной щетки. Иногда венчал ворота прозрачный сквозной орнамент. Опорныe столбы ворот украшались сдержанно: редко расположенной неглубокой глухой резьбой, узкими полуколонками с резьбой в верхней части или по всему стволу, часто в виде плетеного жгута. Створки ворот и калиток декорировались крупной накладной прорезью в основном в форме кругов-солнц.
В народном зодчестве Урала декор в виде резьбы применялся и на элементах крыш, наличниках окон, крыльцах. Он вводился и в более скромные в чисто конструктивные злементы – столбы (23, с. 168-173).
Ярко и зрелищно в условиях ландшафтного зрелища может быть освоена, в частности, палехская миниатюра, содержащая как светские, так и религиозные сюжеты. В ней тщательно выписаны детали природы и интерьера, стилизованно изображаются персонажи лирических сцен. Мотивы Палеха могут стать интересным фоном для рождественских представлений, а также концертов русской народной музыки.
Композиционный прием декоративного решения может быть заимствован и в русской иконописи. Интересные наблюдения находим у Ю. Лотмана: «Если рассмотреть такие образцы повествования живописными средствами как иконы русского живописца XV века Дионисия "Митрополит Петр" или "Митрополит Алексей" (композиция икон однотипна), то нетрудно заметить, что композиция их включает два основных элемента: центральную фигуру святителя и серию расположенных вокруг этой фигуры изображений. Эта вторая часть построена как рассказ о житии святого. Прежде всего, она сегментирована на равные пространственные куски, каждый из которых охватывает некоторый момент жизни центрального персонажа. Далее, сегменты расположены в хронологическом порядке, который задает также определенную последовательность «чтения». То, что перед нами не простое скопление разнообразных, не связанных между собою рисунков, а единое повествование, определяется: 1. Повторением в каждом сегменте фигуры святителя, решенной сходными художественными средствами и идентифицируемой, несмотря на изменение внешнего облика (возраст святого меняется при переходе от эпизода к эпизоду), при помощи знака – сияния вокруг головы. Это обеспечивает живописное единство серии изображений. 2. Связью рисунков со схемой типичных узловых эпизодов жития святого. 3. Включением в живописные изображения словесных текстов. Последние два пункта определяют включение изображений в словесный контекст жития, что обеспечивает им повествовательное единство. Нетрудно заметить, что построенный таким образом текст удивительно напоминает построение ленты кино с его разделением повествования на кадры…» (59, с. 138).
Ф отографический
ключ
предполагает активное использование
фотографий как основного приема,
иллюстрирующего действенные события,
разыгрываемые в зрелищном пространстве.
Достоинство фотографии заключается в
ее достоверности, фактографичности.
Приведем пример
образного решения массового представления,
описанный А. Д. Силиным в книге «Театр
выходит на площадь»: «В 1967 году в
Ленинграде было решено поставить ряд
массовых театрализованных представлений,
посвященных истории города-героя. Одно
из них должно было отразить героическую
900-дневную оборону Ленинграда. Рядом с
трагической подлинностью Пискаревского
мемориала декорация оказалась бы
ненужной мишурой, подделкой под правду,
раздражающей и оскорбляющей глаз. Так
появились громадные фотографии периода
обороны города, подлинные (только
увеличенные) рисунки детей блокады.
Остались метроном, музыка и подлинные
записи военных лет. Это и производило
впечатление полной и абсолютной
достоверности» (77, с. 28).
отографический
ключ
предполагает активное использование
фотографий как основного приема,
иллюстрирующего действенные события,
разыгрываемые в зрелищном пространстве.
Достоинство фотографии заключается в
ее достоверности, фактографичности.
Приведем пример
образного решения массового представления,
описанный А. Д. Силиным в книге «Театр
выходит на площадь»: «В 1967 году в
Ленинграде было решено поставить ряд
массовых театрализованных представлений,
посвященных истории города-героя. Одно
из них должно было отразить героическую
900-дневную оборону Ленинграда. Рядом с
трагической подлинностью Пискаревского
мемориала декорация оказалась бы
ненужной мишурой, подделкой под правду,
раздражающей и оскорбляющей глаз. Так
появились громадные фотографии периода
обороны города, подлинные (только
увеличенные) рисунки детей блокады.
Остались метроном, музыка и подлинные
записи военных лет. Это и производило
впечатление полной и абсолютной
достоверности» (77, с. 28).
4.3.2.5. Шрифтовой ключ задает тон различным текстам как в рекламных буклетах, посвященных событию, так и слоганам, возникающим в качестве элемента активизации театрализованного действа. Такие тексты служат и быстрой узнаваемости ситуации, и украшением пространства. Короткие тексты поздравлений, юбилейные даты, порядковые номера торжеств, имена именинников и т. п. исполняются как объемными буквами, так и плоскостными. Одним из важных критериев выбора нужного шрифта служит его стилевая определенность. Невозможно отделить е приметы эпох отосновные архитектурные, исторические стили, временны особенностей начертания буквенных знаков.
О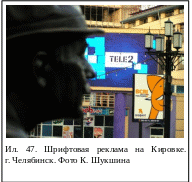 дин
из элементов оформления современного
города – рекламные вывески, афиши,
которые представляют собой вербальную
часть
городской среды, фрагменты афишного
столба. Сочетание их непредсказуемо,
соединение часто «несоединимо».
дин
из элементов оформления современного
города – рекламные вывески, афиши,
которые представляют собой вербальную
часть
городской среды, фрагменты афишного
столба. Сочетание их непредсказуемо,
соединение часто «несоединимо».
С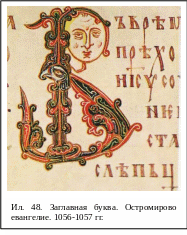 воеобразие
того или
иного
шрифта
выявляется при сравнении его с другими
шрифтами. Помимо формальных признаков
в сравнении их обнаруживаются различные
эстетические ассоциации. Так, «рубленый»
шрифт может показаться слишком
рациональным, аскетичным, излишне
конструктивным по сравнению с
гуманистической антиквой. В зависимости
от темы, «иллюстрируемой» шрифтом, ему
можно придать ту или иную эмоциональную
окраску: от спокойного до динамичного;
от строгого, монументального, до веселого,
декоративного; от романтического до
сатирического.
воеобразие
того или
иного
шрифта
выявляется при сравнении его с другими
шрифтами. Помимо формальных признаков
в сравнении их обнаруживаются различные
эстетические ассоциации. Так, «рубленый»
шрифт может показаться слишком
рациональным, аскетичным, излишне
конструктивным по сравнению с
гуманистической антиквой. В зависимости
от темы, «иллюстрируемой» шрифтом, ему
можно придать ту или иную эмоциональную
окраску: от спокойного до динамичного;
от строгого, монументального, до веселого,
декоративного; от романтического до
сатирического.
Е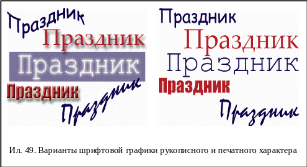 динство
стиля в шрифте.
На выбор формы шрифта существенное
влияние оказывает стиль – фактор,
определяемый содержанием информации
и авторским замыслом. Главное его
назначение – верно передавать содержание,
выражаться целенаправленно и по
возможности немногословно.
динство
стиля в шрифте.
На выбор формы шрифта существенное
влияние оказывает стиль – фактор,
определяемый содержанием информации
и авторским замыслом. Главное его
назначение – верно передавать содержание,
выражаться целенаправленно и по
возможности немногословно.
Удобочитаемость шрифта является одним из его важнейших достоинств. Это – не только общая оценка пригодности его формы, но и показатель красоты. На удобочитаемость влияют следующие факторы: форма шрифтовых знаков (рисунок или тип шрифта, размер, пропорциональность отношения ширины знака к его высоте, ритм формы, насыщенность, цвет); шрифтовая композиция (длина строки (надписи) или ширина шрифтового поля (колонки); пробелы между строк или шрифтовыми полями, форма строк, шрифтового поля, ритм строки и композиции текста, включая его цветовое решение; четкость шрифта (отношение цвета (тона) шрифта к цвету (тону) фона – носителя знаков: фактура, качество выполнения); ясность шрифта (узнаваемость знаков, их дифференцированность, оправданная простота форм, представление содержания). Требование удобочитаемости вызвано психофизиологическими особенностями читателя, проявляющимися в процессе чтения и осмысления текста.
У добочитаемость
способствует психосубъективному
отношению к тексту, готовности к чтению,
предопределяя привычки и ожидания
зрителя. К сказанному следует добавить,
что удобочитаемость зависит от сложности
содержания, текстовой нагруженности
окружения, попадающего в поле зрения
одновременно со шрифтом, а также степени
освещенности. Перечисленные факторы
удобочитаемости являются общими и
составляют основу профессионально
грамотного использования шрифтов в
исполнении надписей в художественном
зрелище.
добочитаемость
способствует психосубъективному
отношению к тексту, готовности к чтению,
предопределяя привычки и ожидания
зрителя. К сказанному следует добавить,
что удобочитаемость зависит от сложности
содержания, текстовой нагруженности
окружения, попадающего в поле зрения
одновременно со шрифтом, а также степени
освещенности. Перечисленные факторы
удобочитаемости являются общими и
составляют основу профессионально
грамотного использования шрифтов в
исполнении надписей в художественном
зрелище.
Случайный шрифт точно так же способен разрушить целостность зрелища, как и неряшливо исполненный костюм на актере, либо неуместная декорация.
В ландшафтном зрелище предпочтительны лаконичные тексты, «считываемые» практически мгновенно.
4.3.2.6. Пространственно-постановочный ключ характеризует устройство экспозиционного пространства и возможности его эксплуатации в художественном постановочном проекте.
Основные формы пространств театрализованных действ подробно были рассмотрены в первой главе. Напомним о них: осевая, центровая, кольцевая, симультанная системы. Их во многом обусловливают естественные границы обзора, очерчиваемые естественными либо искусственными кулисами, каковыми являются склоны холмов, обрывистые берега, массивы деревьев, стены домов и т. п.
О севая
форма (фронтальная, вертикальная), т. е.
построенная на векторе, предполагающем
начальную и финальную точку движения.
Визуальные границы определены либо
углом узкого (щелевого) пейзажного
обзора, не превышающего 30 градусов (Ил.
50, 52-I),
либо панорамного – от 120 до 240 градусов.
(Ил. 51, 52-II)
Такая форма
организации пространства характерна
для театрализованных шествий, карнавалов,
парадов вооруженных сил и цехов
мастеровых. Визуальное восприятие может
складываться извне такого построения,
когда участники являются лишь статистами
в действе перед публикой, расположенной
вдоль оси перемещения, и изнутри – в
случаях карнавалов, маскарадов,
предполагающих отсутствие дифференциации
(деления) пространства на зрительское
и актерское. Все идущие в карнавале
являются одновременно участниками,
т. е. носителями образа, и зрителями,
наблюдая друг друга на фоне действия
декорированной толпы и фасадов зданий,
а также природных красот. Для такого
построения важны композиционные акценты.
севая
форма (фронтальная, вертикальная), т. е.
построенная на векторе, предполагающем
начальную и финальную точку движения.
Визуальные границы определены либо
углом узкого (щелевого) пейзажного
обзора, не превышающего 30 градусов (Ил.
50, 52-I),
либо панорамного – от 120 до 240 градусов.
(Ил. 51, 52-II)
Такая форма
организации пространства характерна
для театрализованных шествий, карнавалов,
парадов вооруженных сил и цехов
мастеровых. Визуальное восприятие может
складываться извне такого построения,
когда участники являются лишь статистами
в действе перед публикой, расположенной
вдоль оси перемещения, и изнутри – в
случаях карнавалов, маскарадов,
предполагающих отсутствие дифференциации
(деления) пространства на зрительское
и актерское. Все идущие в карнавале
являются одновременно участниками,
т. е. носителями образа, и зрителями,
наблюдая друг друга на фоне действия
декорированной толпы и фасадов зданий,
а также природных красот. Для такого
построения важны композиционные акценты.
В первом случае композиция предполагает разделение всего шествия на компактные группы, представляющие собой ее «голову», «тело» и «хвост», что образно можно представить в виде китайского ритуального дракона. В каждой группе, в свою очередь, должны быть такие же правила членения. Обозрение композиции происходит с позиций «левая сторона», «правая сторона».
Во втором случае важно не столько формирование пространственных границ манифестации, сколько стадии ее существования во времени: «начало» – «развитие» – «кульминация» – «финал». Финал и начало обязательно будут повторять друг друга, но не обязательно в позитивном зеркальном отражении происходящих событий, природного окружения, состава участников и т. д. Образ приобретает во времени новые формы, краски, местоположение.
Центровая форма организации пространства кругового обзора более 240 градусов (Ил. 53, 54, 55), амфитеатры, цирки, стадионы, пруды, бассейны) воспринимается также двояко: с одной стороны (зритель вне орхестры), характеризуется компактностью и завершенностью восприятия, с другой – свободой и открытостью к внешним факторам воздействия. В первой – взгляды публики все время обращены к центру круга площадки. Композиционное построение декоративного обрамления довольно однообразно постоянно тяготеет к центральной точке, что, с одной стороны, дает большинству зрителей примерно равные возможности восприятия происходящего, с другой – не рассеивает внимание. Фоном служит земля (ковер) и зрители расположенные напротив.
Во второй – преобладает центробежная система восприятия, когда зритель находится в чаше арены, окруженной амфитеатром. Зрелище представляется частично на фоне ландшафта, частично на экране утреннего (полуденного, вечернего, ночного) небесного свода, что, конечно же, заставляет человека слегка приподнять голову. Впечатления зрителей на фоне подвижных облаков, светил, пролетающих птиц и т. д. более живые.
Ф ронтальная
форма пространства с углом обзора от
30 до 120 градусов (Ил. 56, 57) организована
в соответствии с традиционной портальной
сценой. Основные схемы учитывают:
глубинную перспективу; «верх-низ»
библейских представлений о мироздании;
знаковость «левой-правой» стороны
(выход-уход, женская-мужская зоны).
ронтальная
форма пространства с углом обзора от
30 до 120 градусов (Ил. 56, 57) организована
в соответствии с традиционной портальной
сценой. Основные схемы учитывают:
глубинную перспективу; «верх-низ»
библейских представлений о мироздании;
знаковость «левой-правой» стороны
(выход-уход, женская-мужская зоны).
Первое понятие «глубинная перспектива» предполагает, что пространство оптически, а иногда и физически делится на две и более частей в глубину (градуируется). Одна представляет собой зрительскую часть, вторая – изобразительную. Затем, каждая из них также подвергается разделению. В зрительской – путем деления на партер, амфитеатр, балконы и т. д.; в изобразительной – делением на планы (ближний, дальний) естественными кулисами (кронами деревьев, уступами скал); искусственными кулисами (стенами домов, порталами, воротами, арками).
«Верх-низ» в композиции пространства, как уже неоднократно отмечалось, символичен. Все, что появлялось сверху (с неба) в древнейших верованиях представлялось как исходящее от сверхъестественных (божественных) сил, а появление снизу – с воздействием темных сил. Где-то посередине, между добром и злом, – человек. С этими понятиями согласуется и современное освоение пространства.
Центром композиции данной системы пространства является пересечение диагоналей из углов рамы, очерчивающей пространство. Эта рама может быть реальной (стены домов по сторонам улицы) либо воображаемой, с центром на уровне глаз наблюдателя.
В целом восприятие фронтального
пространственного ключа характеризуется
фиксированной точкой зрительного
восприятия «картинки». По аналогии с
картинной галереей напрашивается
ассоциация изучения полотна со всеми
деталями живописи, тщательное осматривание
вставленного в раму холста. Детали
первого плана более отчетливые, объемные,
яркие, привлекают внимание зрителя.
Дальние – служат фоном, их очертания
более размыты, менее выражены по цвету
и объему и т. д.
целом восприятие фронтального
пространственного ключа характеризуется
фиксированной точкой зрительного
восприятия «картинки». По аналогии с
картинной галереей напрашивается
ассоциация изучения полотна со всеми
деталями живописи, тщательное осматривание
вставленного в раму холста. Детали
первого плана более отчетливые, объемные,
яркие, привлекают внимание зрителя.
Дальние – служат фоном, их очертания
более размыты, менее выражены по цвету
и объему и т. д.
Вертикальный принцип построения зрелищного пространства справедлив для всех разновидностей, имеющих двунаправленный вектор «верх-низ». В нем раскрывается обращенность к небесам и недрам как к мистическим сущностям. В ландшафте это наблюдается рядом с горными кручами, холмами, курганами, стволами деревьев, архитектурными сооружениями (наиболее ярко в готической архитектуре башен, шпилей, стреловидных арок, колоннад, колоколен), современными конструкциями коммуникаций и развлекательных аттракционов, воздухоплавательными приборами, фейерверками, струями фонтанов и т. д. Восприятие вертикального вектора обусловлено устремленностью в бездну недр и космоса. Появление объектов неожиданно и будоражит воображение. Стремление вверх рассматривается как борьба, преодоление силы земного притяжения. Центр композиции – в точке ожидаемого эффекта.
Кольцевая система организации пространства строится на основе осевой и центровой. От осевой заимствует двунаправленность движения (влево-вправо), от центровой – центробежность (от центра) и центростремительность (к центру) со всеми композиционными тонкостями данных построений (ритмом демонстрации отдельных эпизодов и композиционным центром, совпадающим с геометрическим центром круга).
С имультанная
система (ил. 59, 60, 61), как отмечалось ранее,
построена на многоочаговости
разворачиваемого события. Одновременно
либо поочередно не нескольких площадках
раскрывается суть некоего сюжета. Эта
форма организации ландшафтного зрелища
является комбинацией всех известных
нам систем.
В симультанном пространстве могут быть
задействованы и осевые, и фронтальные,
и вертикальные формы, и др. Следовательно,
построения зрелищ учитывают все принципы
названных пространств. Осевой – наличие
векторов перемещений, центровой –
фокусированное либо расфокусированное
восприятие объекта, фронтальный –
глубинная перспектива; вертикальный –
смысловые «верх-низ» (модель мироздания)
и т. д.
имультанная
система (ил. 59, 60, 61), как отмечалось ранее,
построена на многоочаговости
разворачиваемого события. Одновременно
либо поочередно не нескольких площадках
раскрывается суть некоего сюжета. Эта
форма организации ландшафтного зрелища
является комбинацией всех известных
нам систем.
В симультанном пространстве могут быть
задействованы и осевые, и фронтальные,
и вертикальные формы, и др. Следовательно,
построения зрелищ учитывают все принципы
названных пространств. Осевой – наличие
векторов перемещений, центровой –
фокусированное либо расфокусированное
восприятие объекта, фронтальный –
глубинная перспектива; вертикальный –
смысловые «верх-низ» (модель мироздания)
и т. д.
В целом же симультанное пространство можно представить в виде картинной галереи или выставочного центра с экспозицией плоскостных и объемно-пространственных предметов. Соблюдены правила композиции: спланированы начало и финал просмотра, выделены композиционные центры как всей экспозиции, так и отдельных залов. Одни предметы размещены в центре зала, другие опоясывают пространство. Предположительно намечены маршруты осмотра. Но каждый посетитель при этом самостоятельно определяет и точку обзора, и последовательность, и детальность изучения экспонатов.
Все вышесказанное позволяет назвать симультанную систему наиболее демократичной, предоставляющей зрителю свободу выбора. Одновременно с этим в такой системе легче рассредоточить значительную массу участников и зрителей, а также создать условия единого пространства, в котором грань «участник-зритель» нивелируется.
В се
рассмотренные варианты, безусловно, не
существуют изолированно, они взаимно
дополняют друг друга, увеличивая
выразительные возможности ландшафтного
действа. Как уже говорилось, организация
зрелищного пространства зависит от
ландшафта, сложившегося естественным
или искусственным образом.
се
рассмотренные варианты, безусловно, не
существуют изолированно, они взаимно
дополняют друг друга, увеличивая
выразительные возможности ландшафтного
действа. Как уже говорилось, организация
зрелищного пространства зависит от
ландшафта, сложившегося естественным
или искусственным образом.
Выбранное место действия должно быть благоприятным для данного представления. При этом следует учесть и ряд традиционных критериев оценки пространства: маршрутность, возможность организации дополнительных подходов и эвакуационных путей как для актеров, так и для зрителей. Значимым фактором пространства является также и естественная освещенность его, то есть необходимо учитывать направление лучей, которые бы не ослепляли зрителей. Должны быть изучены турбулентность основных ветровых потоков, как правило, всегда активно влияющих на размещение декораций, пригодность пространства к мизансценированию, наличие элементов для крепления декораций, свето- и электрообеспечения.
Г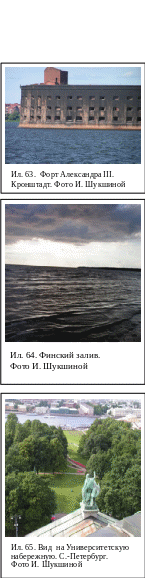 рамотное
планирование вечерних и ночных мероприятий
в открытой среде включает расчет лунного
цикла. Рельеф
или архитектурные особенности местности
продиктуют режиссеру и художнику
определенное конструктивное решение
игровой площадки, учитывающее размещение
больших масс зрителей и исполнителей,
возможности их выхода и ухода, проблемы
сосредоточения и переодевания и т. д. В
зависимости от ракурса восприятия
пространства режиссер наметит основной
принцип мизансценирования – горизонтальный,
вертикальный, диагональный.
рамотное
планирование вечерних и ночных мероприятий
в открытой среде включает расчет лунного
цикла. Рельеф
или архитектурные особенности местности
продиктуют режиссеру и художнику
определенное конструктивное решение
игровой площадки, учитывающее размещение
больших масс зрителей и исполнителей,
возможности их выхода и ухода, проблемы
сосредоточения и переодевания и т. д. В
зависимости от ракурса восприятия
пространства режиссер наметит основной
принцип мизансценирования – горизонтальный,
вертикальный, диагональный.
Помимо природных и архитектурных особенностей игровой площадки, помимо времени дня и года, включенных в качестве выразительных средств постановки, огромную роль играют вызываемые данным местом исторические ассоциации. Вспомним: Поле Куликово, Бородино, развалины Персеполиса, Папский дворец в Авиньоне, египетские пирамиды, античные амфитеатры Олимпии, Псковский кремль, Коломенское и многие другие достопримечательности с богатым прошлым. Если место действия выбирается из престижных или иных, не имеющих отношения к творчеству, соображений, то оно может не только помогать, но и мешать режиссеру и художнику в реализации идеи.
Сценографу совместно с режиссером ландшафтного зрелища необходимо точно спланировать не только очаг театрализованного действа, но позаботиться и о далеких подступах к нему с целью погрузить зрителя в нужную атмосферу. Важно произвести зонирование – распределение всего постановочного пространства по специфическим игровым зонам.
Координацию перемещений гостей праздника во многом облегчит обеспеченность информационной базой – указателями, специальными столбами-ориентирами, рекламными установками, другими информационными блоками, что не позволит растеряться в многолюдье.
* * *
Все рассмотренные нами приемы визуализации жанрово-стилевого единства не исчерпывают творческо-поисковую работу над созданием целостного действа. Во многом успеху сопутствуют талант и труд, кропотливое изучение многих тонкостей театрального искусства. Расставленные «вешки», ориентиры направляют лишь по одному из путей образного решения постановочного проекта.
