
14.1. Вводные замечания.
Рекомбинационные генетические карты основаны на одном единственном явлении – кроссинговере в профазе мейоза. Их популярность в течение почти сотни лет основана на том, что кроссинговер «по умолчанию» более или менее равномерно распределен по физической длине хромосомы, так что рекомбинационные расстояния более или менее отражают расстояния физические. Сейчас нам предстоит выяснить, в какой именно мере они отражают и какие именно физические расстояния, а также рассмотреть вопрос шире – какими факторами определяется частота кроссинговера. Последний вопрос распадается на два – от чего зависит интенсивность кроссинговера в целом и от чего и каким образом зависит его интенсивность на том или ином участке хромосомы.
14.2. Факторы, влияющие на интенсивность кроссинговера в целом.
Существует много факторов, влияющих на интенсивность кроссинговера в целом. Многие из этих факторов, во-первых, повышают интенсивность кроссинговера, во-вторых, одновременно повышают и вероятность разрывов ДНК. Это заставляет нас предположить, что механизмы кроссинговера имеют нечто общее с механизмами репарации ДНК; как мы увидим в дальнейшем, это предположение справедливо.
Так, интенсивность рекомбинации повышается при увеличении концентрации кальция и при облучении рентгеновским излучением. У дрозофилы рентгеновское излучение не только увеличивает интенсивность кроссоверной рекомбинации у самок, но и вызывает появление ее у самцов, у которых в норме кроссинговер отсутствует.
Как и следует ожидать, интенсивность кроссинговера зависит от такого универсального фактора, который ускоряет любые процессы, как температура. Нагревание куколок дрозофилы в возрасте около 12 ч способно увеличить интенсивность кроссоверной рекомбинации почти в 30 раз. Однако влияние температуры на кроссинговер далеко не однозначно, поскольку оказалось, что так же увеличивает интенсивность кроссинговера и пониженная температура. Так, у дрозофилы есть сцепленные локусы b и pr , частота рекомбинации между которыми составляет при 13оС 13.5%, при 22оС 6,4% и при 32оС 15,8%.
Получается, что интенсивность кроссинговера имеет минимум при оптимальных температурах. Это дает основания для предположений как о механизме, так и о смысле такого эффекта. Механизм мог бы быть завязан на какой-то белок, условно называемый «антирекомбиназой», который при оптимальной температуре связывается с ДНК или белками хроматина профазных хромосом и препятствует кроссинговеру. Функция такого белка могла бы иметь температурный оптимум, связанный с достижением его рабочей конформации, подобно тому, как подобный оптимум существует для функции любого фермента. Такой белок, SRS2, был действительно открыт у дрожжей. Как мы увидим ниже, существуют механизмы, обеспечивающие дифференциацию интенсивности кроссинговера по длине хромосомы, причем обеспечивают они это за счет ее избирательного подавления по сравнению с некоей интенсивностью «по умолчанию». Поэтому какая-то «антирекомбиназа» судя по всему существует у всех эукариот, являясь мишенью факторов, влияющих на рекомбинацию.
Смысл же эффекта может быть усмотрен в том, что в условиях, далеких от оптимальных, повышенная кроссоверная рекомбинация может быть эволюционно выгодна, поскольку повышает вероятность возникновения новых сочетаний аллелей сцепленных локусов, среди которых могут оказаться и благоприятные в новых условиях. В связи с этим довольно давно дискутируется вопрос о том, не повышает ли интенсивность рекомбинации вообще любое стрессирующее воздействие, вплоть до стресса на уровне нервной системы. Однако даже известный сотрудник нашего института Павел Михайлович Бородин, некогда бывший большим сторонником этой идеи, в настоящее время относится к ней довольно скептически.
В условиях движущего отбора интенсивность рекомбинации действительно может лимитировать скорость адаптации за счет появления удачных сочетаний аллелей разных локусов. Как известно, при доместикации растения и животные подвергались достаточно интенсивному отбору (преимущественно бессознательному) на нужные человеку признаки, и мы можем ожидать, что у культурных растений и домашних животных интенсивность кроссинговера окажется выше, чем у их диких сородичей, так как она «разогнана» интенсивным движущим отбором. Такие данные действительно имеются для домашних животных. Мне довелось скрещивать диких и культурных представителей посевного гороха со стандартной тестерной линией, гомозиготной по цепочке сцепленных рецессивных маркеров V группы сцепления. При этом получались гибриды F1, у которых только один гаплоидный набор хромосом происходил от диких либо культурных форм, а другой был «стандартный». Тем не менее, у гибридов первого типа рекомбинация между маркерными локусами была существенно ниже, чем у гибридов второго типа.
Зафиксирована также положительная, хотя и не очень сильная, зависимость между интенсивностью кроссинговера и продолжительностью генерации у разных организмов.
Ее смысл находится в том же русле: чем длиннее генерация, тем реже клетки зародышевого пути проходят через мейоз, в котором возможна рекомбинация между аллелями сцепленных локусов, стало быть, тем интенсивнее эта рекомбинация должна быть, чтобы обеспечить примерно ту же скорость рекомбинации во времени, приемлемую с точки зрения скорости адаптивных процессов.
В то же время еще одно априорное ожидание – что частота рекомбинации будет положительно коррелировать с плодовитостью, чтобы минимизировать конкуренцию между потомками – не подтвердилось.
В учебнике И.Ф. Жимулева приведены неожиданные данные, полученные в 80х годах в группе Ашбёрнера, о влиянии на интенсивность кроссинговера возраста самки дрозофилы. Оказалось, что она зависит не от возраста как такового, а от «длительности половой жизни» - через 2-4 дня после ее начала она падала, а потом восстанавливалась до прежнего уровня.
Любопытным фактором, влияющим на общую интенсивность кроссинговера, является пол. У самцов дрозофилы кроссинговер вообще отсутствует как явление, то же самое и у самок бабочек. Возможно, такое выключение рекомбинации у гетерогаметного пола либо понадобилось, чтобы исключить редкую рекомбинацию между жизненно необходимой Х (Z) хромосомой и теряющей свое генетическое содержимое Y (Z) хромосомой, когда они еще сохраняли значительную гомологию, либо, наоборот, было одним из факторов становления двуполой системы, обеспечивая то самое исключение рекомбинации между будущими половыми хромосомами гетерогаметного пола.
У гетерогаметного мужского пола человека кроссинговер не исключен, но его интенсивность по всему геному снижена примерно вдвое по сравнению с женским полом (привет Вигену Артаваздвичу Геодакяну с его экспериментальным характером мужского пола). Из этого в частности следует, что общая длина рекомбинационной генетической карты у мужчины (2809 сМ – в среднем 56 хиазм) оказывается вдвое меньше, чем у женщины (4782 сМ – в среднем 96 хиазм). Это отражает так называемое (и также одно из многих с таким названием) правило Холдэйна, которое гласит – если у одного из полов рекомбинация подавлена, то это всегда гетерогаметный пол.
Обратим внимание на то, что количество хиазм у мужчин близко к количеству хромосомных плеч в гаплоидном наборе. Одна хиазма на плечо – это необходимый минимум для нормального протекания метафазы и анафазы I деления мейоза. Получается, что у мужчин кроссинговер подавлен практически до технически минимально возможной его интенсивности.
Любопытный эффект оказывает добавление в кариотип самки дрозофилы У-хромосом. Каждая добавленная У-хромосома увеличивает общую интенсивность кросинговера на 2-3%. Напомним, что из полезного генетического содержания У-хромосома дрозофилы несет лишь некоторые гены самцовой фертильности. Такой же эффект оказывает и добавление в кариотип В-хромосом, которые вообще не имеют осмысленного генетического содержимого, причем эффект исчезает при добавлении четного количества В-хромосом и появляется при добавлении нечетного. Можно предположить, что лишние хромосомы оттягивают на себя определенное количество некоего химического, скорее всего белкового фактора, присутствующего в ядре в ограниченном количестве и подавляющего интенсивность рекомбинации – все той же гипотетической антирекомбиназы. Объяснение эффект четности В-хромосом следует искать в том, что в профазе мейоза спаренные хромосомы оттягивают меньше гипотетического фактора, чем неспаренные.
14.3. Митотический кроссинговер и сестринский хроматидный обмен.
Чтобы рассмотреть рекомбинационную дифференциацию хромосом – то есть распределение интенсивности мейотического кроссинговера вдоль хромосомы, нам следует сначала сопоставить между собой разные типы генетических карт. Но для этого мы сначала должны ознакомиться с таким явлением, какмитотический кроссинговер.
Этого явление состоит в том, что обмен гомологичными участками гомологичных хромосом может происходить не только в профазе мейоза, но и в ходе обычного митотического клеточного цикла в соматических клетках. Возможно, его следовало бы назвать не митотическим, а «соматическим кроссинговером». Митотический кроссинговер является редким явлением, он происходит на 2-3 порядка реже, чем мейотический и, в отличие от него, является скорее аномалией, чем процессом, специально возникшим в эволюции.
Впервые с митотическим кроссинговером столкнулся Бриджес в 1925 г. Он работал с самками дрозофилы, гетерозиготными одновременно по доминантной мутации Minute-n (Mn), находившейся в одной Х-хромосоме, и по нескольким рецессивным мутациям, находившимся в другом ее гомологе. Таике мухи, естественно, имели фенотип Mn, заключающийся в уменьшенных щетинках. (Такой эффект дают многие мутации, тогда как генетический символ Minute-n в настоящее время не используется, он отсутствует в базе flybase.org; по-видимому, была доказана аллельность той мутации некоему локусу, получившему свое название ранее). Однако Бриджес обнаружил на теле мух пятна, где исчезал фенотип Mn и одновременно проявлялся фенотип рецессивных мутаций. Он решил, что в каких-то клетках организма доминантная мутация по какой-то причине элиминирует несущую ее хромосому, так что рецессивные мутации оказываются в гемизиготе. Суть же явления выяснил в 1936 г. К. Штерн, изучая самок дрозофил, гетерозиготных по рецессивным мутациям двух локусов Х-хромосомы, с которыми мы уже встречались: yellow (y) и singed (sn). Это оказалось возможным потому, что, в отличие от предыдущего случая, в опыте Штерна мутации находились в фазе отталкивания, то есть одна Х-хромосома несла в двух локусах аллели y +, а другая + sn.
Такие мухи имеют генотип Y y Sn sn и нормальный фенотип. В своем опыте Штерн наблюдал на теле мух одновременно по два близкорасположенных участка, один из которых имел фенотип y (желтая окраска), а другой – фенотип sn (опаленные щетинки). Такие участки появлялись всегда по два и были названыблизнецовыми пятнами. Тот факт, что в этом случае образовывалось сразу два пятна с разными признаками, подсказал Штерну правильный ответ - такой результат произойдет, если в процессе размножения соматических клеток в Х хромосомах произошел разрыв между локусами y и sn и его воссоединение крест-накрест, как это имеет место при мейотическом кроссинговере.
Клеточный цикл включает фазы, в которых каждая хромосома представлена либо одной хроматидой (фаза G1), либо двумя хроматидами (фаза G2), либо, в процессе репликации, частично одной, а частично двумя (S-фаза). Феномен близнецовых пятен говорит нам, что, подобно мейотическому кроссинговеру, митотический кроссинговер происходит на стадии четырех хроматид, так как предполагает, что в одну клетку должна попасть кроссоверная и некроссоверная хроматида. На стадии двух хроматид гетерозиготный генотип клетки никак бы не поменялся и был бы просто воспроизведен в S-фазе.
Должно заметить, что у двукрылых митотический кроссинговер облегчается тем, что их гомологи находятся рядом и пребывают в выровненном состоянии в том числе и в интерфазном ядре. Но митотический кроссинговер и близнецовые пятна встречаются и у других организмов. На следующей фотографии изображены близнецовые пятна на поверхности семени кукукрузы.
Митотический кроссинговер имеет такую же U-образную зависимость от температуры, как и мейотический кроссинговер, и частота его также возрастает под воздействием факторов, провоцирующих разрывы ДНК. Со всей очевидностью, соматический кроссинговер является всего лишь побочным продуктом механизма репарации двунитевых разрывов. Такие разрывы, не имея нужной матрицы в самой разорванной молекуле ДНК, могут репарироваться только по матрице гомологичной ей ДНК, то есть ДНК гомологичной хромосомы или сестринской хроматиды. Этот процесс включает расплетание двух цепочек такой молекулы ДНК и гибридизацию одной из них с одной из цепочек разорванной молекулы, с последующим воссоединением последней. В тех случаях, когда разрывы залечиваются «неправильно», мы и имеем митотический кроссинговер.
Справедливость этих утверждения подтверждается явлением сестринского хроматидного обмена, аналогичного митотическому кроссинговеру, но заключающегося в том, что гомологичными участками обмениваются сестинские хроматиды. Поскольку они генетически идентичны, сестринский хроматидный обмен не имеет фенотипического проявления, однако его можно констатировать напрямую, если каким-то образом пометить сами хромосомы. Как мы помним, это можно сделать при помощи радиоактивного мечения нуклеотидов: например, если инкубировать клетки с тимидином, содержащим тритий. Если длительность инкубации подобрана таким образом, что за это время успевает произойти только один клеточный цикл, меченый нуклеотид встраивается во вновь синтезируемую цепь ДНК каждой хромосомы в одной S-фазе. В силу полуконсервативного характера синтеза ДНК, вторая цепь остается немеченой, но за счет одной цепи метятся все хромосомы и хроматиды. После прекращения инкубации, следует подождать, пока пройдет еще один клеточный цикл и ДНК удвоится еще раз. При этом вновь синтезируемая цепь ДНК будет немеченой, и в каждой хромосоме она будет достроена по меченой цепи ДНК в одной хроматиде и по немеченой в другой. Таким образом, одна из хроматид окажется меченой, а другая нет, и это можно визуализовать, залив препарат хромосом фоточувствительной эмульсией. При этом можно увидеть, что некоторые хроматиды обменялись участками. Этот метод проиллюстрирован на рисунке ниже. S обозначает S-фазу клеточного цикла, M – митоз, цепи ДНК, включившие меченые тритием нуклеотиды показаны красным, справа внизу схематически представлена визуализация, где зерна серебра, проявленные из засвеченных кристаллов его бромида, схематически показаны черными куржками.

Впервые такую процедуру проделал в 1956 г. Дж. Тейлор.
Визуализация сестринского хроматидного обмена возможна и другим – химическим путем. Известно, что нуклеотид бромдезоксиуридин, не образующийся в организме в норме, будучи добавлен в пищу, скажем, дрозофилы, усваивается ею и способен замещать тимидин в молекуле ДНК без каких-либо особых последствий, в том числе и для гомологичного спаривания с аденозином. Поэтому если дрозофилу поместить на корм с высоким содержанием бромдезоксиуридина в течение двух клеточных циклов, или то же самое проделать с культурой клеток, то к концу этого периода каждая цепочка ДНК учетверится, и, в силу полуконсервативного ее синтеза, одна из каждых четырех идентичных цепочек будет старой и, соответственно, не будет содержать бромдезоксиуридина, а три остальные будут вновь-синтезированными и содержать бромдезоксиуридин. У такой ДНК есть свойство разрушаться под действием ультрафиолетового излучения. Поэтому если цитологический препарат хромосом клеток в конце опыта облучить таким излучением, сохранится только одна, изначальная, цепочка ДНК и ее будет видно после окраски на ДНК, а три вновь-синтезированные будут разрушены не визуализуются (это явление названо фотообесцвечиванием). В случае сестринского хроматидного обмена цепочка ДНК, не содержащая бромдезоксиуридина, окажется разорвана и разнесена в разные хроматиды одной хромосомы, что можно увидеть на препарате, как это схематически показано на следующем рисунке:
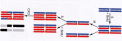
За счет сходства с костюмом известного комедийного персонажа, такие хромосомы были метафорически названы «хромосомами-арлекинами». Они изображены на следующем рисунке, где точки сестринского обмена помечены стрелками.
Сестринских обмен в соматических клетках – явление не такое уж и редкое, у человека за один митоз происходит 4-5 таких обменов на клетку. У человека в мейозе происходит 50-90 обычных (несестринских) кроссоверных обменов, так что интенсивность сестринского обмена всего в 10-20 раз меньше (при этом учтите, что мейоз в жизненном цикле происходит один раз, а сколько митозов – сложно сказать). А вот митотический кроссинговер происходит на 2-3 порядка реже мейотического, то есть на 1-2 порядка реже сестринского хроматидного обмена. Таким образом, в мейотическом и митотическом процессе наблюдается обратное соотношение предпочтительности сестринских и несестринских хроматид в качестве партнеров для обмена. Случай митотического кроссинговера, когда сестринская хроматида оказывается более предпочтительным партнером обмена, чем хроматида гомолога, представляется легко объяснимым, а именно за счет того, что сестринская хроматида заведомо находится ближе, а несестринская может быть достаточно далеко даже в условиях гомологичного спаривания в профазе мейоза. Меньшая доступность сестринской хроматиды для кроссинговера в мейозе связана с осевым элементом (не путать с центральным элементом, который формируется много позже) синаптонемного комплекса, о чем будет речь в свое время.
Мы видим, что митотический кроссинговер и сестринский обмен являются двумя сторонами одного и того же явления. Можно было бы предположить, что это явление происходит в S-фазе сразу после репликации, когда ДНК еще не упакована гистонами и прочими белками хроматина и разрывы наиболее вероятны. В частности, это предположение следует считать наиболее вероятным для случая, когда мы индуцируем сестринский обмен/митотический кроссинговер облучением или другими факторами, вызывающими двунитевые разрывы ДНК. Однако в норме скорее всего к этим разрывам причастны механизмы, действующие в прометафазе и ответственные за корректное разделение хроматид после того, как будут раскрыты когезиновые кольца. Многоуровневая упаковка хромосом может приводить к тому, что после S-фазы сестринские хроматиды окажутся перепутанными и их разделение может происходить по методу Гордия – разрезания и разрешения узлов с последующим залечиванием разрывов. Именно в этим случае могли бы возникать парные двунитевые разрывы в гомологичных участках сестринских хроматид, которые залечивались бы иногда крест накрест в пределах одной хромосомы, а еще реже - и крест-накрест с гомологом.
Появление кроссинговера в мейозе самцов дрозофилы при облучении рентгеновским излучением также, судя по всему, идет по механизму соматического кроссинговера.
Поскольку митотический кроссинговер интенсифицируется факторами, вносящими разрывы в ДНК, мы можем найти ему два применения. Первое связано с оценкой интенсивности действия этого самого фактора. На этом основании разработаны специальные тест-системы. Некоторые из них связаны с использованием сестринского хроматидного обмена в культурах клеток. Весьма наглядна тест система соматических мозаиков, реализованная на дрозофиле. Здесь оценка мутагенности воздействия производится посредством учета секторов в отношении фенотипов, влияющих на щетинки поверхности крыла, обширность и однородность которой предоставляет хороший полигон для наблюдений.
В данной системе в гетерозиготе в фазе отталкивания находятся две рецессивные мутации по сцепленным локусам хромосмы 3, multiple wing hair (mwh) иflare-3. Первая из них приводит к тому, что щетинки вместо того, чтобы расти по одной, растут по нескольку (делая поверхность крыла чем-то напоминающей шкурку на свином сале); вторая приводит к тому, что щетинки грубые и короткие. В случае митотического кроссинговера между одним из локусом и центромерой возникают парные близнецовые пятна с рецессивными фенотипами. На фотографии снизу слева показано нормальное крыло (на схеме слева), на фотографии в середине снизу митотический кроссинговер произошел между центромерой и локусом flr3 (на схеме справа вверху), что привело к формированию двух близнецовых пятен с фенотипами flr3 и mwh; на фотографии справа снизу он произошел между локусами mwh и flr3 (на схеме справа внизу), так что только аллели первого из них «обменялись центромерами», в результате чего возник лишь сектор, гомозиготный по mwh с соответствующим фенотипом
Второе применение митотического кроссинговера состоит в построении на его основе генетических карт. Поскольку его можно интенсифицировать облучением, мы можем получить достаточно большой массив данных по его частоте на разных участках хромосом. На этом основании можно строить генетические карты, аналогичные картам, построенным на основании частоты мейотического кроссинговера. Такие карты строят, используя в качестве расстояний между локусами частоты появления секторов на теле гетерозиготы, в которых тот или иной локус оказывается в гомозиготе. Эта частота служит расстоянием от центромеры до маркера.
Однако следует учитывать один подводный камень - в опытах по облучению гиперплоидных (с дополнительной хромосомой) сперматозоидов дрозофилы, проведенных в лаборатории Л.В. Омельянчука, было показано, что такой индуцированный митотический кроссинговер проявляет высокую положительную интерференцию, то есть выход двойных кроссоверов выше, чем если исходить из случайной модели – митотические кроссинговеры как бы притягивают друг друга. Спонтанный митотический кроссинговер, будучи очень редким событием с ничтожной вероятностью двух событий в одном и том же районе, интерференции не проявляет.
На таких картах, в отличие от обычных рекомбинационных карт, появляется такой важный маркер, как центромера: близнецовые пятна (или одиночные сектора, в зависимости от фазы, притяжения либо отталкивания, в которой аллели находятся в гетерозиготе) представляют собой позиционную информацию о том, что две рекомбинантные хромосомы были разнесены при делении клетки в две дочерние клетки, ставшие основателями клеточных клонов, видимых как близнецовые пятна. При этом разносятся именно центромеры, а все остальные части хромосомы следуют за ними постольку, поскольку они связаны с центромерами единой молекулой ДНК. Эта позиционная информация позволяет нам визуализовать центромеру в качестве генетического маркера. Точно так же, за счет наличия позиционной информации центромера является генетическим маркером в любом тетрадном анализе, например, у нейроспоры. Заметим, что при построении мейотических рекомбинационных генетических карт мы пользуемся потомством скрещиваний, в котором мы не можем отследить продукты одного и того же мейоза, то есть не имеем позиционной информации о центромере; поэтому мы не можем поставить ее на такую карту.
14.4. Сопоставление разных типов генетических карт
Выше мы убедились, что интенсивность мейотической рекомбинации непостоянна даже у одного организма, поэтому рекомбинационная дистанция между одними и теми же двумя локусами может изменяться. В то же время мы не можем забыть, что основой хромосомы является молекула ДНК, и локусы находятся именно в ней, так что между последними существует физические расстояния на молекуле ДНК, которые можно измерить в парах нуклеотидов. Эта величина, конечно, тоже может изменяться вследствие мутаций, связанных с изменением длины ДНК, но легко понять, что она гораздо более стабильна. Эти соображения ставят вопрос о соотношении двух обсуждаемых способов измерения расстояния между локусами. Вопрос можно сформулировать в терминах единиц измерения – сколько пар нуклеотидов составляют один сантиморган. Ниже мы увидим, что эта величина непостоянна даже на протяжении одной хромосомы, однако можно рассмотреть величину, усредненную по кариотипу данного объекта. Такие цифры, приведенные в следующей таблице, свидетельствуют, что эта величина варьирует в широких пределах:
Итак, мы с вами знаем уже два типа генетических карт – основанных на мейотическом и митотическом кроссинговере. Первые являются наиболее распространенными, так как их можно строить на основе расщепления признаков в потомстве скрещиваний, вторые представляют собой скорее экзотику, так как их построение возможно для немногих генетических моделей, предоставляющих возможность учета соматического мозаицизма по определенным локусам.
К ним можно добавить еще один вариант карт, в первом приближении физических, возможный у двукрылых и немногих других объектов (например коллемболы), имеющих политенные хромосомы. Политенные хромосомы формируются в некоторых клетках, характеризующихся очень интенсивным синтезом и секрецией белковых продуктов. Таковы слюнные железы личинок дрозофилы. Политенные хромосомы представляют собой интерфазные хромосомы, многократно реплицированные, но не разделенные митозом. В результате все реплицированные копии располагаются точно вдоль друг друга, формируя жгут определенной толщины, длина которого равна длине интерфазной хромосомы (ДНК в характерной для интерфазы белковой упаковке), а толщина пропорциональна плоидности. Политенные хромосомы имеют определенный рисунок оптически плотных и светлых участков – дисков и междисков – отражающих разные типы упаковки хроматина. Этот рисунок уникален для каждой хромосомы гаплоидного набора и более или менее стабилен в пределах вида.
Таким образом, политенные хромосомы как бы визуализуют нам интерфазную хромосомы. Накопив огромный материал по хромосомным перестройкам (делециям, дупликациям, инверсиям и танслокациям), генетики дрозофилы узнали с точностью до диска/междиска позицию многих локусов. Это дает возможность измерять физические расстояния между локусами по расстояниям между их позициями на политенных хромосомах.
На следующем рисунке сопоставлены три типа генетических карт.
Мы видим значительные несоответствия между ними. Так как митотический кроссинговер происходит в интерфазе, когда молекула ДНК имеет меньше уровней упаковки и эта упаковка (прежде всего за счет гистонов) довольно стандартна и равномерна по ее длине, его частота должна неплохо отражать физические расстояния на хромосоме, вернее на молекуле ДНК, составляющей ее основу. Такие генетические карты можно считать наиболее адекватными физическим.
Мы могли бы ожидать, что физические расстояния на политенных хромосомах должны полностью им соответствовать, однако видим, что последние несколько сокращены в районе центромеры (отмеченной на схеме черным прямоугольником). Это связано с тем, что так называемые гетерохроматиновые, то есть содержащие мало осмысленных генов и много тандемных повторов и плотно упакованные, районы хромосом, в политенных хромосомах недореплицированы(термин говорит сам за себя). Вместо того, чтобы быть тоньше, такой участок на политенной хромосоме оказывается короче.
Рекомбинационная генетическая карта еще более искажена по сравнению с таковой, построенной на основе митотического кроссинговера. Это связано с неравномерностью распределения кроссоверных обменов вдоль хромосомы, что мы рассмотрим в следующем разделе.
14.5. Распределение интенсивности кроссинговера вдоль хромосомы. Начало.
Выше мы принимали допущение, что удельная вероятность кроссинговера равномерна на всей длине хромосомы, то есть хромосома не дифференцирована по длине в отношении интенсивности кроссинговера. Как мы сейчас убедимся, это допущение в целом неверно, хотя иногда и может быть принято для большей части хромосомных плеч за исключением прицентромерных и прителомерных районов. По всей видимости, универсальный механизм кроссинговера индифферентен к конкретному участку хромосом, но на него накладываются дополнительные факторы, привносящие дифференциацию интенсивности кроссинговера вдоль хромосомы в целях стабилизации работы машины митоза и мейоза.
На следующем рисунке приведено распределение частот визуализованных флюоресцентной меткой посадок белка MLH1, неплохо маркирующего кроссоверные события, по длине хромосом обыкновенной бурозубки на стадии пахитены, когда хромосомы имеет степень компактизации, промежуточную между интерфазной (когда их не видно) и метафазной (когда длина плеч немногим больше их ширины) и тем самым удобную для измерений. Треугольник отмечает центромеру.
Мы видим, что вероятность кроссинговера падает до нуля в районе центромеры, но как правило близка к максимуму вблизи краев. Известный вам Павел Михайлович Бородин даже счел уместным сформулировать несколько «правил рекомбинации». Одно из них звучит как правило обязательного обмена, состоящее в том, что в мейозе на каждое плечо хромосомы должен приходиться хотя бы один кроссоверный обмен. Это правило непосредственно вытекает из механической функции кроссинговера: в метафазе первого деления мейоза гомологи удерживаются в бивалентах именно хиазмами, поэтому минимум один обмен на плечо – необходимое требование для нормального расхождения гомологов в этом делении.
Второе правило прителомерного пика между прочим указывает то, каким образом выполняется правило первое. Вблизи теломер наблюдается вероятность кроссинговера как правило максимальна. Это также выглядит оправданным, поскольку именно с теломер начинается опознание гомологами друг другом и их спаривание, таким образом именно в прителомерном районе гомологичные хромосомы раньше и дольше всех остальных контактируют друг с другом в мейозе. Именно здесь и имеет смысл организовать обязательный обмен.
Действительно, у некоторых организмов, например у ржи, имеются так называемые локализованные хиазмы – когда хиазмы с необходимостью образуются в прителомерных районах всех плеч всех хромосом, но нигде более. По всей видимости, эти организмы «находят уместным» свести кроссинговер к техническому минимуму. Заметим, что уже у пшеницы хиазмы не локализованы.
Третье правило рекомбинации – правило прицентромерного провала. Действительно, мейотическая рекомбинация в прицентромерном районе как правило резко подавлена. В хромосоме 2 дрозофилы рекомбинационное расстояние между локусами light (lt) и straw (stw) составляет 0,03-0,04 %, притом что между ними находится 16 млн пар оснований, а те же 16 млн пар между lt локусами clot (cl) в эухроматине оборачиваются расстоянием в 35%. Однако мутации по генамSu(var), белковые продукты которых задействованы в конденсации гетерохроматина, могут поднять рекомбинацию и в прицентромерном гетерохроматине, до 7 раз на рассматриваемом участке.
14.6. Неравный кроссинговер.
Прежде чем двигаться дальше, нам следует рассмотреть такое явление как неравный кроссинговер. С этим явлением впервые столкнулся в 1925 г. тот же самый Альфред Стертевант, который первым изучил и закономерности обычного, «равного», кроссинговера. У дрозофилы в Х-хромосоме имеется локус Bar. В настоящее время известен уже 71 его аллель, но последовательность до сих пор не расшифрована и молекулярная функция неизвестна. Стертевант же имел в своем распоряжении единственную полудоминантную мутацию Bar («палочковидные глаза»). У гемизиготных самцов и гомозиготных самок она приводила к сильной редукции глаза, у гетерозиготных самок глаз уменьшен в меньшей степени. Однако в чистой линии, гомозиготной по Bar, постоянно с некоторой вероятностью возникали ревертанты к дикому типу, и с такой же частотой возникали носители фенотипа «ultra-Bar», с дальнейшей редукцией глаза. Фенотипы, соответствующие разным генотипам в отношении Bar, показаны на рисунке (здесь «ultra-Bar» обозначен как BB).
Всякий раз появление аномальных особей (ревертантов и «ultra-Bar») сопровождалось кроссинговером между локусами, расположенными на Х-хромосоме по обе стороны от локуса Bar. Стертевант предположил, что мутация Bar представляет собой тандемную дупликацию участка хромосом. В мейозе гомозигот по ней повторенный участок гомологично спаривается, как и вся хромосома. Однако иногда может происходить ошибочное спаривание, при котором повторенный участок спаривается со сдвигом на повторенный участок. Если в этом месте произойдет кроссинговер, то он приводит к тому, что один гомолог получает единственную копию участка, а другой – тандемно триплицированный участок. Если фенотип Bar возникает вследствие удвоения дозы данного хромосомного фрагмента, то его утроение логичным образом приводит к еще более выраженному фенотипу, «ultra-Bar».
Когда были обнаружены политенные хромосомы, данная умозрительная гипотеза блестяще подтвердилась: рисунок дисков демонстрировал и дупликацию (в середине), и трипликацию (справа внизу) участка, в норме (слева и справа вверху) представленного в единственной копией.
В геноме эукариот широко распространены тандемные повторы, включающие сотни и тысячи копий идентичных или почти идентичных фрагментов ДНК, повторенных по принципу голова-к-хвосту. В таких районах неравный кроссинговер – обычное явление, тем более вероятное, чем больше копийность тандемных повторов. Он является одним из главных механизмов, ответственных за изменение этой самой копийности. (Другой механизм – проскальзывание на один повтор при репликации ДНК, slippage mispairing.)
14.7. Распределение интенсивности кроссинговера вдоль хромосомы. Продолжение.
Существование такого явления, как неравный кроссинговер (который есть кроссинговер «ошибочный») может объяснить нам снижение интенсивности кроссинговера вообще в прицентромерных районах, вплоть до его полного отсутствия в самих центромерах. Из курса цитологии вам должно быть известно, что собой представляют центромеры на уровне ДНК. Повторим в общих чертах. ДНК центромер весьма изменчива, но она всегда представлена тандемными повторами, сама по себе первичная структура которых не особенно важна. Оказалось, что центромера – это эпигенетическое образование из белков и РНК, которое при репликации хромосомы собирается в том же месте, что и на материнской хроматиде, но это всегда участок тандемных повторов. Если центромера утрачена, может активироваться «спящая центромера», фактически же это означает, что центромера собирается на наиболее подходящем из оставшихся тандемно повторенных участков ДНК. Для нас важно, что на уровне ДНК центромера всегда представляет собой тандемные повторы. А тандемные повторы являются «группой риска» для неравного кроссинговера, который может привести к изменению их копийности, в том числе и резкому. Таким образом, кроссинговер в прицентромерной области угрожает целостности и неизменности центромеры. Нарушение копийности повторов в центромерном участка хромосомы может привести к нарушению центромеры и, следовательно, механизма клеточного деления, как митотического, так и мейотического. В результате, в ходе длительного естественного отбора, поддерживающего структуру центромер, отобрались формы, у которых кроссинговер в прицентромерном районе подавлен.
По всей видимости, такой отбор постоянно действует у большинства эукариот и непрерывно поддерживает «прицентромерный провал». Есть основания полагать, что без отбора дифференциация интенсивности кроссинговера вдоль хромосомы исчезла бы и события кроссинговера распределялись бы «по умолчанию» равномерно.
Правило прицентромерного провала неуниверсально. У сумчатого гриба Podospora в прицентромерном районе рекомбинация, наоборот, увеличена. Это можно связать с известным фактом, что сумчатые грибы не имеют повторов в геноме и имеют специальным механизмы по борьбе с ними. Людмила Васильевна Высоцкая любит рассказывать, как во время летней практики они со студентами обнаружили у некоего клопа единственную одну обязательную хиазму в области центромеры.
П.М. Бородин рассказал мне, что как-то задался вопросом – чем определяется профиль рекомбинационной дифференциации хромосомного плеча, с прителомерным пиком и прицентромерным провалом – содержанием или положением, иными словами, привязана ли определенная интенсивность кроссинговера к определенной первичной структуре ДНК или же к определенному расстоянию до центромеры и теломеры. Как он утверждает, выяснилось, что никто до этого не искал ответа на этот простой вопрос. Тогда он со своим коллегой сделали простой опыт – проанализировали этот профиль у инверсии, при которой большая часть хромосомного плеча была повернута на 180о, при сохранении интактными центромеры и теломеры. Опыт дал однозначный результат – профиль определяется положением.
Следующее правило рекомбинации – правило светлого пятна, которое заключается в том, что рекомбинация идет более интенсивно в ГЦ богатых, эухроматиновых и богатых генами районах, чем в АТ-богатых районах гетерохроматина. Если биологический смысл рекомбинации, помимо механической функции в метафазе первого деленгия мейоза, состоит в генерации генетического разнообразия, то в этой закономерности есть определенный смысл – лучше перетасовывать гены и их части, чем тратиться на перетасовку бессмысленных участков. Кроме того, здесь, по-видимому, работает тот же очищающий отбор, что и в центромере: в гетерохроматиновых АТ-богатых районах часто встречаются и тандемные повторы, которые желательно «не трогать» рекомбинацией, чтобы их копийность не менялась с довольно большой скоростью за сет неравного кроссинговера.
14.8. Адаптивное подавление кроссинговера в некоторых районах.
Вполне реальны и эволюционные ситуации, когда на снижение рекомбинации в каком-то районе хромосом может быть направлен и вектор естественного отбора. Этим можно закрепить какие-то эволюционно-выгодные сочетания аллелей сцепленных локусов. Здесь работает то же нехитрое правило – в стабильных условиях сочетания аллелей, «доказавшие свою адаптивность», выгодно сохранять, в нестабильных – наоборот, перекомбинировать.
В опытах по искусственному отбору удается существенно изменить интенсивность рекомбинации в определенных районах хромосом (частично это достигается за счет изменения общего уровня рекомбинации). Так, отбором на снижение частоты рекомбинации между локусами w и m у дрозофилы удалось снизить ее с 36% до 6% у одной отбираемой линии и до 0.6% у другой.
Эволюционной генетикой накоплен большой массив эмпирических данных, свидетельствующий о снижении или полном исключении рекомбинации между какими-то генами у одних видов по сравнению с другими.
Допустим, у прямокрылых одного из родов семействаTetrigidae окраска определяется 13 локусами, которые у одного из видов рекомбинируют, а у другого разбиты на две группы, наследуемые каждая как один локус, с 7% кроссинговера между ними, тогда как у близкого рода все они наследуются как один аллель.
Однако механизм такого подавления кроссинговера известен далеко не всегда. Как мы увидим в дальнейшем, довольно радикальным средством запирания кроссинговера являются инверсии нужного района, у гетерозигот по которым спаривание хромосом в инвертированном районе исключено. Такие инверсии должны иметь не слишком большую длину, чтобы исключить спаривание с образованием петли, что создает проблемы в анафазе первого деления мейоза – ацентрические и бицентрические хроматиды, подверженные разрывам и потерям. Если внутрь большой инверсии добавить вложенные инверсии, которые исключат протяженное спаривание с образованием большой петли, этот недостаток возможно преодолеть. У гетерозигот по таким перестройкам кроссинговер в инвертированном районе невозможен, у гомозигот он возможен, но не меняет комбинации аллелей. Минус этого «метода» исключения кроссинговера состоит в том, что это дорога в один конец, поскольку хромосомные перестройки необратимы. Кроссинговер уже не может быть восстановлен иначе, чем путем элиминации из популяции всех кариотипов, кроме одного, с потерей генетической изменчивости по вовлеченным в перестройку локусам.
Механизм «мягкого» исключения кроссинговера в каком-то районе под действием отбора на сохранение немногих комбинаций аллелей и восстановления нормальной интенсивности кроссинговера после снятия такого отбора неизвестен; он может быть связан с привлечением в структуру хроматина белка с функцией «антирекомбиназы». Однако именно такой обратимый механизм по-видимому чаще всего используется эволюцией.
В результате адаптивного подавления кроссинговера между сцепленными локусами они начинаются наследоваться как единый локус. Для такого блока полностью сцепленных генов был предложен и используется в эволюционной генетике термин суперген. Необходимо подчеркнуть, что это чисто генетическое понятие, указывающее на характер наследования, в него не вкладывается никакого молекулярного смысла. Комбинации аллелей генов, входящих в суперген, наследуются как один аллель. Для таких совместно наследующихся комбинаций аллелей разных генов, находящихся на одной нити ДНК, желательно использовать термин гаплотип. Это универсальный термин, широко применяемый и в молекулярной генетике, где в гаплотип включают также и последовательность некодирующих промежутков между генами - наверняка вы слышали о гаплотипах митохондриальной ДНК. (К сожалению, практика молекулярной генетики привела к неоправданному расширению и этого термина, когда гаплотипом стали называть последовательность нуклеотидов, или только лишь их вариабельных позиций, даже внутри одного кодирующего гена – то, что следует называть аллелем.)
Один из примеров дает нам примула разнотычинковая (Primula heterostylis). У нее совместно наследуются гены, ответственные за размер пестика, тычинок и пыльцы. Это не есть плейотропные проявления одного и того же гена, поскольку длина тычинок и пестиков не коррелирует. Напротив, сочетание разных длин тех и других позволяет примуле избегать самоопыления.
Однако наиболее впечатляющие примеры супергенов дает нам мимикрия у бабочек. Напомню, что это явление состоит в том, что либо малосъедобные виды имеют сходный облик для облегчения научения хищников их не трогать – это называется мюллеровская мимикрия, либо вполне съедобные виды приобретают облик несъедобных – это называется бейтсовская мимикрия (обе мимикрии названы по фамилиям описавших их ученых, Генри Бейтса и Ф. Мюллера). При этом чтобы бейтсовская мимикрия была успешна, численность мимика должна быть много ниже численности модели – иначе хищники не будут получать достаточно отрицательных подкреплений, чтобы научаться не есть бабочек определенного облика. Но эволюционный успех так или иначе сводится к численности вида, и при сильных ограничениях на численность мимикрия просто не составила бы адаптации. По сути, мимики являются паразитами на моделях, используя их «кредит недоверия», и сталкиваются с теми же проблемами компромисса между собственной пользой и интересами хозяина, что и обычные паразиты. Однако виды-мимики пошли по гораздо более сложному пути, приобретя впечатляющую альтернативную изменчивость, так что разные морфы одного вида-мимика похожи на разные виды-модели, таким образом перераспределяя свою численность между последними.
В наших широтах мимикрия встречается крайне редко – допустим, ночные бабочки-стеклянницы похожи на ос (бейтсовская мимикрия), а все белянки малосъедобны и имеют сходную белую окраску (мюллеровская мимикрия). Не следует забывать, что северная биота бедна и молода, так как ей приходилось несколько раз заново колонизировать свои территории после циклических похолоданий плейстоцена. Во-первых, у местных видов просто не было времени на то, чтобы реализовать такие адаптационные возможности. Во-вторых, по настоящему несъедобных бабочек достаточно мало, и на севере Евразии их просто не случилось. В тропиках мимикрия встречается на удивление часто. По-видимому, стабильные условия в древних сообществах позволяют сработать достаточно тонким эволюционным механизмам. Но и здесь моделями неизменно служат представители совсем немногих групп – Danainae и Troidinae в Старом и Новом Свете,Heliconiini и Ithomiinae в Новом Свете. Исследование бейтсовской мимикрии у тропических бабочек составили классику эволюционной генетики, наглядно продемонстрировав возможности естественного отбора, равно как и следствия его исчезновения.
Род Heliconius (семейство Nymphalidae) распространен в тропиках Нового Света и родственен нашим перламутровкам, входя с ними в одно подсемейство Heliconiinae, однако мало на них похож: это несъедобные очень стройные длиннокрылые бабочки с медлительным полетом и большой продолжительностью жизни. В пределах этого рода наблюдается и мюллеровская, и бейтсовская мимикрия. Рассмотрим три родственных вида этого рода, для которых были проведены генетические исследования.
Два вида, Heliconius melpomene и H. erato, встречаются совместно на большой территории Южной Америки, где распадаются на локальные подвиды. Внутри каждого вида географические подвиды весьма различаются друг от друга внешне, но на одной территории подвиды этих двух видов внешне почти идентичны, то есть географическая изменчивость одного вида в точности копирует таковую второго. Нетрудно понять, что мы имеем дело с мюллеровской мимикрией, так как два несъедобных вида стремятся быть неразличимыми, хотя в данном случае она осложнена внутривидовой изменчивостью, более обычной при мимикрии бейтсовской. Ученые пытаются реконструировать эволюционный механизм, который привел к такому удивительному явлению, но для нас сейчас важно как все это наследуется.
В результате скрещиваний между разными формами одного вида было выяснено следующее. У H. melpomene имеется:
- 3 тесно сцепленных локуса, ответственных за желтые и белые элементы окраски
- 2 сцепленных друг с другом, но не сцепленных с первой группой локуса, ответственных за красные элементы окраски
- еще 2 несцепленных локуса, ответственных за некоторые черты окраски.
Сцепление во всех этих локусах не абсолютное, все семь упомянутых локусов отделимы кроссинговером.
У H. erato – первая и вторая группы локусов наследуются каждая как один локус, то есть рекомбинация внутри каждой из групп подавлена полностью и они представляют собой супергены. При этом контроль желтой перевязи на переднем крыле переходит с первого супергена на второй.
Наконец, имеется и третий вид, Heliconius numata, совершенно не похожий на первые два, но эволюционно даже более родственный H. melpomene, чем H.erato, о чем свидетельствуют данные молекулярной филогении. У этого вида имеется 38 морф, каждая из которых имитирует разные виды несъедобного родаMelinea из другого подсемейства нимфалид, Ithomiinae. При этом до 11 морф может встречаться совместно на одной территории! Однако это в то же время и мюллеровская мимикрия, так как все эти бабочки несъедобны. Так вот, все эти типы окраски у H. numata наследуются как аллели одного локуса, с линейными отношениями доминирования одного над другим по принципу: черный цвет в данном месте крыла доминирует над нечерным, хотя из него и есть исключения. Родственность H. numata с H. melpomene подсказывает нам, что у них скорее всего имеется одинаковое количество генов, определяющих окраску (возможно, некоторые из них мономорфны), но если у второй мы можем наблюдать рекомбинацию между 7 локусами, то у второй все полиморфные гены окраски ведут себя как один суперген.
Эти замечательные бабочки изображены на следующем рисунке:
Следует сделать две оговорки.
1) Рисунок бабочек определяется немногими пигментами, биохимический синтез которых происходит без участия продуктов обсуждаемых генов, поскольку они так или иначе имеются у всех особей – полиморфизма в отношении самого присутствия пигментов не наблюдается и ответственные за их синтез гены не вовлечены в данный генетический анализ. Однако обсуждаемые гены реулируют синтез пигментов, то есть включают или выключают в данной зоне крыла экспрессию локусов, ответственных за их, являясь тем самым селекторными генами.
2) Природа обсуждаемых генов неизвестна. Они могут быть как отдельными кодирующими генами, то есть генами в молекулярно-биологичеком смысле, так и сайтами на протяженной регуляторной области одного кодирующего гена (подобного рассмотренному уже локусу scute дрозофилы), которые, пока рекомбинация между ними не подавлена, например у H. melpomene, ведут себя как разные локусы, то есть разные гены в классическом понимании. (Здесь я прибегаю к неопределенному термину «ген», а не «локус», поскольку в рамках проведенного генетического анализа термин «локус» может быть в одних случаях применен к отдельным таким «генам», а в других – ко всему супергену). Предположение, что хотя бы некоторые из данных генов суть лишь участки регуляторной зоны одного кодирующего гена выглядит более правдоподобным, поскольку а) автоматически делает гены, ответственные за окраску, сцепленными и б) на других группах бабочек было установлено, что за крыловой рисунок ответственны гены из того же класса hox-генов, которые участвуют в детерминации плана строения животных и для которых как раз характерны подобные протяженные регуляторные области.
Классическим объектом эволюционной генетики стала бейтсовская мимикрия у ориентального (т.е. свойственного Южной и Юго-Восточной Азии) парусника Papilio memnon (семейство Papilionidae, подсемейство Papilioninae), изученная в 60е годы. Самцы у этого парусника мономорфны, не проявляют мимикрии и выглядят так:
P. memnon
(кстати, это мое фото). Самки же полиморфны:
и мимикрируют под разные виды несъедобных парусников из рода Atrophaneura другого подсемейства (Troidinae). (Кстати, несъедобны они всего лишь из-за токсинов кормовых растений их гусениц из семейства кирказоновых.) Покажу их примеры на двух других сделанных мной в Таиланде фотографиях: Atrophaneura coon:
и Atrophaneura nox:
На следующей картинке самки трех форм P. memnon (справа) сопоставлены со своими моделями из рода Atrophaneura (слева):
Всего у P. memnon обнаружено 26 морф самок, однако лишь немногие из них встречаются совместно. Следует помнить, что ареал этого вида огромен и на его протяжении вид распадается на несколько подвидов. Как правило, в пределах подвида морфы проявляют большое сходство со своими моделями, а по отношению друг к другу проявляют полное доминирование (в противном случае фенотипов получалось бы слишком много и их было бы нелегко подогнать под модели). В гибридных зонах между подвидами сходство с моделями нарушается и появляется неполное доминирование. Скорее всего это связано с тем, что в пределах подвидов внешность бабочек и экспрессия контролирующих ее генов доведена до совершенства подбором многих генов-модификаторов, а в зонах контакта модификаторы, накопленные у одного подвида, сталкиваются с «главными генами» другого подвида, что приводит к непредсказуемым результатам. А на Яве и Суматре две морфы проявляют неполное доминирование и гетерозигота оказывается большим мимиком, чем обе гомозиготы, то есть имеет место ситуация сбалансированного полиморфизма.
Размывание мимикрии на стыках подвидов и тем самым ослабление связанных с ней адаптивных преимуществ приводит к ослаблению естественного отбора, в частности направленного и на подавление кроссинговера в супергенах. В результате на стыках подвидов появляются редкие морфы окраски, которые оказывается возможным интерпретировать как кроссоверы. Анализ таких особей привел ученых к выводу, что суперген, определяющий внешность самок, содержит как минимум 5 локусов, расположенных в следующем порядке относительно фокуса своего действия: хвосты на заднем крыле - окраска заднего крыла – окраска переднего крыла – базальные треугольники на переднем крыле - тело.
В Африке распространен другой известный мимический парусник, Papilio dardanus, у которого существует 4 формы самцов и 9 самок, внешность которых наследуется как определяемая одним локусом. В данном случае также остается неизвестным, суперген ли это или регуляторный ген со ступенчатым аллелизмом.
ЛЕКЦИЯ 16. ХРОМОСОМНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. (незавершенный черновик!)
О.Э. Костерин, ИЦиГ СО РАН и ФЕН НГУ, Новосибирск, 2012 г.
