
- •Сергей Александрович Морозов Творческая фотография
- •Часть I. В культуре XIX – начала XX веков
- •Глава 1. Ранняя пора
- •Глава 2. В традициях живописи
- •Глава 3. На пути к самостоятельности
- •Глава 4. Новое сближение с живописью и графикой
- •Часть II. В ряду современных искусств
- •Глава 5. Две ветви новаторства
- •Глава 6. Путь современного реалистического фотоискусства
- •Глава 7. Реальность и фантазия
Глава 7. Реальность и фантазия
Традиции, обновляемые техникой
Многие жанры фотографии остаются неминуемо связанными с построением изображения на плоскости по правилам, устоявшимся в реалистических изобразительных искусствах.
Это съемка портретов, пейзажей, объектов архитектуры, интерьеров, натюрмортов, а нередко и жанровых сюжетов. Специальные и популярные иллюстрированные журналы, фотокниги, знакомящие с жизнью стран, бытом народов, а так же выставки, организуемые для ознакомления зрителей с какой-либо отраслью культуры и общественно-научной деятельностью, всегда нуждаются в такой продукции профессиональной фотографии. Образцово выполненные снимки в перечисленных выше жанрах находят свое место и на стендах выставок творческой фотографии.
Жанр художественного студийного портрета издавна неотвратимо связан с заимствованиями из живописи или графики. Современный студийный портрет более других жанров близок произведениям фотопортретистов ранней поры светописи. Передача сходства с неизбежным налетом приукрашивания, с приданием надлежащих поз моделям, в зависимости от профессии, пола, возраста фотографируемых людей, и даже некоторые приемы обработки позитивов остаются малоизменяемыми. Конечно, теперь выдержка при съемке равна ничтожным долям секунды, мгновенно схватываются выражения лица, больше возможностей работы со светом, но целевая установка жанра остается той же. Опыт репортажной съемки оказывает свое влияние, но закон жанра студийного портрета, даже вбирая этот опыт, остается малоизменяемым.
Выдающиеся мастера подобного "станкового" портрета и не скрывают связи своей работы с опытом живописцев (особенно в цветной фотографии).
Портрет Анны Ахматовой выполнен портретистом Моисеем Наппельбаумом в первой половине 20-х годов (204). Изящная студийная работа. Женский портрет французского фотографа Вито Манфредини "Мария" выполнен в 50-х годах (405). Другая манера. Сказывается поворот к стилям жанровой фотографии (Манфредини – мастер и репортажно-жанровой съемки). И все же остается эстетическая связь с традициями пикториальной светописи начала века.
Портрет знаменитого русского скульптора Сергея Тимофеевича Коненкова (399) выполнен известным московским фотожурналистом и фотохудожником Исааком Тункелем в графическом стиле. Применена техника съемки и печати в светлой тональности.
Американец Ирвинг Пэнн (р. 1917) также мастер старшего поколения. Снимал в условиях ателье людей разных профессий, снимал с социальной характеристикой. Видный американский мастер известен, однако, больше портретами художников, актеров. Ирвинг Пэнн обратил на себя внимание и искусством стилизации снимков под манеры живописи.
Выразителен портрет его работы Софи Лорен (407). Своеобразна смелая интерпретация. Сравним для наглядности это изображение со снимком итальянской киноактрисы, выполненным советским фотожурналистом Валерием Генде-Роте в зале ожидания московского аэропорта (406). Едва ли не полярны трактовки образа Софи Лорен в этих снимках – студийном и репортажном.
Венгр Иштван Тоот – мастер студийного портрета. Он знает, что работает в пору расцвета репортажной светописи (404), но остается мастером, не изменяющим и искусству пикториального фотопортрета.
Канадский портретист из Оттавы Юсоф Карш – создатель галереи портретов знаменитых людей из мира культуры, искусства и политики. Работая в пору подъема репортажного метода съемки, он остается представителем классической светописи. Свет в его руках – средство драматической, психологической, иной раз лирической характеристики образа. Карш – мастер гармонического сочетания светотени, линейного и тонального рисунка с психологическим содержанием в изображении людей. Композитор Ян Сибелиус, дирижер Леопольд Стоковский, ученый Альберт Эйнштейн, философ Бертран Рассел, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру – такова его галерея индивидуальностей. Фотограф искусно сочетает разнообразные приемы "станковой" съемки в ателье с техникой репортажно-моментальной съемки. Юсоф Карш не изменяет жанру портрета, как он трактуется в изобразительных искусствах, несмотря на приметы "репортажного видения"; он близок в некоторых своих работах даже романтическому стилю Джулии Кэмерон. В книге представлен его портрет писателя Эрнеста Хемингуэя (408).
Известный московский портретист Василий Малышев (р. 1900) также придерживается традиционной формы в портрете и черно-белом, и цветном. Он с большим тактом и вниманием передает облик, характер моделей. Фотографируя вне студии, в обстановке домашнего интерьера, заводского цеха или колхозной фермы, Малышев верен принципам студийной съемки, хотя до перехода на жанр портрета он, как фотокорреспондент, десятилетия работал в области актуального событийного репортажа (Малышев, 1981).
Жанр студийного портрета неизбежно обязывает фотохудожников в той или иной мере вторить живописи, графике, но он обогащается, однако, и чисто фотографическими приемами, подсказываемыми все новыми возможностями техники.
В пейзажном жанре – как в ландшафтах с захватом в поле зрения большого пространства, так и в лирических, фрагментарных снимках – также живут приемы картинной композиции.
Анатолий Скурихин – фотожурналист публицистического склада, автор многих известных как репортажных снимков, так и снимков-композиций жанрового характера, еще в 30-х годах показал себя страстным любителем пейзажной съемки. Серии его русских пейзажей вошли в ценный фонд советской художественной фотографии, он пользовался обновленными приемами композиции (206). Но его пейзажи прежних лет обретают как бы новую жизнь на выставках и в альбомах наших дней.
Нельзя не считаться с потребностью глаза наблюдать уравновешенность, наслаждаться красивым, дивиться совершенству линий, форм, – будь то одинокое дерево, излучина реки, цветущий куст, дюна, силуэт горного хребта, безбрежность пространства. Фотография доносит до нас эстетизированную информацию о зримых достоинствах неживой и живой природы.
Создается впечатление, что мастера такой фотографии полагаются на время: проходят поветрия моды, а традиционные связи с опытом классического искусства остаются крепкими. Они продолжают работать в выверенной манере. Тем более что с развитием полиграфии и культурного обмена спрос на такого рода снимки увеличивается.
Жанр фотопейзажа ныне необычно раздвинул свои границы. Современные фотографы изучают земли, водные пространства и "вторую природу", создаваемую на земле руками человека, с такой же страстью, с какой художники эпохи Возрождения изучали заново открываемое искусством человеческое тело. Очертания берегов рек, вспаханных полей, силуэты заводов, линии плотин, каналов – все стало материалом для выразительных снимков. Оставаясь даже на позициях пикториальной фотографии, пейзажисты иной раз вносят в снимки движение, игру или драматизм светотени.
Белый конь с развевающейся по ветру гривой на фоне тревожного штормового неба и живописной местности – таков сюжет снимка американского фотографа Билла Эприджа "В бурю" (411). Признаки пикториальной романтической светотени сочетаются в нем с признаками моментальной фотографии.
Смелый по рисунку светотональных пятен, обобщенный, метафорический образ дан в пейзаже "Купание солнца" фотографа-художника Алексея Перевощикова. Объективом выхвачен "фрагмент" местности, освещенной солнцем. Применен чисто фотографический ракурс (409).
Совершенная техника фотографии позволила по-новому классифицировать разновидности традиционных жанров в искусстве. Сменные объективы разного фокусного расстояния – широкоугольные, до уникума – "рыбьего глаза", с его охватом пространства на 180°, и телеобъективы в 500 и 1000 миллиметров, выбор неожиданных ракурсов при съемке, применение трансфокатора, избрание части вместо целого, не говоря уже о множестве приемов лабораторной обработки негатива и позитива, – все это позволяет реализовать замыслы конструктивно, с желаемой эмоциональной окраской. Фотографы 60-70-х годов продолжают в этом отношении линию новаторства, начатую фотомастерами 20-30-х годов. Преемственность здесь очевидна. Но традиции пикториальной художественной светописи нередко уступали первенство новым фотографическим изобразительным приемам.
Возьмем, к примеру, снимок в жанре обнаженной натуры английского фотографа Билла Бранда (413), относящийся к 50-60-м годам.
Билл Бранд (р. 1905) – преемник традиций новаторства, идущих от Ман Рея; позже он испытал влияние Картье-Брессона, занимался репортажной съемкой. Бранд снимал и снимает портреты, архитектуру, ландшафты. И все же в жанре обнаженной натуры он пошел дальше других мастеров. Его экспериментальное изучение перспективы при съемках человеческого тела привело к созданию своей манеры. Эта манера резко отличается от традиций салонной фотографии, она шокировала и даже ныне шокирует сторонников и защитников принципов художественной фотографии. Но она вписалась в общий процесс обновления фотографического языка. Билл Бранд своим ниспровержением классического представления о жанре обнаженной натуры стал широко известен еще в 50-х годах. Широкоугольный объектив, дающий преувеличенный перспективный рисунок тела, гипертрофия в изображении – бунтарское утверждение "антикрасоты" в жанре обнаженной натуры возымело свое действие. Билл Бранд нашел немало последователей. Но традиционное влечение к красоте в этом жанре остается неопровергнутым.
Манера съемки фрагментов человеческого тела у многих фотографов близка поэтике Б. Бранда. В известной мере это продолжение линии раскрытия "новой предметности". Такие снимки делаются в смелых ракурсах, широкоугольным объективом крупным планом; иногда они очень экспрессивны, с точной, натуралистической проработкой фактуры кожи, при своеобразно драматизированном освещении. Кому такие снимки покажутся неприятными для глаз, кому – удивляющими, как малые открытия, кому – аттракционной игрой. Разное может быть прочтение подобных снимков.
Использование объективов с разным, иногда предельным фокусным расстоянием теперь стало обычным; зрители привыкли воспринимать такие снимки как прямое, непосредственное отражение реальности, хотя деформации в рисунке, казалось бы, противоречат простому визуальному опыту.
Своеобразное "опытное поле" фотографии как нового в культуре, науке и искусстве метода видения и фиксации увиденного – жанр натюрморта, макро- и микросъемка. Понятие натюрморта в фотографии более расширенное в сравнении с классическим обозначением этого жанра в живописи. И здесь остается в силе вывод: живописец безмерно свободнее воплощает в этом жанре свой художнический замысел, но фотография обладает преимуществом в фиксации увиденного.
Натюрморт как жанр художественной фотографии занимает свое место в технике фотографирования вещей, предметов, деталей, фрагментов неживой, иногда и живой природы и творений рук человеческих.
Натюрморт может быть снят репортажным методом – информационно и эмоционально-содержательно. Еще в сериях Эжена Атже были подобные снимки. Подмеченное сочетание вещей в натюрмортах современных фотографов нередко раскрывает интересный жизненный подтекст. Предварительная режиссура в съемке натюрмортов бывает неизбежна. Примером фотографического художественного натюрморта может служить известный снимок Йосефа Судека (355). Натюрморт в наше время приобрел новую рабочую функцию в рекламных снимках.
Взглянем на снимок советского фотографа Александра Птицына "Нефть Сибири" (415). Это мастер съемки в смелых ракурсах. Способность журналиста – практика и экспериментатора – раскрылась в 60-х годах. Птицын, несомненно, познал влияние фотографов круга Александра Родченко. Снимок "Нефть Сибири" выполнен для репортажной серии на тему о нефтедобыче в новом нефтеносном районе, о новой забившей скважине; применен фотомонтаж. Форма обрела публицистическую содержательность.
Эксперименты фотографов разных стран находят место в повседневной практике. Порождаются признаки новых жанров, близких репортажной съемке. Используется и опыт мастеров прежних поколений. Как, например, в снимке московского фотолюбителя А. Слюсарева (321).
Многочисленные опыты показали, что фотообъектив может запечатлеть предмет, отдельно взятый или в сочетании с другими, и выдавать при этом большее количество информации о них, нежели получает глаз. Человек смотрит, но не все видит. В истории фотографии зарегистрированы уникальные случаи более зоркого видения с помощью фотоаппарата...
Можно считать творческими некоторые виды прикладной съемки, где чисто фотографические приемы позволяют по-новому, выразительно раскрывать мир вещей. Здесь кроется много возможностей для новаторских поисков. Так работают талантливые мастера в съемке произведений скульптуры, иногда в съемке архитектуры. Уместно вспомнить имя чешского фотографа Тибора Гонти, его мастерски выполненные серии снимков скульптуры (417).
И эстетическую, и научную ценность приобретает практика съемки с последующим увеличением, а то и сверхувеличением фрагментов живописных произведений художников, скажем, части лица, рук, ног, изображенных на картине человеческих фигур. Такая съемка не только помогает изучить технику письма живописцев, но создает "макрообразы"; в совокупности своей такие фрагменты картин усиливают представление и о картине в целом. Фотографический глаз и здесь устремлен не только на поверхность картины, но и во внутренний, духовный мир художника. Одно из проявлений "магии" фотографической техники!
Можно отнести к области эстетического редкие снимки, раскрывающие перед нами казавшиеся раньше недоступными, неведомыми и невидимыми картины микро- и макрокосма. Микроснимки вирусов, кристаллов (418), макроснимки перепончатых крыльев стрекозы, листьев растений, плодов, насекомых, – у кого подобные фотографии не вызывали глубоких эмоций?
Глаз фотообъектива-регистратора сообщает исследователю лишь фактические данные о природе, служит исследующим инструментом, проникающим в мир неизвестного. Иной же раз человек, изумленный увиденным, сопоставляет картину только что познанного с эстетически окрашенным восприятием явившегося перед ним откровения. Такое сопряжение сродни познанию природы художниками эпохи Возрождения, голландцами или живописцами XIX века. И. И. Шишкин в своем стремлении к точности воспроизведения русской природы кистью не уступал, а превосходил часто в подлинности изображения ландшафтов современного ему фотографа, проникающего в недра природы, недоступные глазу.
Немецкий микробиолог Роберт Кох еще в 70-х годах прошлого века советовал своим коллегам прибегать не к зарисовкам препаратов, а к микрофотографированию; он восхищался не только схожестью снимков с натурой, но и красивостью подобных снимков. От фотографирования с увеличением в десять, сто, тысячу раз нынешняя техника позволила перейти к съемке с увеличением в миллионы раз. Нередко микрофотография увековечивает картины мира бесконечно малых величин, быстро исчезающие. Она запечатлевает красоту преходящего, недоступную кисти художника. В этом отношении микрофотография сопоставима с моментальной репортажной съемкой явлений и событий жизни, неизбежно поглощаемых временем, но как бы консервируемых фотообъективом – инструментом памяти истории и науки.
При репродуцировании снимки из микромира увеличиваются еще в десять, сто раз. Уловленное прекрасное мгновенье, выхваченное из недр живой или неживой природы, становится экспонатом выставок наравне с произведениями художественной фотографии.
Творческой, а не только научно-регистрирующей техникой стала фотография, использующая электронные виды светильников – электронно-импульсные лампы, "ручные молнии". Посмотрим еще раз на фотографию 1936 года американского ученого (конструктора подобного светильника) Гарольда Эджертона "Капля молока" (218), поражающую соразмерностью форм.
Восприятие изображений микро-макропрепаратов побуждает к метафорическим ассоциациям. И невозможно в таких снимках провести границу между познанием сугубо научным и близким эстетическому. Сочетания линий, форм рассматриваемых объектов живой и неживой природы дарят нам что-то новое из ее мира (419, 420-423). Допустимо сделать и такой вывод: стремление иных фотографов путем соответствующей съемки и последующих лабораторных манипуляций с негативом и позитивом получать снимки, схожие с опусами художников-абстракционистов, как и любое подражание, есть явление вторичное. Оно подсказывается не природой фотографии, а престижными устремлениями фотографов во что бы то ни стало прослыть художниками под стать абстракционистам. Глаз же фотообъектива, проникший в недоступный нашему глазу микро- и макромир природы, открывает чисто фотографические возможности видения этого мира, по сути своей реалистические. Таково в этом жанре и призвание фотографии. Уместно вспомнить, что греческое слово "космос" означает вселенную и также красоту. Греки противопоставляли космосу "хаос" как понятие беспорядочности и отсутствия красоты.
Человек с помощью инструментов науки расширил представление о действительности. В орбиту его мысленного взора входят картины вселенной и микромира. Он сумел увидеть недоступное глазу, а фотография позволила запечатлеть это недоступное в зрительных образах. Прекрасное есть жизнь – учит материалистическая эстетика. Расширив пределы видимого, человек любуется прекрасным в жизни открытого им мира, бесконечно большого и бесконечно малого.
Сходно с этим жанром скромное, но достойное поэзии ответвление макрофотографии – съемка совершенно нефотогеничных объектов, полюбившаяся метафорически мыслящим фотографам – профессионалам и любителям. Таких, как плесень на старой стене, выщербленные стены с отпавшей штукатуркой, паутина на кусте, куски коры дерева, замшелые надгробия на кладбище, осколки разбитой скульптурной фигуры, придорожные знаки или покосившиеся столбики изгороди.
Подобного рода фотоснимки с конца 50-х годов стали все чаще появляться на страницах иллюстрированных журналов, на стендах выставок. Они оказались сродни жанровым снимкам из повседневной жизни человека. Здесь фотографы обращают внимание на вещественную реальность структур, на конгломерат предметов, который теряет рациональную взаимосвязь. Иной раз это покинутые человеком вещи, что придает им новый смысл; само время, сокрушающее привычное значение атрибутов жизни, становится как бы содержанием таких снимков. Лучшие из подобных работ дают стимул для поэтического, метафорического восприятия летучих образов. Как это ни странно, и микроснимки иных кристаллов, химических структур вызывают метафоры аналогичного характера. И здесь фотографы, порой неожиданно для себя, выступают поэтами!
Остались сведения, будто великий Леонардо да Винчи советовал развивать образное видение, всматриваясь в рисунки облаков, узоров золы, пятен на стенах. Так видят многие дети, но подобная забава близка и поэтам. Да и забава ли это?
В цикле стихов "Тайны ремесла" Анны Ахматовой есть такие строки:
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.
Так и с помощью фотоаппарата можно увидеть: в обнаженном корне дерева – лесного карлика, в паутине – роскошное ювелирное изделие, в стволе дерева – торс, в нависшем грозовом облаке – всадника, а то и Конька-горбунка. Все это своего рода лирика фотографа, подобная метафоричность свойственна творческой фотографии.
Брассаи, увлеченный поисками образности в предметах, не замечаемых глазом, сфотографировал серию фрагментов стен старых парижских домов. Он снимал в цвете. Чем-то его работы напоминают этюды в духе беспредметной живописи. Напоминают, но не более того. Трудно найти большую реальность, чем вещественная структура стен, послужившая объектом съемки маститому фотографу-художнику нашего времени.
Приводимые в книге иллюстрации разных авторов нескольких стран, хотя и в малой степени, но отражают приемы творческого использования возможностей специальной техники фотографирования. Требует пояснения снимок (416), который служит иллюстрацией к работе швейцарского ученого и художника Ганса Йенни (Курьер ЮНЕСКО, 1969). Ученый-экспериментатор пользуется искуснейшими приемами съемки эффектов ритмических колебаний в природе. Ганс Йенни назвал эту область исследований и фотосъемки киматикой (от греч. кима – волна). Исследователь высоко ценит "скульптуру колебаний", "видимую музыку" в них. Подвергаются звуковым колебаниям песок на стальной пластине, вязкая жидкость. Меняющийся под воздействием звуковых волн мир форм на мембране создает необычные фигуры, потоки, вихри, обретающие "материальность вибраций". Исследования Г. Йенни оказывают пользу астрофизике и биологии; снимки приобретают затейливую форму, приносящую зрителю и эстетическую радость. Например, конструкция вибраций, воспроизведенных на снимке Г. Видмара, сотрудника Г. Йенни, получена при колебаниях жидкости в течение звучания лишь одного музыкального такта, двадцать восьмого, знаменитой токкаты ре минор И.-С. Баха.
Просматривая десятки, даже сотни выразительных микро- и макроснимков, фотографий, выполненных с помощью электронно-импульсных светильников, невидимых лучей, специальных видов техники, убеждаешься в том, насколько фотография расширила границы видения ранее недоступного человеческому глазу.
Еще в прошлом веке фотография дала возможность увидеть фрагменты звездного неба, спирали галактик. Заявил о себе новый жанр визуальной информации (425). Эти снимки вызывали философские и поэтические ассоциации.
Аэрофотосъемка в пространственном отношении расширила видение поверхности Земли. Наземная "ландшафтная" фотография проводится в разных зонах как видимых, так и невидимых лучей спектра. Например, фотографированием местностей в инфракрасных лучах уже много десятилетий пользуются для получения художественных эффектов в ландшафтной съемке.
Известно, что в живописи и графике получил развитие жанр изображения "космических пейзажей". Но первенство здесь за фотографией.
Вспомним впервые показанный на экране телевизоров ландшафт Луны: освещенный солнцем, на пустынном фоне перед нами лежал лунный камень (424).
Сколько метафорических откликов у людей вызвал этот первый фототелеснимок с Луны, переданный советским космическим автоматом!
С почина второго в мире космонавта Германа Титова началась съемка нашей планеты из космоса человеком. Астронавты США фотографировали на Луне и снимали Землю с Луны. Ныне космическая фотография – и черно-белая и цветная – уже целая отрасль не только научной, но и нередко наделенной эстетическими достоинствами ландшафтной съемки!
Такова картина применения фотографических методов не только научного, но и эмоционально-эстетического познания в жанрах, отступающих от традиционных.
Фотография и кинематограф вместе с всемогущим телевидением расширяют признаки новых жанров, которые не вписываются в границы пластических искусств.
В стиле фотографики
Имитация стилей пластических искусств не привела к признанию фотографии самостоятельным искусством. И все-таки каждое поколение профессионалов и любителей выдвигает новых разведчиков пути фотографии как искусства изобразительного.
Эта ветвь творчества не увяла с подъемом журналистских жанров. Со второй половины 60-х годов она стала даже заметно крепнуть. Обновляются приемы и формы построения изображения на плоскости, издавна заимствуемые из опыта реалистической и импрессионистской живописи. Фотографы научились имитировать технику художников других стилей.
Многообразие форм современных изобразительных искусств тревожит фантазию фотографов. Влекомые не только процессом фотографирования, но и манящим волшебством технических и химических возможностей, они ревностно отдаются лабораторным поискам. Снимок, негатив и даже позитив часто служит им лишь исходным материалом. По их мнению, все решают фантазия, вымысел, подкрепленные виртуозным исполнительским искусством художника – техника-лаборанта, монтажиста.
Что ж – новый виток в истории пикториальной фотографии, новый этап сосуществования "лабораторной" фотографии с фотографией, имеющей дело с фиксацией физической реальности, со съемкой журналистской, документальной.
Большое распространение получила техника фотографики. Строго говоря, фотографикой следует считать разновидность фотографирования в рамках жесткой тональной шкалы, когда явления из окружающей жизни, как и явления из мира живой и неживой природы, передаются в окончательном изображении лишь черным и белым тонами. На практике это понятие трактуется более широко. Достаточно использовать только одни светлые или одни темные тона, а также сузить тональную шкалу, как снимок может быть отнесен к стилю фотографики. Это понятие бытует в фотоискусстве давно, еще со времен имитации светописью рисунков, выполненных тушью, карандашом, техникой офорта или гравюры. Так, правомерно могут быть отнесены к произведениям, близким фотографике, приведенные в книге работы И. Тункеля и Ю. Карша.
Давно известна техника съемки, обработки негатива и позитива в "высоком тоне" (high-key – хай-ки) или в "глубоком тоне" (low-key – лоу-ки). Это чисто фотографическая манера съемки, как и упоминавшаяся техника "нотан". Но и ее относят к области фотографики, поскольку здесь резко ограничивается шкала тонов.
Можно выкинуть из поля внимания грубые приемы пользования растрами, которые помещают при проекционной печати перед светочувствительной бумагой. Но и подобные приемы фотографов могут понадобиться, скажем, в прикладном деле.
К виду фотографики относят получившую большое развитие "фотографию без фотоаппарата", хотя в этой технике тональная шкала изображения может быть очень широкой. Нередко эту технику связывают с появлением абстракционизма в живописи и графике, что неточно. Техника фотограмм – чистейший вид работы со светотенью; придание снимкам признаков абстрактной графики или живописи зависит от замысла создателя таких работ. Например, опрыскиванием негативов, иногда с последующим подогреванием эмульсии, получают безусловно беспредметные изображения.
Подобные опыты порой патетично выдают за способ освобождения фотографа-художника от диктата природы с ее материальными формами, объемами и пространством. И находятся любители прогнозов, считающие, что это и есть путь свободного творчества в фотографии!
Реальная практика не избегает достижений техники фотограмм. Лабораторные опыты входят в арсенал фотографа. Функционально оправдано использование такой техники в работе дизайнеров, скажем, для получения декоративных рисунков, украшающих предметы обихода, или для рекламных плакатов.
Фотографирование без фотоаппарата – высоко ценимый научно-исследовательский метод, незаменимое подспорье физикам и биологам. Некоторые явления в ядерной физике фиксируются главным образом этим методом.
Серии снимков служат документами в науке. Они интересны и для художников, поскольку раскрывают существующие в природе бесконечно малые формы статики и движения, до сих пор остававшиеся недоступными человеческому глазу. Когда же, прибегая ко всякого рода трюкам, фотограф лабораторным путем имитирует изображения молекул, атомов или "звездного вещества", такие снимки приобретают в лучшем случае декоративное значение. Если же такого рода замысловатым снимкам пытаются придать еще и философское звучание, то претензия на глубокомыслие часто обращается в пустое занятие. Фотографы, бьющие на внешний эффект, получают снимки-загадки, снимки-ребусы. Такие произведения могут служить лишь забавой для глаз.
Впрочем, техника фотограмм только одна из многочисленных ветвей фотографики. Известны также техника "эффекта Сабатье" (с 60-х годов прошлого века), близкая ей техника псевдосоляризации; распространено выполнение позитивов в негативном изображении, иногда, особенно в пейзажных снимках, негативное и позитивное изображение сочетаются. Разработаны на практике эффекты рельефа и силуэтного изображения. Применяется в художественной фотографии съемка через полупрозрачный экран. Еще более популярны приемы получения графического эффекта позитивов с крупнозернистым изображением, это повсеместное увлечение захватило едва ли не все жанры фотографии. Распространена техника изогелии (изобретена в 30-х годах польским профессором Витольдом Ромером). Это способ тоно-раздельной фотографической печати: с негатива изготовляют несколько контратипов, в которых добиваются контрастности изображения разных степеней. Потом уже получают окончательный снимок с искусным тоно-раздельным рисунком. Изогелия дает интересные эффекты в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, обнаженной натуры.
В имитировании графики или монохромной живописи фотограф находит разнообразнейшие приемы. Оптические и химические средства позволяют не только тончайшим образом передавать богатство тонально-световой шкалы, но и вовсе лишать снимок тональных переходов. При этом иногда сознательно нарушается закономерность в передаче формы, объема, пространства. Фотографы сочетают приемы фотографики с техникой типографики, то есть соединяют элементы полиграфии с фотографикой. Появляются монтажи и коллажи.
Учебные пособия и отделы техники фотографических журналов систематически знакомили и знакомят читателей с тонкостями применения всех перечисленных выше и близких им видов техники.
Снимки авторов нескольких стран, выполненные разными способами фотографики в разных жанрах, представлены в нашей книге (426-438).
Осциллография, люминография также обогатили эстетические возможности современной фотографии. "Электронная графика" создает световые рисунки, которые иной раз связываются в нашем сознании с изображениями из видимого мира, иной же раз – это всего лишь световые абстракции. Используемые, например, в коммерческой рекламе, в творчестве художников-дизайнеров, такие рисунки, бесспорно, имеют право на жизнь.
То же можно сказать о рентгенограммах. 8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновские лучи. Снимок женской руки с кольцами на костных фалангах пальцев и бледным контуром мышечной ткани вместе с другими подобными снимками, сделанными в рентгеновских лучах, потряс воображение людей. Так началось победное шествие рентгенографии по пути научных исследований. В 1920-х годах лучи Рентгена стали служить и искусству фотографии, одновременно с методом фотограмм. Ныне рентгеновские снимки и фотограммы наряду с микроснимками и снимками, выполненными при электронно-импульсных светильниках, входят в набор технических средств фотографов и художников-дизайнеров.
Хотя и не совсем точно, но принято относить все подобные приемы к фотографике. Еще раз отметим, что фотографика находит функционально оправданное применение в прикладной фотографии, в коммерческой рекламе, в плакате, в полиграфии. Ее техникой широко пользуются в художественной фотографии, а нередко даже и в обработке репортажных снимков. Особенно, если изобразительная сторона в них маловыигрышна. "Освобожденные" от излишества подробностей, сводимые к безукоризненно выполненным "фоторисункам", подобные сюжеты приобретают дополнительную выразительную силу.
Техника рисования "без кисти и пера" нагляднее всего удовлетворяет увлеченность людей, не наделенных способностью к рисованию, но стремящихся реализовать свои художнические склонности. Это увлечение служит эстетическому воспитанию в массовом самодеятельном искусстве. И этого значения фотографики нельзя недооценивать.
Некоторые фотографы предпочитают работать по старинке, в духе подражания классической технике графических искусств. Но выступают и смело работающие мастера, снимки которых сродни нынешним стилям графики. Снимки, до предела лаконичные, порой построенные плакатно, очень броски. Иногда это камерные этюды, где лишь намечен рисунок, и авторы полагаются на фантазию зрителя, дополняющую, дорисовывающую образ.
Объективный ценитель путей современной фотографии вправе счесть повсеместное увлечение фотографикой очередной победой давних принципов "пикториализма" только на современном этапе развития фотографии. Он готов восхититься работой талантливых мастеров. И все-таки большинство сюжетов, искусно препарированных средствами фотографики, заметит он, могут быть выполнены художниками-графиками в более свободной манере, с проявлением индивидуальности таланта.
Увы, это так. Техническая выверенность может радовать глаз, но редко волнует сердце. Уместно замечание критика и искусствоведа А. Александрова по поводу восприятия подобных снимков; он пишет, что фотографы "приучили зрителей к некоему изыску, когда изобразительный прием становится между зрителем и тем, что изображено на снимке. Такое главенство приема... порождается излишне спокойным, а то и холодным отношением фотографа к окружающему" (Александров, 1976). Стоит сравнить впечатления, получаемые от экспозиции работ, выполненных фотографами, с впечатлениями от выставок графики. Магия руки талантливого рисовальщика превосходит по своим возможностям магию лабораторных манипуляций. Но такой вывод не обесценивает фотографику. Более того, разнообразием своих технических эффектов она нередко оказывает прямое влияние на художников-графиков; они используют ее опыт, иногда даже сочетают рисунок, выполненный рукой, с рисунком, полученным техникой фотографики.
Фотографика косвенно стремится утвердить свой престиж в семье изобразительных искусств. Она не доказала своей самобытности, изменив природе светописи. Но фотографикой осуществлен здесь ощутимый прорыв в область графики. Во всяком случае, в прикладные ее виды.
В высших художественных школах преподают технику фотографии и фотографики. Для примера назовем Высшую школу графики и книжного искусства в Лейпциге (ГДР) и одного из преподавателей этой школы – Иоахима Янсонга. Разработанный названным педагогом курс включает в себя изучение всех видов и жанров фотографии от чисто прикладной (афиши, реклама, календари) до книжной иллюстрации, телевизионной заставки и плаката. По словам автора статьи о курсе Янсонга, "снимок не является здесь конечным результатом – он лишь изобразительный материал, при помощи которого художник создает оригинальное, синтетическое произведение" (Кичин, 1980).
Быть может, именно на пути синтезирования техники графики и фотографики роль последней приобретает более веское значение. Значит, опыты в технике фотографии начала XX века, спустя десятилетия, привели к утверждению полноправия этой ее отрасли в практике искусств.
Но мы не можем назвать ни одного фотографа, который всецело занимался бы творчеством в технике фотографики. Он перестал бы тогда быть фотографом-художником и перешел бы в среду художников-графиков. Эти виды техники лишь часть творческой или экспериментальной работы фотографов. Подобные увлечения обогащают художнический опыт, но не заслоняют собою занятий фотографией как искусством светописи.
Пример тому – творчество известного польского фотографа-художника Эдварда Хартвига (р. 1908). И он познал прелесть работы в манере, близкой импрессионистской: еще в 50-х годах на выставках он демонстрировал пейзажи с мягким, лирическим рисунком, принятым когда-то в художественной светописи. В жанре пейзажа Хартвиг вскоре выступил и художником другого склада: короткая, жесткая тональная шкала, смелый охват пространства, нередко тоже в несколько жестких ракурсах. Художник в пейзаже заговорил языком современной фотографии. Он теперь заботился не столько о том, чтобы доставить приятное глазу, сколько об экспрессии в передаче картины правды о природе. Он увидел и показал зрителям разнообразие формы съемки, драматизм светотени и в других жанрах фотографии.
Характерен для той поры творчества Хартвига его альбом "Фотографика" (1960). Десятки сопоставлений на разворотах страниц. Разнообразие в манере исполнения – от традиционно реалистической жанровой съемки до отвлеченных, умозрительного характера изображений в технике фотографики. Хартвиг предстает в альбоме и как мастер законченной формы, и как мастер фрагментарной съемки. В целом альбом свидетельствовал скорее об отходе Хартвига от документальной природы фотографии к технике фотографики. Но в 1969 году появляется в свет новый альбом Эдварда Хартвига, опровергающий такое предположение. Диктат фотографики поколеблен. Альбом называется "Кулисы театра" – это реалистичнейшая поэма о невидимой зрителям насыщенной будничной жизни актеров, режиссеров, работников всех служб современного театра. Поэзия извлечена из повседневности. Техника фотографики в альбоме занимает заметное, но не доминирующее место.
Однако мастера влечет в свой мир лаборатория (436). Спустя почти десять лет выпущен в свет альбом фотографий, созданных Эдвардом Хартвигом в разные годы, на самые разные темы, в различных странах. Представлены многие жанры. Пожалуй, неопределенность границ жанров – одна из характерных черт этого альбома.
И фотографирование натуры, и последующая лабораторная обработка негативов или позитивов служат многим мастерам разных стран равноценными слагаемыми в процессе создания снимков и серий снимков. Собственно техника фотографики не выступает тогда доминирующим началом. Остается виден порог, скорее соединяющий, нежели разделяющий две области искусства – фотографию и графику.
Исторический опыт художественной фотографии, на наш взгляд, склоняет к выводу: графика как изобразительное искусство вбирает в свои границы технику фотографики, а фотографика, с пользой служа графике, в собственно фотографии несомненно уступает первенство главному ее социальному предназначению как самостоятельного искусства – фотографии жизни.
Пределы метафоричности
Создание признаков "новой действительности" средствами метафор – само собой разумеющееся право художника. Это – право реализации замыслов фантазии. Нельзя лишать такого права и фотографов-художников. Линия развития метафорической фотографии не прерывалась за всю ее почти полуторавековую историю. Документальная фотография чаще завладевала интересами фотографов, метафоричность служила ей лишь одним из средств художественности. Не более того.
Но выступали и выступают ныне талантливые фотографы, которые, если не в течение всей деятельности, то иногда отдают свои способности первенству фотографии формотворческой, с созданием в снимках образов "новой действительности". При этом, как и в других областях творчества, фотографы исходят в своих замыслах из разных идейных предпосылок: создают произведения, адекватные материалистическому мировоззрению, и произведения, отвечающие идеалистическим воззрениям. И в этой области фотографического творчества проявляют себя прогрессивные и консервативные идеологические тенденции.
Создавались снимки-картины и композиции преимущественно оптико-химическими средствами и техникой монтажа, где господствовали не реалии в их жизненном соотношении, а компоненты натуры, создающие по замыслу авторов в совокупности изображение без точного адреса съемки и без "прикрепления" к определенному времени.
Не прекращается экспериментирование в области метафорической фотографии.
Развивается жанр политического, публицистического монтажа, отвечающего темам борьбы за мир, направленного против всякого рода поджигателей войны. Широко поле деятельности фотографов-монтажистов.
Еще в 1958 году вышел примечательный альбом фотохудожника ГДР Эдмунда Кестинга под названием "Ein Maler sieht durchs Objektiv" ("Художник смотрит сквозь объектив"). Снимки альбома отражают интересный опыт фотографа-экспериментатора, мастера "светового монтажа", экспрессионистской фотографии (Resting, 1958). Серии монтажей на темы страданий, смерти и разрушений трудов человека, всего того, что несет с собой война, созданные путем сложной печати, могут быть отнесены к метафорической фотографии, наделенной острым общественным содержанием. Следует, однако, отметить, что придание некоторым композициям мистического характера, на наш взгляд, несколько ослабляет впечатление: здесь форма входит в противоречие с самой природой фотографии.
И при репортажном методе работы, и при сложной лабораторной обработке снимков можно оставаться верным назначению фотографии и можно изменять ее природе, – к такому выводу приводит наблюдение за развитием экспериментальной, метафорической, "фантастической" фотографии 50-х – 80-х годов, какое бы название ей ни давалось.
Метафоричность свойственна и творческой фотографии, не порывающей с документальной, реалистической основой. В 50-х годах широкую известность получила школа "субъективной фотографии" педагога и художника ФРГ Отто Штайнерта (1915-1978). Это понятие прижилось, о нем много писали в фотографических журналах. Устраивались выставки "субъективной фотографии". Отто Штайнерт не следовал строго традициям художественной фотографии, услаждающей глаз; разрабатывалась жесткая, иногда даже очень резкая манера съемки в портретном и других жанрах. Штайнерт в известной мере явился продолжателем новаторства немецкой фотографии, развитие которого было пресечено приходом к власти нацистов в 1933 году. В комплекс разработанных Штайнертом основ входил, в частности, метод изоляции при фотографировании объектов от окружения; поощрялось некоторое утрирование оптического рисунка изображений, применение соляризации и т. д. Стиль "субъективной фотографии" оказал заметное влияние на некоторых мастеров других стран, в частности, влияние Штайнерта заметно было в Швеции и даже в Японии. Школа Штайнерта правомерно вписывалась в картину развития фотоискусства признаками преданности ему без явных заимствований из изобразительных искусств.
Тогда же получило распространение и другое понятие – "магический реализм". Точно оно трудноопределимо. Подразумеваются поиски неожиданных, иногда фантастически неожиданных объектов и мотивов в окружающей действительности, иногда парадоксальных сюжетных сопоставлений, раскрывающихся во взаимосвязях людей, вещей, фрагментов ландшафта. Подобные снимки иной раз приобщают зрителя к скрытым закономерностям бытия, уводят в область подсознательного, создают воистину фантастический, ирреальный образ. Между тем при анализе снимка выясняется, что изображены объекты реальной действительности. Такого рода признаки присутствуют и в снимках провозвестника реализма Эжена Атже. Например, вещи, снятые им в витринах парижских магазинов начала века, возведенные в "культ" моделей, приобретают "магическое" звучание.
Интересные эффекты создают современные фотографы методом секвенции (сопоставлением кадров моментальной съемки с одной точки). Явление или событие, длящееся во времени, запечатлевается фотографом в нескольких снимках, приводимых в их временной последовательности. Будь такой сюжет снят кинооператором с последующей демонстрацией его на экране, эффект исчезнет. В фотографии же анализирующий глаз зрителя высматривает, вычитывает, извлекает из "остановленных" избранных кадров неожиданное содержание.
Извилистой тропой движется в своем развитии метафорическая фотография.
Жюри Международной фотовыставки в Москве, прошедшей в рамках художественных конкурсов VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года, присудило золотую медаль и звание лауреата французскому фотографу Катерино Роже за снимок "Ветка и девочка" (442). Снимок возбудил споры. Некоторые считали его просто учебным этюдом. Автору удалось передать глубину пространства сложного для съемки интерьера с натюрмортом (веткой в вазе) на первом плане и обнаженной натурой на дальнем: прослеживаются признаки трех жанров в одном снимке. Другие зрители увидели в снимке символику и раскрывали его содержание не без участия психоаналитического толкования. Распускающуюся ветку, как и фигуру девочки, они связывали в символ начала жизни; коридор со многими дверями рассматривали как символ сложностей путей жизни. Находились зрители, посчитавшие этот снимок Роже сюрреалистическим произведением.
Итак, искусно выполненный снимок молодого автора был удостоен высокой награды. Подобные опыты психологической фотографии могут вызвать споры, но они несомненно представляют интерес куда больший, нежели десятки, даже сотни надоевших глазу снимков фотографов разных стран, выдаваемых под видом поисков "нового видения". Например, обыгрываются унылые фрагменты зданий, заброшенные машины, осколки разбитых предметов, манекены или игрушки на свалке мусора. Вырываемые из обихода предметы выглядят отрешенными от действительности, якобы знаками иллюзорности жизни. Хотя и среди таких фотографий бывают удачи.
Существует термин "концептуальная фотография". Подразумевается подход к натуре с определенным, выработанным художником комплексом приемов, часто с заимствованиями форм из других средств информации. По мнению защитников подобного концептуализма, в этом случае фотография якобы преодолевает самое себя, и убедительнее всего проявляется причастность фотографа к искусству, равноправному с другими визуальными искусствами современности.
"Концептуальная фотография" вызывает дискуссии. Пытаясь вывести фотографию из ограничений плоскостного двухмерного изображения, помещение заполняют экспозицией так, что фотоизображения покрывают все стены и потолок зала. Зритель оказывается в плену замысла фотохудожника: нагнетается и усиливается впечатление от разных аспектов видения сюжетов иногда одного характера. Неоднородны отзывы критики. Такого рода поиски скорее можно отнести к какой-то новой отрасли зрелищной техники, нежели к области даже широко понимаемой образности фотографии.
Заявляют о себе опыты художников, соединяющих фотографические изображения со скульптурными формами: снимки занимают некоторые плоскости скульптур. Такого рода поиски, прилагаемые к декору, свидетельствуют о том, что фотографию принимают в арсенал своих средств не только графики, но и ваятели. Фотография в подобных случаях служит лишь подсобной составной частью конструкций, теряя свою обособленность.
Многие опыты концептуализма в фотографии правомерно сопоставить с другой крайностью: с использованием фотографии как материала, как полуфабриката, в так называемом фотореализме (гиперреализме), – относительно недавнем натуралистическом ответвлении живописи (443).
Произошло непредвиденное, немыслимое, казавшееся невозможным в изобразительном искусстве. На спаде интереса к абстрактному искусству, на почве бездуховности, проявляющейся в обществе капиталистического мира, вырос антипод живописи – метод создания картин, часто огромных полотен, авторы которых не только эскизами, но и самим предметом изображения берут фотографию и доводят ее изобразительные черты до недоступной даже фотообъективу точности в имитации натуры. Из посредницы, способствующей художникам в изображении мира, фотография сама обратилась в мир, изображаемый со сверхфотографической точностью!
Моделями берутся отнюдь не художественные, не эстетизированные, а рядовые, технические снимки прикладного значения: виды заправочных станций или стандартных коттеджей провинциального городка, улиц поселка (фигуры прохожих художником убираются), интерьеры кафе, снимки витрин кондитерских магазинов, технические снимки частей мотоцикла или автомобиля; иной раз берется снимок лошади со стоящим рядом человеком, снимок распустившегося цветка, а то и полок с пустыми бутылками. Изображение переносится на холст, обычно весьма большого размера – два, четыре метра в длину или высоту. Художник часто пользуется не масляными, а акриловыми красками на водной и пластиковой основе, работает аэрографом, не оставляющим мазков на полотне. Иногда не пропускается ни одна деталь, подробность. Каждая пора на коже лица тщательно выписывается, предметы наделяются четко показанными деталями, недоступными изображению самым резко работающим объективом. В пейзаже даль лишается признаков воздушной перспективы.
Даже если художник пишет не со снимка, а с натуры, то он и в этом случае соревнуется с фотографией, стараясь переступить порог недоступного ей.
Так создаются монохромные и полихромные полотна. Фотографии, выполненные в таком размере, не живучи – они выцветают и не могут быть на всем пространстве в одном или в нескольких планах столь резкими. "Фотореалистическая живопись" в этом смысле превосходит фотографию. Своеобразный, причудливый виток во взаимоотношениях современной фотографии и изобразительных искусств! Виток, примечательный на историческом фоне споров о месте фотографии под солнцем. Живопись открыто состязается с фототехникой. Куда более открыто, чем фотография подражала ранее или подражает ныне живописи.
После краткого отступления на тему о фотореализме возвратимся к творческим поискам прогрессивных фотографов. Создание образов "новой реальности" достигается ими средствами метафор, с применением лабораторной обработки негатива и позитива, техники монтажа и коллажа.
Здесь ценятся элементы неожиданности, остроумие и оригинальность находок, мастерство органического сочетания разнородных мотивов в одно целое.
В 60-х – 70-х годах в СССР появилось немало фотографов, искусно применявших метафорическую манеру в своем творчестве. Так работали некоторые фотолюбители и профессионалы в городах России, на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии.
Таков фотограф-художник, заслуженный деятель искусств Латвийской ССР Гунар Бинде (р. 1933). Он стал известен в 60-х годах по успешному участию в отечественных, представительных зарубежных выставках. Пытливый талант Бинде прошел искус работы в репортажной манере, познал приемы лабораторной трансформации изображений. Его акт – девушка у стула – наделен признаками традиционного снимка обнаженной натуры и признаками современной жанровой съемки (414).
Г. Бинде редко пользуется репортажной техникой съемки в ее прямом, информационном назначении. Но и ее применяет при создании образа, в частности, при съемке портрета. Пользуясь трансформацией негатива и позитива, мастер получает иногда изображения модели в неожиданных психологических вариациях (445). Бинде – не любитель съемки с внешними признаками движения. Он не столько ищет "решающий момент" во время съемки, сколько сам предписывает стать решающим избираемому моменту, усиливая его выразительность приемами обработки снимка.
Далекий аскетической преданности репортажному методу съемки, Гунар Бинде не поддается соблазну подражания манерам других искусств. Он не выискивает красивую натуру; фотогеничность считает не явлением, а понятием, которое содержит в себе скорее состояние модели, чем внешние признаки ее. Художник-психолог, Бинде стремится проникнуть в подсознательное модели, оставаясь, однако, верным принципам реализма. Некоторая сдержанность, иногда и застенчивость, за которой таится страсть художнического труда, – это существенные приметы дара Г. Бинде.
Из латышских фотографов, несколько позже объявивших себя в этом искусстве, назовем Эгонса Спуриса. Он умеет видеть во фрагментах окружающей среды психологическую подоплеку, иной раз нежданную новизну. Он – поэт современного города, предпочитает "чистую", прямую съемку, без последующих лабораторных, химических манипуляций (446). У него острый художнический глаз, точно, хотя нередко и жестко выбирающий выразительный фрагмент натуры. Прибегает Спурис и к технике монтажа.
Пожалуй, самым последовательным из фотографов Литвы защитником права фотографии на создание изображений, вводящих зрителя в сказочный и фантастический мир, можно назвать Виталия Бутырина из Каунаса (447, 448). Его снимки содержат и очень личные поэтические трактовки тем человеческой жизни, и вводят в мир видений или сновидений, отражают и острую социальную тему борьбы за сохранение окружающей человека природной среды. Бутырин часто переступает порог реальности. Тогда его снимки вызывают упреки: говорят, что фотография позволяет и "прямой" своей техникой достигать тех ее смысловых эффектов, которых достигает Бутырин, изменяя прямому назначению ее техники. Время может внести существенные коррективы в методику работы, но отлучать от фотографии Виталия Бутырина и других мастеров, работающих в подобной манере, было бы неосмотрительно. Это уже занявшая свое место отрасль творчества. В одной из дискуссионных статей журнала "Советское фото" филолог-эстетик Юрий Борев так охарактеризовал плодотворность метафорической фотографии на примере творчества Виталия Бутырина:
"Создание новой реальности не следует противопоставлять принципу отражения действительности, зачисляя первое по ведомству модернизма, второе – реализма. Ведь всякий художник в той или иной степени создает "новую реальность", целый новый художественный мир, который многими своими параметрами может быть не похож на реальный мир ("правдоподобие" еще не есть сама правда!)". Юрий Борев приводит ссылки на мировую литературу, упоминает образы Гойи, "скачущий" памятник Петру I – "Медный всадник" Пушкина, "Вий" Гоголя, "Холстомер" Толстого, героя "Тихого Дона" Шолохова – Григория Мелехова, видящего "черное солнце". Можно счесть подобные аналогии из литературы не всегда доказательными в приложении к фотографии. Но они уместны в контексте статьи, защищающей право фотографа-художника на создание образов "новой реальности".
Ю. Борев допускает и спорное утверждение, полагая, что "документализм является не основой фотографии вообще, а основой лишь одного из ее регионов". Автор настоящей книги исходит из концепции, утверждающей документализм "основой фотографии вообще". Даже основой композиций, препарируемых оптикой при съемке и оптико-химическими средствами или ножницами в лаборатории: и в основе произведений этого "региона" лежит съемка того, что было, что безусловно существовало в момент съемки. Если такого ощущения композиция не дает, это – не произведение фотографии, а более или менее удачная имитация техники другого искусства.
Но Ю. Борев прав, высказывая следующее суждение: "...Если художник-фотограф отказывается от фотокопирования реальности и создает свой художественный мир, то это не значит, что он не отражает действительности. И так поступает любой фотохудожник, даже работающий в манере самого непосредственно близкого к достоверности изображения действительности" (Борев, 1979).
Границы метафорической фотографии очень широки. И здесь легче всего вынести эксперимент за границы материалистического познания жизни в образах. Идеалистической программы в этом виде творчества сознательно придерживаются некоторые зарубежные мастера. Например, видный американский художник Джерри Улсман. Ему принадлежат, в частности, два довольно широко известных снимка. На одном из них показана лежащая на полу некоего замкнутого пространства хорошо сложенная молодая женщина (головой к зрителю, ногами к дверям помещения); из открытой двери к ней приближается огромный тигр. Почти сцена из театра ужасов! Другой снимок: на мужской ладони – полураскрытый стручок гороха, в стручке обнаженная миниатюрная фигура женщины. Снимки вызывают разное прочтение. Сам автор не скрывает желания идеалистически интерпретировать свои замыслы. "Камера, – говорит Джерри Улсман, – это мимолетный образ нашей встречи с реальностью иного мира" (Дуглас, 1977). Налицо – отказ от присущей природе фотографии связи с реальной действительностью.
Интересен монтаж эстонского фотографа Пеэтора Тооминга "Танец" (449). Тооминг принадлежит к поколению фотографов, чье мастерство сформировалось в 60-70-е годы. Монтаж – только один из методов работы мастера. Он искусно пользуется светом, хорошо владеет жанровой съемкой, соединением снимков в блоки, когда кадры, разнообразные по манере исполнения, в целом создают обобщенный образ.
Метафорическая, монтажная фотография, можно сказать, дискутирует на остросоциальную тему о взаимоотношении человека с окружающей природной средой. Волнующие снимки на эту тему создаются во многих странах (450). Вместе с другими искусствами и публицистикой фотография живо участвует в трактовке темы бережного отношения к природе, к земным богатствам.
Аргентинский мастер Педро Раота относится к фотографам-реалистам, ему близка тематика из жизни народа, он поднимает голос художника в защиту прав эксплуатируемого человека. И приводимый в книге снимок (451) подтверждает верность реализму. Снимок построен монтажно. Это образ, достигнутый единством примененной техники съемки и искусной светотональной лабораторной обработки. Принципиального различия в методе формотворчества Оскара Рейландера, применявшемся им в середине прошлого века в символических композициях, и монтировании фотографии из фрагментов изображений натуры современными фотографами, в частности, аргентинцем Раота, – нет. Изменения лишь в социальной тематике и в стилистике. Метод метафорического монтажа продолжает свое развитие на основе новой техники.
В заключение еще несколько примеров. Вильгельм Михайловский и Леонид Тугалев живут в столице Латвийской ССР – Риге. Оба завоевали в 70-х годах известность на республиканских и международных выставках. Оба – приверженцы метафорической фотографии. Михайловского часто влекут тревожные темы судьбы человеческой (412, 444), Тугалев предпочитает психологические темы из мира личной жизни человека.
У Михайловского чисто фотографическая техника монтажа. Фотографически фактурно показаны компоненты его снимков. Нужно отметить, что на рубеже 70-х – 80-х годов нашего века лаборатория снова стала господствовать в практике фотографов-художников. Теперь эксперимент сочетается с документальностью; так, по мнению приверженцев подобного метода работы, можно точнее выразить свое восприятие действительности. При этом достигается и не противоречащее объективности субъективное решение той или иной темы, то есть личное суждение отражается и как общественное. Здесь нередко стирается граница между художественной фотографией, техникой дизайна и станковой графикой. И смягчается противоречие между фотографией жизни и экспериментально-метафорической съемкой.
В фотографии жизни развивается ныне своеобразное ответвление: среди части фотографов приутихли поиски динамических решающих сюжетов, строятся циклы из сугубо бытовых житейских мотивов без какого-либо эстетизирования построения кадров. О подобных тенденциях говорилось в книге. Примеры тому – творчество Антанаса Суткуса, Александраса Мацияускаса, Ромуальдаса Пожерскиса. Цикл первого из них – "Люди Литвы", цикл второго – "В ветеринарной лечебнице", цикл третьего – "Сельские праздники" – о них упоминалось выше. В большинстве снимков подобных серий не ставятся традиционно понимаемые художественные задачи фотографии. Это в такой же мере литературные, сколь и визуальные фрагменты цельных фотографических произведений, что соответствует творческой установке художников. Фотографическая аутентичность сопоставима с точностью слова литератора-документалиста.
Такого рода концепция фотографии жизни получила развитие и в других странах, например, под эгидой Museum Folkwang в Эссене (ФРГ). В 1982 году там была устроена передвижная выставка под названием "Как живут в Рурской области". Авторы снимков – фотографы-профессионалы и фотолюбители, проживающие в этой области. Организаторы выставки и составители книги-каталога напрочь откинули традиционные приметы художественности.
Стенды выставки и страницы каталога наполнены множеством непритязательных любительских снимков, преобладает "прямая" фотография, показывающая разные аспекты жизни, труда, отдыха людей индустриальной области. Никаких прикрас. По-разному может оцениваться эта выставка, но, несомненно, в ней убедительно высказаны выразительные возможности социальной фотографии. Много места отведено жанру бытовых секвенций (Wie lebt man im Ruhrgebiet, 1982).
Бытовую секвенцию "75-летие" выполнил фотограф из ГДР Йорг Готтшалк (455-457). Три снимка выхватили из жизни старого трудового человека минуты теплого юбилейного торжества. Это – содержательная фотографическая новелла, приглашающая нас всмотреться, вчитаться в секвенцию. Эти снимки полярно противопоставляют себя манере монтажно-метафорической фотографии.
Кто знает, может быть, иные фотографы, отдавшие художнический пыл "формотворчеству" с переносом основной работы в лабораторию, заново познают в будущем первородную магическую силу фотографии без хитроумной лабораторно-монтажной и химической обработки негатива или позитива. Приведем еще раз суждение великого русского критика Виссариона Белинского о задаче художника "извлекать поэзию из прозы жизни". Эта истина всегда остается верной в искусстве.
Слово о цветной фотографии
Творческие вопросы – спорные и бесспорные, – затронутые в предыдущих разделах, приложимы и к творческой практике фотографов, работающих в цвете.
Цветную фотографию часто считают новинкой техники относительно недавнего времени. Это неточно. Получение изображений в натуральных цветах с помощью солнечных лучей казалось достижимым ученым еще до открытия черно-белой светописи Ньепсом, Дагером и Тальботом.
В начале прошлого века, в 1810 году, немецкий физик, уроженец Риги, Томас Зеебек получил в Иене изображение красного и фиолетового цветов спектра. В год открытия дагеротипии знаменитый физик и астроном Джон Гершель на бумаге, покрытой хлористым серебром, получил изображение солнечного спектра в цветах, довольно близких натуре. Спустя девять лет француз Эдмонд Беккерель показывал (осторожно, при вечернем освещении!) удержанное днем очень сочное изображение спектра солнца.
Однако закрепить эти "летучие" снимки не удавалось. С. Л. Левицкий рассказывал, как в середине прошлого века в Париже племянник Нисефора Ньепса – изобретатель Ньепс де Сен Виктор – повел своего русского гостя на крышу Луврского музея и показал там поразительный опыт. На ярком солнечном свету он произвел съемку пестро разодетой куклы. На серебряной пластинке Левицкий увидел полноценное цветное изображение. Увы, снимок пожил недолго, стал тускнеть и скоро вовсе исчез.
Успех черно-белой фотографии оттеснил поиски способов фотографирования в цвете. Но такие поиски неустанно велись.
Достаточно упомянуть о теоретических достижениях в этом направлении знаменитого английского ученого Джеймса Клерка Максвелла. Его имя высоко чтимо в истории цветной фотографии. Он достиг весомых результатов на рубеже 1860-х годов. В конце этого десятилетия выдающиеся опыты закрепления цветного изображения провел Луи Дюко дю Орон. Но первым способом съемки, осуществимым на практике в естественных цветах с закреплением изображения, вошел в историю фотографии интерференционный способ француза Габриэля Липмана. Он был создан на основе учения образования цветов так называемыми "стоячими волнами". Сложный способ Липмана получил некоторое развитие в 1890-х годах. Но его не удалось упростить, сделать сколько-нибудь доступным.
В начале XX века многих любителей фотографии увлек изобретенный французами – братьями О. и Л. Люмьер – трехцветный способ фотографирования, названный автохромным процессом Люмьер. Изображение в естественных цветах получали на стекле и рассматривали его на просвет. По изяществу исполнения это был совершенный способ цветной фотографии, к тому же простой и доступный. Но изображение нельзя было размножать – оно получалось на стекле в одном экземпляре. Это время развития цветной фотографии напоминает период дагеротипии в черно-белой светописи.
Получить цветной снимок было труднее, чем обычный черно-белый диапозитив. Однако началось увлечение цветом. Снимки-автохромы появлялись на стендах фотографических выставок. Много таких экспонатов было, например, на Международной выставке 1909 года в Дрездене, в их числе цветные снимки Эдуарда Стейхена, Генриха Кюна.
Выходили в свет издания, посвящаемые цветной фотографии. Полиграфической техникой в них воспроизводились автохромы. Назовем, к примеру, солидное немецкое издание, выпущенное в Лейпциге (Farbenphotographie, 1911-1912). На его страницах были воспроизведены отличные цветные снимки. Сообщалось, что при хорошем освещении на открытом воздухе съемка автохромного портрета требовала выдержки до 1,5 секунды, в комнате же – до минуты. Осенние пейзажи требовали съемки с выдержкой в 30-40 секунд. Прекрасный снимок старинной росписи в плохо освещенном храме был сделан с выдержкой в три дня! Но результаты были хорошими.
Автохромный способ позволял показывать в натуральных цветах кристаллы, цветы, насекомых из коллекций. Удачнее получались осенние пейзажи. Много хлопот доставляла передача красного цвета, – он нарушал равновесие в цветовой гамме.
В России сильным мастером автохромной фотографии показал себя Н. А. Петров. Заметных успехов на выставках достиг своими автохромами московский фотограф-любитель К. Солодовников.
К выдающимся изобретателям в области техники цветного фотографирования начала XX века относится Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863-1948). Он разработал свою технику цветной съемки с последующим полиграфическим воспроизведением снимков в цвете. Изобретатель делал успешные опыты цветной съемки и в кинематографе. Будучи редактором-издателем популярного журнала "Фотограф-любитель", Прокудин-Горский выпускал в свет и другие фотографические издания. Публиковал свои цветные снимки. Выполнил интересные серии цветных пейзажей: "Италия", "Кавказ", "Туркестан", "Крым" (462). К юбилею Л. Толстого выпустил цветной портрет писателя, снятый в Ясной Поляне в 1908 году (461). Как теперь известно, им было выполнено несколько цветных портретных изображений Льва Николаевича (Гаранина, 1980).
После Октябрьской революции, в марте 1918 года, С. М. Прокудин-Горский по инициативе Народного комиссариата просвещения провел в Петрограде три вечера под названием "Чудеса фотографии"; они были посвящены достижениям цветной светописи. Как сообщалось в отчете, вечера были устроены "в самом большом зале Зимнего дворца – Николаевском, сделавшимся теперь доступным для народа... Снимки... обнимали и пейзаж, и жанр, и портрет, и nature-morte и имели шумный успех, произвели большое впечатление". "Насколько велик интерес публики к таким вечерам цветной фотографии, – писал автор заметки, – может свидетельствовать посещаемость вечеров; например, на последнем вечере, 31 марта, присутствовало более 2000 человек!" ("Фотографические новости", 1918). Красноречивое свидетельство!
Способы фотографирования в цвете, бытовавшие в начале века, не вышли на верную дорогу. Поиски продолжались. В двадцатые годы модным был цветной бромойль (463).
В последующие десятилетия, а именно в 1930-е годы, стал популярным в творческой практике способ карбро, также основанный на передаче трех основных цветов спектра (464). В разных странах им пользовались даже склонные к жанровой съемке мастера.
Подобные способы фотографирования в цвете обладали общей особенностью: цветное изображение возникало в позитиве, негативы оставались черно-белыми. Наконец были изобретены способы фотографирования на многослойной пленке; получалось цветное негативное изображение с последующим печатанием снимка на многослойной фотобумаге.
После второй мировой войны, в 50-х годах, способы фотографирования на многослойной пленке фирм различных стран мира оттеснили все прочие. Эти способы, совершенствуясь, стали господствующими в цветной фотографии. На первых порах они восхитили своей доступностью. Однако неорганизованное нагромождение цветных пятен в снимках отталкивало людей с развитым вкусом. Такой натурализм устрашал сторонников фотографии как искусства. Но под напором коллективных усилий как фирм, изготовлявших материалы, так и пытливых фотомастеров многих стран цветовой хаос был успокоен, техника обуздана. Стали появляться снимки в разных жанрах, радующие глаз организованностью цветового рисунка, эстетическими признаками.
Фотографа-художника часто разочаровывает позитивный процесс. Пленки обладают недостаточно точным цветовым балансом. Это приводит к нарушениям сочетания цветов на негативах. Однако вошла в практику техника "цветовой коррекции" с помощью светофильтров, было введено немало усовершенствований в позитивный процесс, хотя вмешательство фотографа как художника здесь остается в размерах еще скромных по сравнению с работой в технике черно-белой фотографии.
Главная стадия творческой работы в цветной фотографии – съемка. В черно-белой фотографии господствуют тон и линия. В цветной фотографии определяющим является соотношение цветов.
Изменилась работа со светом. Свет по-прежнему выявляет объем, форму, фактуру, но характер освещения существенно влияет на передачу цветовых соотношений. А бесстрастная техника обнаруживает зачастую не замечаемые глазом рефлексы, которые иной раз меняют весь творческий замысел, они придают мертвящий оттенок живому. Но постепенно фотографы и рефлексы заставили служить сильным художественным средством. Трудно давалась передача тональных переходов того или иного цвета. Различие в цвете обычно ощущалось в снимках сильнее, чем в яркости тонов. Сочетание цветовой композиции с тональной и поныне дело нелегкое.
В сравнительно короткий срок мастера цветной фотографии познали приемы построения изображения в том или ином колорите, пользуются выразительностью цветовых контрастов, цветовой эксцентрикой. Как и в черно-белой фотографии, иной раз пользуются техническими помехами ("шумами") как сознательно применяемым средством выразительности.
Надо отдать должное энтузиастам техники цветной фотографии – коллективам ученых, техников, творчески работающим в цвете мастерам многих стран: названные выше и другие трудности оказались преодоленными довольно быстро. Куда быстрее, чем шло в свое время совершенствование техники черно-белой фотографии.
Уже в 50-х годах на стендах выставок появлялись отличные цветные снимки в разных жанрах. Фотографию быстро и активно осваивали и дизайнеры. Она была признана в архитектурной съемке, особенно в воспроизведении интерьеров, памятников старины, вплоть до древних фресок и наскальных рисунков. Она прижилась в естествоведении. Цветные снимки несли больше информации о натуре.
В цветной художественной фотографии возникла еще более тесная связь, чем в черно-белой фотографии, с живописью и техникой акварели. Из советских мастеров цветной пейзажной фотографии назовем, к примеру, А. Бушкина (469), В. и К. Вдовиных, В. Гиппенрейтера (471, 472), Л. Зиверта, Е. Кассина. В конце 50-х – начале 60-х годов в советском фотоискусстве утвердился жанр реалистического цветного пейзажа. Любая страна с развитой цветной светописью знает своих пейзажистов реалистического толка. Цветная фотография тем самым, вслед за черно-белой, взяла на себя часть изобразительных, познавательных функций; монополии у живописи в решении таких задач уже нет.
Но фотографов с художественным талантом влекут и более трудные задачи: достигать обобщенно-образного решения в своих лучших снимках не только познавательно-прикладного характера. Они пользуются выискиваемыми в практике все новыми выразительными возможностями. Много путешествующий Вадим Гиппенрейтер вносит мотивы драматизма в пейзажную цветную съемку. Талантливы по изобразительным достоинствам его снимки, собранные в альбоме "Вулканы Камчатки" (М., Планета, 1973). Достигли успехов в пейзажной, отчасти в жанрово-репортажной, съемке фотокорреспонденты журнала "Огонек" – Исаак Тункель, Дмитрий Бальтерманц, Лев Шерстенников, Геннадий Копосов и др., корреспонденты Агентства печати "Новости" – В. Шустов, А. Макаров, О. Макаров, Фотохроники ТАСС – назовем хотя бы Альберта Пушкарева и его серии, посвященные космической теме. Дмитрий Донской (АПН) преуспел в съемке спортивной тематики. Донской из тех мастеров, что не всегда заботятся о точности рисунка изображения. В снимках движущиеся фигуры обращаются порой в сочетание цветовых пятен, используется объектив с переменным фокусным расстоянием. Вводится в действие фантазия зрителя, как бы дорисовывающая изображение, домысливающая динамический образ (473, 474).
Цветная фотография овладела техникой съемки в острых, интересных ракурсах объективами разного фокусного расстояния, что обновляет видение пространства, объемов, форм, фактуры. В этом отношении не только плодотворно, но и виртуозно работает московский фотохудожник Николай Рахманов (470, 477).
Остановимся хотя бы на трех известных именах зарубежных мастеров цветной фотографии разных стилистических устремлений. Американский фотограф Ирвинг Пэнн одним из первых достиг в цветной светописи успехов, имитируя технику письма французских импрессионистов. Свободно владеет несколькими манерами съемки Брассаи. Серия его снимков в цвете – выщербленные стены старых домов – это целая сюита из нефигуративных фотографических изображений. Людям, следящим за развитием цветной фотографии, знаком Эрнст Хаас. Он едва ли не первым из мастеров стал известен своими сериями экспрессивных снимков сюжетов, полных движения, в частности коррид. Эрнст Хаас – автор многих книг цветных снимков, в том числе о превосходном путешествии в Гималаи.
В 70-х годах цветная фотография во многих жанрах достигла столь высокого качества, что уже сравнялась по выразительности с черно-белой. Показателен в этом отношении, например, обстоятельный и остроумно составленный труд английского профессора Джона Хеджкоу "Искусство цветной фотографии"; на английском языке книга вышла из печати в 1978 году, на русский переведена в 1981 году. В книге, иллюстрированной множеством снимков, выполненных преимущественно самим автором – искусным мастером, рассмотрены в контексте теории и практики разнообразные примеры из области как техники, так и композиции снимков (Хеджкоу, 1981). Уверенна поступь в будущее техники и искусства цветного фотографирования.
Как и в черно-белой фотографии, в цветной сочетаются заимствования из опыта живописи с поисками и разработкой самобытных приемов фотографического искусства.
Правомерными остаются связи с живописью в жанре студийного цветного портрета.
Только немногие фотографы-портретисты позволяют трактовать образ, исходя из своего видения личностных черт фотографируемого человека, не считаясь с традицией комплиментарности. Благоустраиваются современные студии, совершенствуется цветопередача, чутко работает автоматика освещения. И все же выбором аксессуаров студии, одеяний модели, а также фона мастер при съемке в цвете в большинстве случаев старается добиться благожелательного признания портрета своим клиентом.
Это непростые задачи. Их с художническим тактом решает, к примеру, опытнейший московский мастер Василий Алексеевич Малышев. На выставках 60-х – 70-х годов Василий Малышев блеснул смелыми по композиции и цветовому решению портретами, особенно женскими. Фотомастеру удалось передать дух творческой возвышенности в портретах актрис 3. Кириенко и С. Чиаурели (467). Малышеву присущи и навыки внесения "репортажной импровизации" в студийный портрет как в черно-белой, так и в цветной технике съемки. Он умело схватывает момент, позволяющий передать душевное состояние человека (466).
Портретист уже другого поколения, Валерий Плотников склонен к большому усложнению рисунка и колорита, выбирает более затейливый декор, в частности, снимая людей искусства. Изыскиваются разные возможности обыгрывания цветовых возможностей.
Можно перечислить главные профессиональные задачи при съемке студийного портрета в цвете: соблюдение точно задуманной передачи соотношения цветов; пластичность в изображении фактуры тела, волос, одежды; нужная градация тональных переходов; соблюдение колорита или, наоборот, внесение признаков эксцентрики выбранных цветов; в любом случае функционально оправданная работа с ахроматическими цветами – черным, серым, белым – и цветами хроматическими.
Перенимается богатейший опыт портретной живописи. Но, как в недавние времена то было в черно-белой фотографии, усиливается теперь тенденция поисков чисто фотографических приемов владения цветом без непременной оглядки на правила живописи.
Например, еще в 1957 году фотограф из литовского города Каунаса Повилас Карпавичюс, следуя по пути польского изобретателя Витольда Ромера, открыл технику приложения изогелии к цветной фотографии. Открытие, названное автором изополихромией, вошло в практику художественной фотографии.
Техника цветной изогелии очень распространена в лабораториях и профессионалов, и фотолюбителей. Работа Я. Гайлитиса "Яхта" (465) – изящный снимок такого рода.
С годами обогащается набор технико-художественных приемов. Съемка на трехслойном негативном материале с последующим печатанием снимков на трехслойной же бумаге обрела зрелость и стала едва ли не равноправной рядом с черно-белой фотографией. На страницах журналов стал желанной иллюстрацией цветной репортажный снимок. Сначала казалось делом случая получить удовлетворительный цветной репортажный снимок. Цвет – сильное изобразительное средство. В любой сцене из жизни соотношение цветов неорганизованно. Пленка с беспощадностью обнаруживает это. Например, черное выступает в снимках тяжелым пятном. Белое же часто приобретает оттенок господствующих лучей. Как часто отчаявшиеся авторы успокаивались, напечатав снимки в обычной черно-белой технике.
Доступнее, проще оказалось фотографировать в цвете сцены, где цвет и освещение уже предварительно организованы (468). В жанровой же съемке редко поначалу обходилось без режиссуры. Но цветная фотография быстрее прошла путь развития. И фотожурналисты многих стран уже в 60-х годах достигли бесспорных успехов. Во-первых, как это было и на заре событийно-жанровой съемки в черно-белой технике, глаз зрителей, потребителей фотоинформации в цвете, быстро адаптировался к кажущейся несуразице цветного изображения в съемке повседневных событий и явлений жизни; расхожее понятие художественности, красивости стало вовсе не обязательным при оценке таких снимков. Во-вторых, накапливался опыт фотографов, и в процессе репортажной съемки они научились выискивать подходящие варианты цветосочетания в натуре. Последующая обработка негатива и позитива помогала выявлять намерения автора.
К 70-м годам обе разновидности современной фотографии – черно-белая и цветная – уже на равных вошли в интеграцию искусств и средств массовой информации, всего явственнее в союзе с полиграфией.
Но именно в пору достижения успехов фотографирования на трехслойной необратимой пленке шумно объявила о себе новая техника цветной съемки: фотографирование на обратимую пленку. Слово "слайд" становится распространеннейшим в языке фотографов – профессионалов и любителей. Происходит новый взрыв в фотолюбительском движении.
В тысячах семей, в клубах, во многих кружках фотолюбителей проекторы отбрасывают на экраны цветные изображения – серии слайдов, сделанных в туристических поездках или снятых специально по сценарию. Самодеятельный экран прощает неточность цветопередачи, нарушение цветового баланса; снимки на экране оказываются все-таки привлекательными и вызывают похвалы зрителей. Это – область чисто любительской фотографии, и она служит как информации, так и целям эстетического воспитания на первоначальной стадии сближения с искусством.
Одновременно обретала силу профессиональная цветная съемка на широкую обратимую пленку. Появились устройства для проверки цветового баланса в снимках, его выравнивания при полиграфическом воспроизведении цветных изображений. В считанные годы настолько закрепилась связь цветной фотографии с полиграфической техникой, что не столько на стендах фотографических, промышленных и информационного характера выставок, сколько на страницах всякого рода полиграфических изданий нашло отражение ремесло фотографирования в цвете, именно в технике слайдов (475-477).
Издатели буклетов, альбомов, рекламных проспектов, плакатов и, что важно, иллюстрированных журналов частично, а то и полностью отдали предпочтение воспроизведению слайдов, а не цветных снимков на бумаге. Это относится и к журналам общего характера, особенно же к географическим. На глазах одного поколения цветное фотографирование в технике слайдов заняло прочное место в иллюстрационном деле. Когда-то черно-белая фотография исподволь стала утверждаться на территории, исстари принадлежавшей изобразительным искусствам, теперь цветная фотография на каких-то участках территории теснит саму черно-белую фотографию.
Техника слайдов заняла господствующее положение в репродуцировании произведений живописи. На страницах полиграфических изданий она доставляет информацию о трудах художников "на дом", – явление заметное в культуре нашего времени. Устраиваются выставки репродукций картин классиков техникой слайдов. Просматриваемые же на просвет произведения и их фрагменты позволяют по-новому прочитывать картины. Таким образом, цветная фотография выступает в роли своеобразного исследователя-комментатора. Стоит упомянуть и о приложении слайдовой техники съемки к различным наукам.
На горизонте предвидимого будущего вырисовывается еще один феномен техники визуальной информации в цвете – голография. Трехмерное изображение, получаемое этой, кажущейся непосвященным поистине волшебной техникой, настолько иллюзионистски-реально, что трудно отказаться от мысли, что перед тобой не материальный, весомый предмет, а призрак. Рука, протягиваемая к изображению, остается пустой. Голографическое изображение рассматривается под разными углами, информация о предмете пополняется, иллюзия реальности еще более усиливается. На выставках отводятся отдельные залы показу голографии, создаваемых коллективами научно-исследовательских институтов. Ученые успешно экспериментируют в приложении голографии к кино и телевидению.
Все чаще приходят сообщения о создании передвижных выставок: голографические изображения знакомят на таких выставках с историческими реликвиями и произведениями прикладного искусства, хранящимися в музеях.
Принципы голографии были сформулированы венгерским ученым-физиком Денисом Табором в 1947 году. Спустя четверть века голограммы уже вызывали искренний восторг как экспонаты фотографических выставок; сейчас на научных конференциях демонстрируются опыты голографических фильмов. Объявляет о себе новое визуальное средство в системе интегрированных искусств и, возможно, новое средство массовой информации. Решение этого вопроса – во власти будущего.
Почти полуторавековое развитие фотографии неопровержимо свидетельствует о том, что решение творческих замыслов во многом зависело, зависит ныне и будет зависеть в дальнейшем от обновления ее технических возможностей. Можно считать, что съемка в цвете заметно уравнивается в ранге с давно достигшей зрелости черно-белой фотографией. Сама эволюция цветной фотографии уже становится историей.
Предвидимо время, когда авторы книг по истории и теории творческой фотографии будут обосновывать свои положения практикой не только черно-белой техники съемки, а преимущественно опытом цветной фотографии во всех ее жанрах.
Это – общая закономерность в развитии и других визуальных искусств, покоящихся на технических способах изображения.
Природа фотографического образа
В творческой фотографии разных лет были известны своды рекомендаций построения художественных снимков. Тщательно разрабатывались, например, вопросы композиции теоретиками фотоискусства 20-х – 30-х годов нашего века. Эстетические критерии заимствовались, как правило, из опыта пластических искусств, поправки и уточнения вводились с учетом возможностей техники светописи (Трошин, 1929; Tilney, 1930).
Излагались обычно правила построения двухмерного изображения с применением средств линейной и воздушной (тональной) перспективы в передаче пространства, правила передачи объема, фактуры объектов. Тщательно изучались приемы работы со светом, деформации, вызываемые съемкой объективами разного фокусного расстояния. Предлагались понятия зрительного и смыслового центров композиции, рассматривались варианты построения снимка в овале, в треугольнике, сочетания прямых и кривых линий в рисунке. Разрабатывались правила соблюдения равновесия в композиции. Описывались достоинства композиции замкнутой и открытой, преимущества "золотого сечения", приемы передачи целого частью. Эти и другие правила прилагались как к традиционным жанрам – портрету, пейзажу, бытовому аранжированному сюжету, так и к снимкам моментальным, выполняемым методом выборочной композиции при съемке с уточнением затем композиции путем кадрирования при проекционной печати. Давалось множество советов по технике различных позитивных процессов с соответствующим подбором бумаги.
Со временем подобные рекомендации были перенесены на занятия цветной фотографией, добавлялись советы по соблюдению колорита, по сочетанию дополнительных и противостоящих один другому цветов.
Художественная фотография – черно-белая и цветная – как ветвь изобразительного искусства ныне тоже питается отраженным светом красоты пластических искусств. Несмотря на расширение сферы приложения фотографии к различным областям художественной культуры, прикладных искусств и собственно информации, она и теперь не менее нуждается в своде правил эстетизированного построения снимков. Тысячи фотолюбителей и будущих профессионалов проходят курс композиции или самодеятельно, или в учебных заведениях. Изучают композицию фотографии как исходный курс и студенты, будущие кино- и телеоператоры. Много ценного, необходимого на этой стадии подготовки учащиеся и фотолюбители черпали и черпают из распространенных пособий по композиции и другим творческим началам фотографии (Дыко, Головня, 1955, второе издание – 1962; Дыко, 1970, 1977).
Заимствуемые из практики изобразительных искусств правила и наставления значительно видоизменяются, перерабатываются, дополняются рекомендациями в соответствии со спецификой фотографических изобразительно-выразительных средств. Объектив – не кисть или карандаш в руках создателя изображения, съемка на натуре – не рисование с этюдником, оптико-химические средства – не краски на палитре, лаборатория фотографа – не мастерская художника. Все это учитывается в пособиях по композиции. Однако связи с эстетикой пластических искусств остаются. В фотоклубах, на собраниях фотографов при оценке эстетических качеств снимков исходят из сложившихся в теории оценочных критериев. Природа художественного образа при этом чаще всего рассматривается в свете эстетики изобразительного искусства.
Метод выборочной композиции, как и аранжирование снимков вплоть до режиссуры, предоставляет возможность обобщения образов. И практика фотохудожников разных периодов истории светописи доказательно убеждает в том, что природа таких образов по аналогии действительно близка природе образов станковых картин. Следовательно, для такого вида фотопроизведений нет безусловной надобности разрабатывать особые правила, каноны, рекомендации, эстетические критерии. Для фотографики тем более. Достаточно адаптирования их из пластических искусств в границах возможностей техники художественной светописи.
Остаются связи с эстетическими критериями разного стилистического склада, бытующими в этих искусствах. Подобные традиции сохраняются и с переходом первенства от черно-белой фотографии к цветной. И в жанрах портрета или пейзажа, в жанрах познавательной, реалистической и метафорической фотографии, как и в жанрах декоративного характера.
Пусть не звучит умаляюще истина, что фотография как изобразительное искусство уступает по своим творческим параметрам возможности пластических искусств. Тем самоотверженнее надо счесть труд фотохудожников, преданно работающих в области фотографии как изобразительного искусства. Они заставляют свою технику служить так, что критики оценивают их произведения, сравнивая с произведениями выдающихся представителей современных пластических искусств. Они стойко несут честь своего искусства, в частности, наглядно убеждая и в том, что с каждым десятилетием немалое число живописцев и графиков все чаще пользуется заимствованиями из творчества такого склада фотографов. Общность эстетических критериев в художественной фотографии и пластических искусствах в этих случаях продолжает оставаться.
Иначе обстоит дело в области документальной и документально-художественной фотографии. Попытки приложения к ней бытующих эстетических критериев были не всегда успешны. И если снимок или серия снимков не отвечали заимствованным из традиционных пластических искусств представлениям о художественном образе, такие произведения фотографии просто-напросто выводились за границы искусства. Мы уже не раз говорили об этом. Только начиная с 30-х годов нашего века стали появляться труды исследователей, заинтересовавшихся самобытностью природы образа в документальной фотографии. Способствовало этому в последующие годы развитие теории кинематографа и телевидения. Особенно кинематографа. Это синтетическое искусство вобрало фотографию в свою поэтику утилитарно: система монтажного построения фильмов поглощала фотографию, и фотографическая первооснова кинематографа оказывалась десятилетиями не замечаемой. Заимствования из практики театра, торжество звукового, затем цветного кинематографа еще заметнее отвели фотографию на второй план. Настал, однако, срок, и немало теоретиков кино вгляделись в фотографию – первую из "механических" искусств пришелицу в художественную культуру общества. Они возвращаются к вытесненной было теме о фотографической природе гигантских зрелищных искусств – кино и телевидения.
Показательна в этом отношении книга Зигфрида Кракауэра. На английском языке она вышла в 1960 году, на русском появилась в свет в 1974 году (Кракауэр, 1974). Исследуя природу фильма, автор первую главу посвятил истории и современному состоянию фотографии. Автор выступает сторонником концепции реалистической фотографии. Такую концепцию он считает и основой кинематографа, поэтому логично начинает книгу о природе фильма с трактата о документальной фотографии. Кракауэр осведомлен о практике формотворчества в фотографии, но считает подобные устремления не совместимыми "с целями реалистов". Он отвергает суждения о несовместимости понятия фотографии с понятием творчества. По его мнению – история реалистической фотографии подтверждает это – "фотографичности" в ее творческом понимании противопоказаны как "мертвые копии" явлений, так и искажение изображений приемами формотворчества. Соблюдение меры позволяет оставаться в пределах реалистической фотографии.
Кракауэр признает, что проблема подъема фотографии "до высоты искусства" остается по-прежнему актуальной, однако сами фотографы – "приверженцы реализма" "долго колеблются", прежде чем дать положительный ответ, "среди фотографов-экспериментаторов таких колебаний нет". (Читатель уже мог убедиться в нарастании новой волны подъема метафорической, формотворческой фотографии в 60-х – 70-х годах; Кракауэр прав: в этом творческом регионе редко сомневаются в том, что фотография – доподлинная разновидность изобразительного искусства...)
Зигфрид Кракауэр отдает преимущество фотографии, склонной к "неинсценированной действительности ", ее "склонности подчеркивать элементы ненарочитого, случайного, неожиданного", склонности к передаче "ощущения незавершенности, бесконечности, возникающего от подчеркивания элементов случайного", будь то портрет или уличный снимок. "Рамка кадра – лишь условные его границы", – пишет Кракауэр.
В фотографии эстетическое значение приобретают не сами по себе пластические качества изображения, а возможность исследовать, постигать, познавать мир, действительность, окружающую нас. Имея в виду и фотографию, Кракауэр полагает, что реалист-художник стремится "раствориться в подлинной сущности окружающих его вещей"
Интересна ссылка 3. Кракауэра на высказывание о фотографии, найденное им в романе "В поисках утраченного времени" Марселя Пруста, известнейшего французского писателя начала нашего века. Кракауэр допускает случаи, когда "сам фотограф, видимо, должен быть человеком, лишенным созидательных побуждений". И приводит суждение Пруста, считавшего документальный снимок продуктом подобной отчужденности. Кракауэр не соглашается, однако, с мнением писателя, признает такое толкование документального снимка однобоким. Но в плане размышлений о природе фотографии как искусстве Кракауэр находит полезным и убедительным мнение Пруста. Снимки фотографа "с отчужденным сознанием" исследователь определяет как антиподы формотворчеству. И оба эти явления Кракауэр считает противопоказанными реализму документальной фотографии.
Достойна внимания позиция 3. Кракауэра. По мнению некоторых критиков, "тонкость и проницательность автора" якобы утрачиваются, как только он обращается к общим методологическим проблемам реализма в искусстве. Этот вопрос выходит за пределы содержания нашей книги. Кракауэр выступил одним из первых авторов исследования природы творчества в фотографии в пору подъема ее документальных жанров. В этом объективная ценность трактата.
Со своей стороны заметим, что предаваемое остракизму фотографирование "с отчужденным сознанием" оператора может таить в себе больше признаков приближенности к объективно ценимой документальной фотографии, чем кажется на первый взгляд. Иные снимки событий и жанровых сцен фотографа-протоколиста не вызывают отклика в уме и сердце современника съемки. Но по прошествии времени, иногда десятилетий, зрители новой генерации находят в таких снимках элементы, побуждающие к живым ассоциациям, к образотворчеству. Так и порождается феномен исторического жанра в документальной фотографии, о чем уже шла речь в нашей книге.
Подлинность и точность – непременные признаки документа в фотографии; документ – это совесть фотографии, как сказано в статье одного искусствоведа ("Фотография-76"). В отличие от художественной инсценировки, от режиссированной фотографии, документальная заменяет зрителю, читателю его присутствие при сем.
Современная эстетика ищет дополнительные объяснения "магии" перехода документа в образ. Анализируются поэтика "решающего мгновения", находки техники съемки "скрытой камерой", емкость содержания "нерешающего мгновения", наконец, феномен случая, позволяющего фотографу иной раз выдавать зрителям потрясающей силы снимки, приобретающие черты типического. Но такого рода характеристики пока что не объясняют всего значения документальной фотографии в нынешней системе ее коммуникативных связей – и информационных, и художественных.
Информативность изображения необязательно перерастает в образ, как бывает в произведениях пластических искусств. Иногда снимок нехудожественный, даже антихудожественный с точки зрения традиционной эстетики, вызывает, однако, глубокие эмоции. Фотография в этих случаях отвечает потребности и эстетического переживания. Такой парадокс становится реальностью эстетической мысли. Читатель может найти подобные примеры и при рассматривании иллюстраций данной книги.
В 60-х годах заново были прочитаны и применены к эстетике фотографического документального искусства труды уже упоминавшегося в книге немецкого философа и литературного критика Вальтера Беньямина. Он в 30-х годах высказался о новой эпохе в истории искусств, названной им "эпохой технической репродукции". В научном отношении это неприемлемое субъективное определение. Да, "техническая репродукция" относительно новое понятие в культуре, но оно не отменяет принятого традиционного понимания искусства. Однако следующее, частное заключение Беньямина интересно. Фотографию он счел своеобразным мостом между "классическими" и "репродукционными" искусствами. Фотография – по мнению исследователя – стала чем-то радикально новым, и поэтому при оценке ее надо учитывать не столько критерии, заимствуемые из "классических" искусств, сколько ее призвание – воспроизводить действительность. Она проникает в действительность и добывает из нее правду на уровне своей эпохи. Фотография стала фактором, вносящим совершенно новое "в атмосферу культуры".
Вальтер Беньямин полагает, что в пластических искусствах создаются неизбежно культовые произведения: натура, возвышаясь до обобщения, придает образу признаки избранности, независимо от того, кто или что изображено на картине, вставленной в раму. Фотография же воспроизводит саму действительность. И чем больше ощущается действительность, тем лучше выполняют свою функцию снимки.
В духе, близком изысканиям Беньямина, в начале 60-х годов высказались другие исследователи. Например, Альфред Лигоцкий в Польше. Он призывал к радикальному отсечению фотографии от искусства, видя первичное предназначение ее в выполнении информационно-документальных функций.
Небольшая по объему его книга содержит аргументированный исторический очерк фотографии – от расцвета пикториализма до "катастрофы", постигшей это направление с наступлением периода исканий "новой вещности" или "новой предметности". Книга знакомит с принципами современной фотографии. К сильнейшим признакам фотографии Лигоцкий справедливо относит подлинность изображения, его аутентичность, документальность. И идет на крайний вывод: настойчиво развивает мысль, что именно благодаря этим основным своим свойствам фотография не может быть искусством, что на правильном пути находятся те фотографы, которые интересуются не эстетическими нормами, а первичным предназначением фотографии, – выполнять лишь информационно-документальные функции, моментально фиксировать различные события и явления, происходящие вокруг нас.
По мнению Лигоцкого, общие художественные критерии не подходят для определения качеств, которые фотография приобретает, становясь творчеством. От такого радикального отсечения фотографии от искусства он ждет пользы для фотографии и ее дальнейшего развития как области культуры.
Книга А. Лигоцкого вызвала оживленную дискуссию. Она даже возмутила часть представителей художественной фотографии. Лигоцкий как бы поднес огонь, готовый сжечь мосты между искусством и фотографией. И тут вмешались голоса критиков. Да, эстетика, привыкшая оперировать понятиями, объясняющими природу изобразительных искусств, пока только ищет научное обоснование эстетических признаков современной творческой фотографии. Но это не дает основания вовсе исключать фотографию из круга искусств, а как раз побуждает к поискам новых критериев художественности. Лигоцким не опровергнута эстетическая сторона выборочной композиции при репортажной съемке, не опровергнута эстетическая установка в применении ракурсов и произвольной деформации линейной перспективы с помощью того или иного объектива.
Обойдены некоторые другие приемы поэтики современной репортажной жанровой фотографии. Не проанализирован в достаточной мере процесс восприятия зрителем эмоционально насыщенных снимков и циклов подобных снимков. В интегрированной системе современных искусств документальная, в частности, репортажно-жанровая фотография находит свое место. Фотография расширяет границы эстетического. Мосты, которые готов был сжечь Альфред Лигоцкий, остаются в достаточной сохранности...
В ГДР одним из первых исследователей "механизма" обращения факта, достоверности в образ выступил Бертольд Байлер (1915-1975). В своих трудах он сосредоточивал внимание на сфере наблюдения и отбора, которая доступна только фотографу и открыта для его инструмента – камеры. В этом, по мнению немецкого исследователя, – одно из специфических средств фотографии как искусства. "...Моменты, запечатленные непосредственно в минуту свершения" и являются, по его словам, предметом творческой фотографии. В "силе мгновенья" фотография нашла свой предмет, ту область, "которая была и остается закрытой для классических изобразительных искусств" (Байлер, 1967).
В последние десятилетия много сделали для развития фотографической теории советские исследователи. "Фототеория наиболее сильно заявила о себе в фундаментальных трудах, посвященных общим историко-теоретическим проблемам. Специфике фотографии отведено немало страниц... в исследованиях по эстетике профессоров Ю. Борева, А. Зися, М. Кагана; в очерках по истории семиотики В. Иванова; в трудах по теории документального творчества С. Дробашенко; в собраниях сочинений С. Эйзенштейна и Вс. Пудовкина; в наследии Дз. Вертова, в ряде других авторитетных изданий. Эти работы вооружают нашу фотокритику новой, более совершенной методологией", – пишет на страницах журнала "Советское фото" обозреватель теоретической литературы этого периода (Фомин, 1982).
Советские искусствоведы еще в начале 60-х годов, касаясь вопроса фотографии как искусства, исходили из опыта изобразительных искусств. Переносили понятие образа в художественную фотографию по аналогии. И все же прочно входило в их рассуждения понятие "документальность".
Художественная фотография "одновременно и информация о факте... и вместе с тем образ", писал В. Ванслов в своей книге, посвященной видам искусства (Ванслов, 1963). Автор, впрочем, оговаривался: "превращение искусства в фиксацию реальных фактов, подмена типа прототипом равносильна натурализму". Он обошел феномен документального фоторепортажа как вида искусства и пользовался термином "художественная фотография". Но признал, что в ней, как и в других искусствах, "функция художественного воздействия на людей" "включает в себя, в узком смысле слова, моменты познавательный (информационный), идейный (связанный с осмыслением жизни), эстетический (связанный с чувственно-эмоциональным отношением к действительности) в их неразрывном единстве".
С середины 60-х годов в выступлениях исследователей изменилась тональность отношения к документальному по своей природе искусству фотографии. Рассуждения о фотографии послужили также и своеобразным катализатором для обобщения вопроса о документализме в других искусствах.
Автор ряда трудов по эстетике той поры А. Зись традиционно отнес фотографию к изобразительным искусствам. Но примечательно, что он выделял фотографию, не имитирующую ни живопись, ни графику, а ведущую разговор о жизни своим особым языком. "В самой фотографии, – писал А. Зись, – заложены возможности преодоления простого копирования жизненных фактов, и тогда, когда она этого достигает, фотография правомерно становится искусством". А. Зись отнес фотографию к изобразительным искусствам только по признаку обобщения и типизации отбираемых фактов.
Такая традиционная постановка вопроса казалась уже недостаточной.
Спустя несколько лет А. Зись шире ставит вопрос о документальности в фотографии, связывая его с размышлениями об этой проблеме в других искусствах. В статье начала 70-х годов исследователь пишет: "Художественная фотография складывалась и развивалась под воздействием других искусств. Однако в наше время сказывается и обратное влияние фотографических методов исследования жизни на другие искусства. Мы имеем в виду широкое утверждение принципов документализма не только в кинематографе, но и в литературе, в частности – в драматургии, в театре". И добавляет далее: "...Документальность в различных искусствах представляет собой по существу трансформацию принципов художественной фотографии, разумеется с учетом специфики и своеобразия соответствующих искусств" (Зись, 1975). Существенное дополнение.
Автор книги, которую читатель держит в руках, в публикациях по истории фотографии до середины 60-х годов придерживался также устоявшихся традиционных взглядов на художественную фотографию, как на видоизмененную техникой живопись и графику. Документальный снимок без черт обобщения типического в образ оставался за пределами художественного. Однако успех именно документально-репортажных снимков на национальных и международных выставках оказал свое влияние. В 1967 году в статье "Против устарелого понимания художественности", напечатанной журналом "Советское фото" еще в дискуссионном порядке, автор изменил свою позицию (Морозов, 1967). Приводим выдержку из этой статьи, кажущуюся характерной для выступления в защиту понятия художественности документальной фотографии: "...Репортажи, включая и снимки событий, в лучших своих образцах поднимаются до уровня произведений искусства. Очевидно... репортаж помог современной фотографии сбросить путы старого понимания художественности и храбро объявить свой язык языком самостоятельного искусства. Налицо эстетическое осмысление информации о факте, обращение документа в образ. ...Эти жанры недоступны ни живописи, ни графике; там "фотографизм" – зло, слабость. Сила же подобных снимков – именно в передаче правды дня, а часто и в раскрытии напряженного душевного состояния людей..."
Именно эстетическое осмысление информации о факте, обращение документа в образ, судя по развитию исследовательской мысли в области фотографии, стало одним из коренных вопросов эстетики искусств, связанных со средствами массовой информации. Домысливание образа, рождаемого сочетанием фактов, информативных обозначений в снимке, рассматривается с некоторых пор в плане психологии творчества и эстетического восприятия как присущий фотографии признак.
В 70-е годы проблему замысла и воплощения в документальной фотографии анализирует исследователь в области эстетики средств массовой информации Ан. Вартанов. В своих статьях он полемизирует с авторами, по традиции заявляющими, что художественно-образная природа фотоискусства принципиально отличается от фотодокументалистики и что документальность сама по себе искусством стать не может.
Исследователь допускает наличие "эстетического содержания", "когда фотокамера протокольно фиксирует красоты, существующие в самой жизни". Но такой "плагиат у природы", репродукция "естественной художественности", по мнению Ан. Вартанова, закрепляет "творческую пассивность фотографии", она "лишь воссоздает существующее до нее". На примерах из творчества фотодокументалистов А. Гаранина, А. Картье-Брессона, Я. Халипа и других исследователь рассматривает процесс возникновения замысла, его реализацию и природу восприятия снимков.
Опираясь на труды других искусствоведов, Ан. Вартанов развивает теоретические положения. "Документальную фотографию и, соответственно, документальный образ" считает "доподлинным, основанным на фактах жизни, предельно точным репортажным фототворчеством" (подчеркнуто нами. – С. М.). Делает попытку проанализировать на примерах из практики фотографов сочетание в снимках антиподов: документальности и обобщения.
Он говорит о понятии неадекватности модели и снимка, то есть признака или признаков, делающих снимок не "мертвой копией действительности", а плодом творческого замысла автора. "...Фотография тем и удивительна, – пишет Вартанов, – что даже при достаточно большом отходе от натуры, при значительной степени неадекватности, она сохраняет подлинность, свойственную всякому документализму" (Вартанов, 1973).
Разительно изменились и тон, и суть высказываний искусствоведов. Документальная фотография стала своеобразным полигоном, на котором испытываются положения о документальности в искусстве вообще (Дробашенко, 1972; Мачерет, 1968; Огнев, 1971). В трудах говорится о документальности в изобразительных искусствах, кинематографе, литературе с ссылками на природу документальности в фотографии. Серьезные изыскания по этому вопросу содержатся в статьях некоторых сборников ("Искусство и научно-технический прогресс", 1973; "Документальное и художественное в современном искусстве", 1975).
Содержательно определение искусства документализма раскрыто в книге С. Дробашенко "Феномен достоверности". Автор ее считает, что, "опираясь на документ и оперируя им", художник осуществляет свой замысел, вкладывает в документы мысли, которые "могут быть столь же многообразными и свободными в отражении реального, как и сама жизнь".
Близок этому взгляд на природу документального образа в телевидении народного артиста СССР С. В. Образцова. По словам автора, потребитель произведений нового зрелищного искусства – ТВ, не связанный расстоянием, оказывается перед экраном наедине с людьми, событиями, явлениями, что недоступно ни одному из традиционных искусств (Образцов, 1978).
И потребителю документального снимка дано не только право соучастия в событии, но и право соучастия вместе с автором в создании образа, при этом привлекаются ассоциации, порождаемые снимком. В этом заключена многовариантность восприятия документальных снимков, обладающих признаками жизненной подлинности, многовариантность подчас даже большая, нежели при восприятии картины живописца или рисунка графика.
В 80-е годы появляются монографии, целиком посвященные фотодокументу (Пондопуло, 1982; Вартанов, 1983), делаются попытки определить жанровую структуру фотопублицистики (Чудаков, 1982-1983).
Остановимся на книге Г. Пондопуло "Фотография и современность". Ее автор исходит из определения В. И. Ленина фотографии как образной публицистики, иллюстрирует это положение ссылками на теоретические высказывания и на творческую практику представителей разных искусств, главным образом, литературы. В этом труде, в связи с темой о документализме, приобретают обновленный интерес высказывания о Бальзаке, которого Карл Маркс называл "доктором социальных искусств". Приводятся актуально воспринимаемые высказывания B. Маяковского и Б. Брехта. Пондопуло делает вывод, что в современном искусстве "обращение к факту и документу помогает преодолевать... ограниченность досоциалистического реализма".
Еще в статьях, опубликованных ранее, автор рассматривал связи искусств и литературы с фотографическим документализмом. Теперь он проследил эти связи цельно, системно, с привлечением обширной литературы, как отечественной, так и зарубежной; рассмотрел развитие теоретических положений и в историческом аспекте. В книге изложены взгляды на фотографический документализм исследователей многих стран. Показано – и это увеличивает ее ценность, – что во взаимосвязи с изучением образного языка кинематографа заинтересованно рассматривали природу образа в фотографии выдающиеся деятели советского кино – Дз. Вертов, Л. Кулешов, C. Эйзенштейн, Вс. Пудовкин, А. Довженко, М. Ромм и другие; изложены их суждения, приобретающие ныне обновленную актуальность. Приведены также, теоретические высказывания А. Родченко.
В книге характеризуется различие метода использования фотодокументов и самого толкования фотодокументализма в современном буржуазном искусстве и искусстве социалистическом.
Несомненный интерес представляет рассмотрение высказываний Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого о значении в творчестве писателей "злобы дня", "сиюминутной современности", описания "живой жизни". Поучителен для понимания документализма в реалистическом искусстве анализ некоторых стилистических особенностей прозы А. П. Чехова. "Чеховская проза, – пишет автор, – обладает своеобразным "фотографическим" качеством, которое, по словам самого Чехова, достигается путем отречения от "личного элемента". Внешне оно выражается в протокольности повествования, использовании выразительности мгновения, фрагментарности композиционного построения, в стремлении использовать деталь как выражение художественного целого" (Пондопуло, 1982).
Как мы видим, различны аспекты изучения исследователями соотношения информационности, документализма и художественности. Их нельзя свести к единой формуле. Что же касается документализма, его роли в современном искусстве, то здесь иногда допускается даже чрезмерность. Поэтому правомерно и появление публикаций, выправляющих такой крен.
Укажем на статью академика, лауреата Ленинской премии М. Б. Храпченко. На примерах преимущественно из области художественной литературы и кино автор статьи показывает незыблемыми основополагающие принципы материалистической эстетики в учении о природе образа в искусстве, предостерегая от некритического возведения документальности чуть ли не в доминанту современного искусства. Статья рассчитана и на успокоение излишней пылкости выводов адептов документалистики: "Для меня представляется несомненным, что документальное искусство, в частности, документальное кино, внесло немало ценного и значительного в нашу духовную жизнь, в социалистическую и демократическую культуру. Возражаю же я – и притом решительно – прежде всего против теории об особой, преимущественной по сравнению с другими видами искусства роли документалистики в открытии и защите истины, многогранной правды жизни. Теория эта явно не соответствует действительности" (Храпченко, 1978).
Доводы статьи основательно аргументированы. Они весьма полезны для объективной оценки взаимоотношения документальности и образности в искусстве. В статье, однако, нет упоминания о фотографии. Практика же документальной фотографии позволяет внести некоторые дополнения к отдельным частным утверждениям М. Б. Храпченко. Возьмем такой его вывод: "В тех случаях, когда документальность имеет преимущественно информативный характер, наблюдается явление, которое можно было бы назвать эффектом одноразового действия. Читатель и зритель, обратившись однажды к произведению информативной документалистики, не испытывает потребности новых общений с ним. Желание ознакомиться с интересной для него информацией удовлетворено. Другие же функции такого рода документалистике не свойственны".
Наши наблюдения над развитием документальной фотографии позволяют сделать и несколько иной вывод: воспринимающаяся информативной актуальная фотография "обрастает" ассоциативными связями уже сегодня, образ дорисовывается в сознании читателя-зрителя на основе документального изображения. Допустим, к снимку теряется интерес, он оказывает "одноразовое действие". Но в изменившемся сознании зрителя спустя годы он иногда воспринимается заново как образное произведение. Существенное качество.
Приведенные выше высказывания многих исследователей позволяют еще раз заключить, что с середины нашего века фотография на равных со своими старшими искусствами входит в круг интересов искусствоведов. Позволяет им соотносить с ее творческой практикой утверждения, касающиеся других искусств и литературы.
Интенсивно изучается "магия" перерастания документа в образ. За эстетикой здесь бесспорно остается последнее слово.
На помощь эстетике приходят другие теоретические дисциплины.
В связи с развитием средств массовой коммуникации исследователи допускают рассмотрение проблем фотографии в свете социологии, особенно проблем наиболее коммуникативных жанров, близких журналистике. Вместе с кино, телевидением и периодической печатью фотографию относят к средствам массовой коммуникации. А средства коммуникации опираются на теорию информации. Эта одна из относительно молодых математических и естественнонаучных дисциплин оказала уже заметное влияние на многие области знаний.
Некоторые положения теории информации получили развитие в трудах отечественных и зарубежных искусствоведов, работающих в области теории кинематографа, телевидения, периодической печати. Так, Анна Грегорова в книге "Фотографическое творчество" проанализировала вопросы теории собственно художественной и документальной фотографии с привлечением солидного материала истории. Это труд с широким охватом проблем. В нем разбираются эстетические категории фотографии, характеризуются ее стили – особенно подробно реализм, – описываются жанры, дается анализ психологии творческого процесса и т. д. При этом автор косвенно касается теории информации, а также семиотики (Gregorová, 1977).
Людовит Главач, Тарас Штефек в своих статьях, размышляя о документализме в фотографии, часто пользуются положениями теории информации и науки о знаковых системах – семиотики (семиологии). Специалист в своей области наук Ян Шмок серию своих статей о теории современной фотографии как раз и начинает с разбора причин, которые позволяют основой этой теории считать общую теорию информации (Smok, 1971).
В теоретических статьях некоторых советских авторов, посвящаемых природе документальности в фотографии, также имеются обращения в область семиотики и теории информации. Анализируется синтаксис снимков, уточняются подлежащее и сказуемое в них. Отыскиваются свежие аспекты оценки как формы, так и содержания снимков (Демин, 1980). Отмечается способность фотографии строго воспроизводить внешний вид предметов, их конструктивную схему, буквальность предметов, – такое значение в семиотике называется денотативным. Когда же изображение связывается с определенными ощущениями, наблюдениями, мыслями, то в этом случае фотография выявляет, согласно семиотике, содержание коннотативных значений. Здесь, очевидно, и возникают признаки образности (Михалкович, 1980).
Семиотический подход к анализу композиции и документальных, и в какой-то мере срежиссированных фотографий позволяет отойти от непременно традиционного разбора построения снимков в духе правил, заимствованных из эстетики изобразительных искусств (Хренов, 1979).
Коснемся хотя бы одного заимствования из теории информации для раскрытия сути документального фотографического образа. Исходим из самого понятия информации. Оно не совпадает в этой науке с бытующим представлением об информации как о сведениях, сообщениях, уведомлениях. Информация определяется как понятие количественное, вычисляемое математически. Вводится дополнительное понятие предвидимости ситуации, послужившей предметом информации.
Чем предвиденнее, чем вероятнее ситуация, тем меньше информации получает ее потребитель, чем она непредвиденнее, тем количественно больше получается информации. Нередко этот оценочный критерий приложим к фотографии. Он позволяет объяснить силу выразительности того или иного документального событийного снимка. Но привлечение к документальной фотографии – тем более к собственно художественной – формулы: количество информации понимается как величина, обратно пропорциональная вероятности ситуации, – может привести к ошибочным умозаключениям. Правы искусствоведы, предупреждающие об опасности некритического перенесения подобных формул из теории информации в эстетику. Известно, что убедительны изображаемые в искусстве и ситуации вероятные. Понятие типического в искусстве издавна как раз подтверждает правоту подобного суждения. Талантливо изображенное типическое в живописи, литературе, кинематографе – это совокупность в образе предвидимых признаков и черт. Между тем подобные произведения порой вызывают сенсационный успех. И в фотографии встречается немало сенсационных снимков, отображающих предвидимую ситуацию. Например, возвращение на Землю экипажа после очередного полета космического корабля.
Привлечение логических императивов из теории информации и семиотики в теорию документального искусства не отменяет, не обесценивает традиционных эстетических оценок произведений, но способствует обновленному пониманию некоторых сторон документального, событийного или репортажного, жанрового снимка. И приносит свою пользу.
Обзоры таких представительных международных выставок, как "Интерпрессфото" и "Уорлдпрессфото", полны заметок о снимках, поражающих как раз оригинальностью, необычностью, иной раз парадоксальностью сюжетов, фиксируемых фотографами во время съемок различных событий, спортивных состязаний, жанровых сцен. Случай нередко оказывается повивальной бабкой будущего успеха снимка. Будь фоторепортер протоколистом, поэтом, "фотобардом", ловцом новостей или публицистом, он знает цену случая при съемке, – на это уже не раз указывалось в книге. Талантливый фоторепортер – предвидец возможных редких ситуаций. В этом – одно из проявлений дара фотографа-документалиста. Часто случай – это "решающий момент" события, но не менее часто большое количество информации содержит уловленный момент вовсе не решающий, а редчайший по своей неожиданности. И так иногда рождаются сенсационные снимки.
Увлечение или неосторожность в приложении методик из семиотики или теории информации к "раскрытию тайн" творчества действительно могут привести к формализму, к игре в слова и понятия. Такая опасность есть. На наш взгляд, однако, опасность не меньшая, нежели бессодержательное, чисто формальное, традиционное, по старинке перенесение терминов и понятий из обихода изобразительных искусств в документальное искусство фотографии. Поэтому мы сочли возможным коротко сослаться на правомерные попытки оживить подход к анализу произведений фотографии заимствованиями положений из семиотики и теории информации.
Эти дисциплины лишь налаживают связи с эстетикой; не всегда прямыми, иной раз окольными путями они вторгаются в труды искусствоведов и критиков, они несомненно имеют касательство и к фотографии, и к кинематографу, и к телевидению. Делаются интересные подходы к изучению в новых аспектах проблем содержания и формы, рождения образа, места документа в художественной структуре.
Сильная сторона документальной фотографии по-разному используется в периодической печати, альбомах и на стендах выставок. Злоупотребление воздействующей силой достоверного фотоизображения новостей приводит к тому, что в практике фотографии капиталистических стран часто делается ставка на снимки, способные вызвать едва ли не шок у зрителя обнаженным показом уродливых проявлений человеческих инстинктов, биологической стороны жизни, "изнанки" психики, кровавых происшествий.
Мастера фотографии, исходящие из гуманистических целей своей деятельности, своего искусства, верны художническому чувству меры. Многое зависит от того, как и какой аудитории преподносится документальный снимок. Теория информации рассматривает зрителя как получателя информации, как приемника ее.
Естественно, имеет значение, каким предварительным запасом знаний в данной области ко времени приема сведений обладал зритель. Запас сведений зависит от общекультурного, эстетического, политического и других уровней, характеризующих получателя информации. Исследователи привлекают к изучению процесса восприятия информации социологию и социальную психологию.
Какова же механика обращения документа, достоверности в образ при таком анализе снимков?
Если документальную фотографию рассматривать как знаковую систему, то следует еще раз отметить, что природе ее свойственно превращение в знак самой реальности, чего нельзя сказать об изобразительных искусствах.
Снимок, несущий в себе достоверность реальности, вызывает в человеке первичные эмоции. Информация, порождая такие эмоции, возбуждает иногда бурные ассоциативные связи. При этом иные детали, даже натуралистические подробности снимка, могут оказаться важными стимулами. Принятое в эстетике понятие "фотографического натурализма" в данном случае приобретает положительное значение, так как знаки самой реальности способствуют процессу образотворчества в сознании получателя информации.
В современных репортажных снимках высоко ценится как раз их достоверность, аутентичность, позволяющие человеку самостоятельно создавать образ на основе заключенной в фотографии информации.
Этим может быть объяснено, в частности, сильное воздействие иных исторических, архивных, репортажных снимков. У современников событий заключенная в снимках информация, может быть, и не вызывала должной эмоциональной реакции, какого-либо эстетического отклика, вызывала однозначное, преходящее впечатление своим содержанием.
На уровне восприятия следующих поколений отдельные знаки реальности в снимках приобретают обогащенную временем оценку. Привлекает к себе изображение в целом, но приковывают внимание и подробности: облик людей, атрибуты обстановки, характерные и типические признаки быта, одежды и т. п. Изображение приобретает эстетическую ценность, подобно произведениям мемуарного жанра в литературе.
Именно такого рода процесс образотворчества вызывали, в частности, собрания документальных исторических снимков на Всесоюзной фотовыставке, посвященной 50-летию Октября (Москва, 1967), и на Международной фотовыставке, посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина (Москва, 1969).
Но далеко не всегда и далеко не всякий фотограф-оператор в силах предугадать, достаточное ли окажется количество информации в снимках, создаваемых сейчас, в данные минуты. Ошибочно думать, что нажатием затвора фотограф уже войдет в коммуникативные связи с читателем его журнала или газеты.
Если фотокорреспондент сознает, что никаких коммуникативных связей его снимки в данной ситуации съемки не приобретут, он прибегает к приемам художественной фотографии.
Это обстоятельство еще раз подтверждает, что заимствования некоторых положений из теории информации или семиотики отнюдь не отстраняют бытующих в эстетике фотографии правил построения снимка как художественного произведения. Фотограф использует соответствующие художественные средства и формы заполнения картинной плоскости, учитывая правила композиции и разные изобразительно-выразительные средства. От его способности и опыта зависит, удастся ли эстетически обновленно раскрыть сюжет.
Снимки, выполненные в конкретной обстановке, в конкретных обстоятельствах, могут в конечном своем виде оказаться и вовсе лишенными примет места, времени съемки и признаков документальности. Фотограф в этих случаях стремится к обобщению образа. При такой творческой целенаправленности фотография становится разновидностью произведения изобразительного искусства. Обобщенный, а иногда типизированный образ доходит до сознания читателя-зрителя теми же путями, что и картина художника или графический лист. Метод анализа художественных снимков, в большой мере заимствуемый из опыта изобразительных искусств, полезен и вполне применим к такого рода фотографии. Глаз человека, воспринимающего снимок, приучен к закономерностям линейной перспективы, светотональной передачи пространства, объемов, форм. Это иной раз способствует усвоению информации, иной же раз ощутимое оригинальное, непредвидимое эстетическое решение сюжета увеличивает количество информации. Происходит это за счет оригинальности, новизны, мастерской передачи самой формальной структуры произведения, а не за счет показа ситуации, события или явления окружающей жизни. Обычное, знакомое, показанное, например, с необычной точки съемки, увеличивает количество информации, часто обновляя эстетическое восприятие явлений и предметов мира.
Общепринятые расхожие признаки художественности в документальных снимках, может быть, и облегчают восприятие информации, но и приглушают силу достоверности снимка. В принципе документальная фотография в них не нуждается.
Еще раз просмотрев иллюстрации этой книги, читатель может убедиться в том, что очень многие снимки из разных периодов развития фотографии подсказывают эстетические оценки с привлечением критериев художественности, заимствуемых из традиционного опыта изобразительных искусств. Другие снимки наделены изобразительными и выразительными признаками чисто фотографического построения; необычность приемов нередко увеличивает в них количество эмоциональной информации и придает большую содержательность самой форме. Немало снимков рассчитано на возбуждение ассоциаций в сознании читателя, на участие его в создании образа скорее литературного; такие снимки содержат знаки самой реальности, образ обобщается в сознании зрителя без традиционной эстетизации материала.
Рассмотрение некоторых, не находящих еще своего решения вопросов творческой практики фотографии со стороны теории информации и семиотики обещает кое-что прояснить для эстетики. В приложении к кино уже существует обширная литература по этим вопросам. Сопоставляются, взаимодействуют, иной же раз круто противоборствуют разные подходы к проблеме. Надо полагать, что найдет свое научное отражение вопрос приложения семиотики к фотографии. Может быть, будет снято противоречие между природой документа и образом. Не будет надобности императивно подчинять эстетические критерии творческой фотографии критериям, господствующим в изобразительных искусствах. Хотя сам по себе структурный анализ языка фотографии не решит проблем, ему нельзя отдавать первенства, он лишь подскажет новые аспекты изучения этих проблем. Теория информации, надо полагать, поможет изучению и диалектической взаимосвязи искусств, но решающее слово, повторяем, останется за эстетикой.
Итак, искусство фотографии двойственно по своей природе. Это призывает к анализу его произведений с разных позиций.
Здесь рассказано о трех возможных подходах к анализу формы и содержания и содержательности самой формы фотографических снимков: 1) традиционный, покоящийся на историческом опыте пластических искусств; 2) семиотический, рассматривающий фотоизображение прежде всего в плане синтаксиса языка фотографии, что позволяет изучать отношения между знаками в снимках; 3) анализ снимков в свете теории информации. Время покажет, какие формы аналитической оценки отдельных снимков, особенно же секвенций, очерков, серий, фотокниг, приобретут на деле второй и третий из перечисленных подходов, в сочетании с традиционно сложившимся – первым.
Функционально оправданное сочетание таких подходов способствует раскрытию природы образа в творческой фотографии всех ее разновидностей.
Эти методы не должны противопоставляться в повседневной исследовательской и педагогической практике, а, наоборот, могут дополнять друг друга. Все зависит от назначения и характера фотографического произведения. Иной снимок или цикл может быть проанализирован средствами одного метода. Другой требует комбинированного подхода к себе. Это позволяет продуктивно анализировать и оценивать фотографические изображения как собственно художественные, так и первично предназначаемые для массово-коммуникативных целей, – и такие снимки, повторим еще раз, часто наделены эстетическими достоинствами.
Исследователям творческой фотографии многое подсказывают труды, в которых с новых позиций рассматриваются эстетические параметры произведений пластических искусств (Флоренский, 1967; Лекомцев, 1967; Успенский, 1970). Признаки поэтики этих искусств соотносимы с признаками поэтики творческой фотографии, что позволяет уточнять эстетические параметры фотографического искусства. Немало полезного для критического анализа иных фотоциклов и фотокниг подсказывают труды критиков и исследователей художественной литературы, особенно ее документальных жанров.
Сам факт наличия разных аспектов рассмотрения фотографического творчества и оценок фотографических произведений показывает, насколько прочное место фотография заняла в ряду современных искусств.
Заключение
В книге прослежено развитие взаимоотношений фотографии и пластических искусств. Фотография на разном уровне выполняла три роли в этих взаимоотношениях: роль подражательницы, роль помощницы, роль соперницы. В последние десятилетия, подражая, помогая живописи и графике или соревнуясь с ними в отдельных областях творчества, часто прикладного, фотография приобрела очевидное право на сосуществование с ними.
Многообразна нынешняя связь фотографии с кинематографом. Соответствия приемов фотографов круга А. Родченко приемам операторского искусства Э. Тиссе или Д. Вертова – уже явление прошлого. В 50-е и последующие годы все чаще отыскивались соответствия в приемах операторского мастерства в кино приемам репортажно-жанровой фотосъемки. Размытый первый план, нарочито неправильный монтаж, внезапная, иногда длительная остановка кадра с выразительно обыгранной деталью, работа ручной камерой, следующей за актером, когда оператор на ходу регулирует технические условия, – все это оказывается общим у кинематографа и фотографии. В съемке некоторых художественных фильмов ручная камера передается актеру, находящемуся в движении.
Общеизвестно, какое большое время выдерживают на экране иные фотографии ("застывший кадр"). Этим приемом пользуются постановщики и операторы современных художественных фильмов, не говоря уже о документальных и научно-популярных, в кинематографии разных стран. В свою очередь мастера фотографии и формотворческо-метафорической, и репортажно-жанровой немало перенимают из опыта кино.
Сверхувеличениями фотографий режиссеры театров заменяют иной раз фон, задник сцены.
В книге прослежены приметы сближения фотографии по строю образов с литературными произведениями, особенно в сериях снимков, фотоочерках, фотокнигах. Эта связь углубляется, однако здесь таится и опасность: приобретая что-то, фотография как визуальное искусство может при этом немало и потерять из прежних своих достоинств.
В интеграции современных искусств существенна связь фотографии со звучащим словом и музыкой. Множатся примеры устройства полиэкранов – любительских и профессиональных выставочных, восприятие которых сопровождается музыкой и словесными объяснениями. Высказываются предположения, что в далеком, а может быть, уже в предвидимом будущем вместе с телевидением, радио и кинематографом фотография составит распространенный вид повседневного информативного языка.
Фотографии, быть может, предстоит стать наиболее доступной для восприятия составной частью синтезированного языка будущего. Уже стала предметом исследования тема о роли фотографии в формировании зрелищной культуры современности с включением в это понятие широко рассматриваемой области дизайна (Нельсон, 1971; Каган, 1978). Формирование зрелищной культуры современности и предвидимого будущего – явление социологическое. Однако для аудиовизуального языка и этой формирующейся культуры именно эстетика будет призвана создать свои оценочные критерии.
Автор придерживается мнения, что самобытное назначение творческой фотографии в истории, важнейшая ее отрасль – фотография жизни, во всеохватном понимании этих слов. В историческом и теоретическом аспектах именно эта отрасль главным образом и освещена в книге.
В некоторых странах Запада, однако, поощряется фотография, отражающая распространяющийся в капиталистическом обществе цинизм, насилие, принижающие человеческое достоинство. Фотографы реакционной прессы обходят темы стремления народов к взаимопониманию и сосуществованию стран с разным социальным строем во имя сохранения мира на земле. Фотография тогда как бы заслоняется от острых тревог уходом в отвлеченное формотворчество.
В руках же прогрессивно мыслящих фотографов и на Западе фотоаппарат продолжает служить социальной справедливости, отражает и темы стремления трудового народа к мирной спокойной жизни.
Близость к жизни, интересам своих народов всегда отличала творчество лучших представителей искусств, включая и фотографов-художников, классиков творческой фотографии, гуманистической фотопублицистики. Учение В. И. Ленина о двух культурах в буржуазном обществе остается в силе.
Как мобильное, оперативное искусство высоко ценится в Советском Союзе фотожурналистика. Ленинский завет "делать постоянное дело публицистов – писать историю современности..." всегда оставался и остается ныне актуальным, действенным для советской творческой фотографии.
В 1979 году отмечалось шестидесятилетие со дня подписания В. И. Лениным исторического декрета "О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению". Осенью в год юбилея в Москве была открыта в этой связи Всесоюзная выставка фотографии.
Выставка "Фотография и время" отразила заметные успехи фотографов-художников и в жанрах метафорической, символической, формотворческой светописи наших дней; на стендах было немало интересных монтажных фотографий и циклов такого рода.
Главенствовал на выставке отдел ретроспективной журналистской фотографии: были представлены снимки, показавшие как исторический путь Советской страны, так и достижения самой фотографии, служившей и служащей делу мира, делу социалистического и коммунистического строительства.
Такова творческая основа советской фотографии, близкой журналистике, такой она была многие десятилетия, такой она остается и ныне, обогащаясь новыми достижениями своей техники. Это было подтверждено и очередными творческими отчетами мастеров советского искусства – Всесоюзной выставкой документальной и художественной фотографии, посвященной XXVI съезду КПСС. Выставка прошла в Москве весной 1981 года.
Идеям гуманизма, укреплению взаимопонимания между народами, целям борьбы за мир служит прогрессивная документально-художественная фотография в других странах мира. Фотография, долго шедшая окольным путем жизни искусств, вошла в их сообщество, оставаясь во многих своих проявлениях мобильно связанной и со средствами массовой информации. Таково двойное действенное назначение творческой фотографии в современной культуре.
Библиография
Общие труды по истории фотографии
Болтянский Г. Очерки по истории фотографии в СССР. М., Госкиноиздат, 1939.
Волков-Ланнит Л. В. И. Ленин в фотоискусстве. М., Искусство, 1967, второе издание 1969.
Волков-Ланнит Л. История пишется объективом. М., Планета, 1971, второе издание 1980.
Волков-Ланнит Л. Искусство фотопортрета. М., Искусство, 1966; второе издание 1974.
Документы по истории изобретения фотографии. Под редакцией Т. П. Кравца. М., Издательство Академии наук СССР, 1949.
Донде А. Сто лет фотографии. М., Госкиноиздат, 1939.
Ермилов Н. Фотография, ее прошлое, настоящее и будущее. Петроград, 1923.
Кальюла Т. Пионеры эстонской фотографии (на эстонском языке). Таллин, Ээсти раамат, 1972.
Морозов С. Первые русские фотографы- художники. М., Госкиноиздат, 1952.
Морозов С. Русские путешественники-фотографы. М., Географгиз, 1953.
Морозов С. Русская художественная фотография. 1839-1917. М., Искусство, 1955, второе издание 1961.
Морозов С. Советская художественная фотография. 1917-1957. М., Искусство, 1958.
Морозов С. Искусство видеть. Очерки из истории фотографии стран мира. М., Искусство, 1963.
Морозов С. Фотография среди искусств. М., Планета, 1971.
Поллак П. Из истории фотографии. М., Планета, 1983.
Сыров А. Путь фотоаппарата. Из истории отечественного аппаратостроения. М., Искусство, 1954.
Фотожурналист и время (составители И. Красуцкий, Ю. Пригожин). М., Планета, 1975.
Ссылки на источники
В ссылках на источники введены следующие сокращения: журнал "Советское фото" (Москва) обозначается "СФ"; издание на русском языке чехословацкого ежеквартального журнала "Фотография" (Прага) обозначается: "Фотография-65", "Фотография-73" и т. д.; международный журнал-ежеквартальник "History of Photography", an international Quarterly, Torylor and Francis LTD (London) обозначается "HPh".
Александров А. – "СФ", 1976, №12, с. 25.
Алпатов М. Композиция в живописи, Исторический очерк. М.-Л., Искусство, 1940, с. 69.
Алпатов М. Очерки по истории портрета. М.-Л., Искусство, 1937, с. 50.
Андерсен Г. Сказки и истории, т. 2. Л., Художественная литература, 1977, с. 238.
Арнхейм Р. Кино как искусство. М., Издательство иностранной литературы, 1960.
Арнхейм Р. Что такое фотография. – "Диалог-США", 1977, №1, с. 51, 54.
Базен А. Что такое кино? М., Искусство, 1972.
Байлер Б. Сила мгновения. – "СФ", 1967, №10.
Бальтерманц Д. Избранные фотографии, текст В. Пескова. М., Планета, 1977.
Бахрушин А. Из записной книжки "Кто что собирает". М., 1916, с. 38.
Бекетов Н. Речи химика. 1862-1903. Спб., 1908. с. 8.12.
Беньямин В. Краткая история фотографии, I.- "Фотография-78", Прага, №1, с. 68.
Беццола. – "Фотография-64", Прага, №1, с. 45.
Бжеска Г. – "Fotografía", Варшава, 1968 №10, с. 215.
Бланкар-Эврар Л. Об участии искусства в фотографии. – "Фотограф", Спб., 1864, №5, с. 115-116.
Борев Ю. Реализм и "нереальное". – "СФ", 1979, №3, с. 28.
Булгак Я. Фотографические беседы. – "Вестник фотографии", М., 1913, №6, с. 153-154.
Вайцекаускас Ю. Альбом "Lietuves fotografía". Вильнюс, Вага, 1974, с. 6.
Ванслов В. Всестороннее развитие личности и виды искусства. М., Советский художник, 1963.
Вартанов А. Эстетические основы документального искусства.- "СФ", 1973, №7, 8.
Вартанов А. Фотография: документ и образ. М., Планета, 1983.
Васнецов А. Художество. М., 1908, с. 119-120.
Волков-Ланнит Л. Эволюция стиля фотопортретного искусства.- "СФ", 1940, №10, с. 10.
Волков-Ланнит Л. Александр Родченко рисует, фотографирует, спорит. М., Искусство, 1968.
Времени черты. Фотографии с Международного конкурса газеты "Правда". М., Планета, 1978.
Гаранин А. Мысли вслух. – "Культура и жизнь", 1978, №11, с. 47.
Гаранина С. Портрет с натуры в натуральных красках. – "СФ", 1978, №9.
Генде-Роте В. Фотографии, текст Гр. Оганова. М., Планета, 1980.
Готье Т. Фотоскульптура. – "Фотограф", М., 1864, №2, с. 48, 51.
Громов М. Живопись и фотография. – "СФ", 1967, №9, с. 29.
Даниельссон Б. Гоген в Полинезии, перевод со шведского, с издания 1964 года, издание второе. М., Искусство, 1973, рис. 44, 45, 50, 51.
Дега Э. Письма, воспоминания современников. М., Искусство, 1971, с. 221.
Дейвис Д. и др. Современная американская фотография. – "Диалог – США", 1977, №1, с. 14.
Дейнека А. Статья в каталоге "Выставка произведений А. А. Дейнеки". М., 1957, с. 6.
Демин В. Язык фотоискусства. – "СФ", 1979, №5, 7, 11; 1980, №1, 4, 5, 9.
Документальное и художественное в современном искусстве. М., Мысль, 1975.
Донде А. Задачи регистрирующей фотографии. – Вестник фотографии", М., 1913, №10, с. 275.
Достоевский Ф. Собрание сочинений, т. 8. М., Гослитиздат, 1957, с. 507.
Дробашенко С. Феномен достоверности. Очерки по теории документального фильма. М., Наука, 1972, с. 96.
Дуфен А. Эдвард Уэстон. – "Фотогра- фия-75", Прага, №3, с. 5.
Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. М., Искусство, 1970; второе издание 1977.
Дыко Л. Фотоочерк как жанр. – "Фотожурналист и время". М., Планета, 1975, с. 199.
Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. М., Искусство, 1955; второе издание 1962.
Ермаков Д. Каталог фотографических видов и типов Кавказа, Персии, Европейской и Азиатской Турции, фотографии Д. И. Ермакова, Тифлис, 1896; Продолжение каталога, Тифлис, 1901.
Зимин П. Первые высокогорные съемки. – "СФ", 1940, №8, с. 29.
Зись А. Реалистическое искусство. – "Фотожурналист и время", сборник. М., Планета, 1975, с. 147-155.
Известия Русского Географического общества, 1868, т. 4, №2, с. 26-27.
Иогансон А. О живописности в фотоискусстве.- "СФ", 1940, №1, с. 9.
Искусство и научно-технический прогресс. Сборник статей, редакторы-составители Л. И. Новикова и В. С. Соколов. М., Искусство, 1973.
Йенни Г. Киматика. – Журнал "Курьер ЮНЕСКО", 1969, №12, с. 6, 30.
Каган М. О месте фотографии в современной культуре. – "СФ", 1978, №4, 5.
Каган М. Эстетика и художественная фотография.- "СФ", 1968, №2-8.
Кассин Е., Редькин М. Волга, фотоальбом, текст Л. Лиходеева. М., Планета, 1975.
Кичин В. Фотографика – ремесло и творчество.- "СФ", 1980, №1, с. 46-48.
Комарова А. Лесной богатырь-художник, Книжки недели", Спб., 1899, ноябрь, с. 56-57.
Копосов Г. На двух полюсах. М., Планета, 1975
Копосов Г., Шерстенников Л. В фокусе фоторепортер. М., Молодая гвардия, 1967.
Копосов Г., Шерстенников Л. Подскажет такт. – "Литературная газета", 1969, 30 апреля.
Кракауэр 3. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., Искусство, 1974, с. 28- 29 45
Красовский Ю., Черников H. М. Олени- на-дАльгейм. – "Советская музыка", 1953, №8, с. 48.
Лакшин В. Островский. М., Искусство, 1976, с. 310-311.
Левицкий С. Письмо к редактору. – "Фотограф", Спб., 1865, №9-10, с. 215.
Левицкий С. Обзор успехов фотографии на Парижской всемирной выставке 1878 года. Записки Русского технического общества. Спб., 1879, вып. 2, с. 95, 107.
Лекомцев Ю. О семиотическом аспекте изобразительного искусства. Труды по знаковым системам. Тартуский государственный университет, т. 3. Тарту, 1967.
Лемани Ж. Знакомство с Францией. – "СФ", 1973, №2.
Ленин В. И. О культуре и искусстве. М., Искусство, 1956.
Лобовиков С. Международная фотографическая выставка в Киеве. – "Вестник фотографии", М., 1909, №1, с. 20.
Лоллобриджида Джина. Моя Италия. Предисловие Альберто Моравиа. М., Планета 1975.
Луначарский А. Кино на Западе и у наС. М., Теа-кино-печать, 1928, с. 63-64.
Мамасахлиси А. Некоторые вопросы художественной специфики фотожурналистики. Автореферат диссертации. Тбилиси, 1971. (На правах рукописи.)
Мастера искусства об искусстве, т. 3. М., Искусство, 1939, с. 97, 129, 193.
Мацку И. Наступил ли закат фотожурналистики?- "Фотография-73", Прага, №4, с. 6.
Мачерет А. Реальность мира на экране. М., Искусство, 1968.
Межеричер Л. Две выставки – два этапа – "СФ", 1935, №5, с. 6.
Менделеев Д. Журнал Министерства народного просвещения. 1857, май, отд. VI, с. 137.
Мигурский И. Практический учебник по фотографии по новейшим ее усовершенствованиям и применениям. Одесса, 1859.
Милюков А. К портрету шести русских писателей. – "Русская старина", 1880, т. XXVII кн. IV, с. 871.
Михалкович В. Смысл снимка. – "СФ" 1980, №11, с. 25-26.
Моголи-Надь Л. Живопись или фотография, перевод с немецкого А. Н. Телешева. М., "Огонек" 1929.
Морозов С. Против устарелого понимания художественности.- "СФ", 1967, №4.
Морозов С. Фотограф-художник Максим Дмитриев. М., Искусство, 1960.
Морозов С., Фомин А. Эпос советской фотодокументалистики.- "СФ", 1981, №1.
"Московские ведомости", 1840. №43, 29 мая.
Муха И. Альфонс Муха. – "Фотография-79" Прага, №3.
Наппелббаум М. От ремесла к искусству, М., Искусство, 1958; второе издание. М., Планета, 1972.
Нельсон Д. Проблемы дизайна, перевод с английского. М., Искусство, 1971.
Немирович-Данченко В. По Волге. Спб., 1877, с. 31-35.
Немировский Е. – "Огонек", 1951, №28.
Нильсон В. Изобразительное построение фильма. М., Кинофотоиздат, 1936, с. 136.
Ностиц Г. Письмо из Парижа. – "Фотограф-любитель", 1892, №10, с. 393.
Образцов С. Эстафета искусств. М., Искусство, 1978, с. 93, 97.
Оганов Г. Фото-76, альбом (вступительная статья). М., Планета, 1977.
Оганов Г. "Образная публицистика" и время,- "СФ", 1979, №8.
Огинская Л. Густав КлуциС. М., Советский художник, 1981.
Огнев В. Экран – поэзия факта. М., Искусство, 1971.
Островский А. Письмо к К. Шапиро. – "Российская библиография", издание Эм. Гартье. Спб., 1880, №61 (9), с. 252.
Оцуп П. Как я фотографировал В. И. Ленина.- "Комсомольская правда", 1941, 19 января.
Очерки истории советского кино. М., Искусство, т. I. 1956, с. 85.
Очерки марксистско-ленинской эстетики. М., Искусство, 1956, с. 185.
Павленков Ф. Искусство в фотографии. – "Фотограф", Спб., 1864, №17-18, с. 408-409, 414.
Пашкевич Б. О руках в фотографическом портрете. – "Вестник фотографии", М., 1913, №7, с. 185-186.
Пашкевич Б. Принципы художественной портретной фотографии. – "Вестник фотографии", М., 1912, №3, с. 83.
Петров Н. Австрийский "Трилистник". – "Вестник фотографии", М., 1912, №3, с. 77.
Петров Н. Развитие художественной светописи в Англии. – "Вестник фотографии", М., 1915, №2, с. 30-31.
Петров Н. Франк Эжен Смит. – "Вестник фотографии", М., 1912, №9, с. 273-275, 336.
Петров Н. Художественная фотография в сев. Американских Соединенных Штатах. – "Вестник фотографии", М., 1912, №11, с. 336.
Полевой В. Тенденции документализма в живописи начала 70-х годов (течение гиперреализма). Документальное и художественное в современном искусстве. М., Мысль, 1975.
Пондопуло Г. Эстетическое значение современной фотографии. – "СФ", 1976, №1, с. 25.
Пондопуло Г. Фотография и современность. Проблемы теории. М., Искусство, 1982, с. 26.
Прометей. Альманах серии "Жизнь замечательных людей", т. I, М., Молодая гвардия, 1966, с. 399-402.
Репин И. Письма, И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. 2, 1877-1894. M.-JI., Искусство, 1949.
Робинсон Г. Художественная светопись. – "Вестник фотографии", М., 1916, №1, 4-6, с. 6, 51, 87, 113.
Роден О. Искусство. Ряд бесед, записанных П. Гзелль, Спб., 1914, с. 58, 61-62.
Родченко А. Против суммированного портрета, за моментальный снимок. – "Новый Леф", 1928, №4, с. 16; "Фотография-76", Прага, №2, с. 63.
Родченко В. Александр Родченко и Москва первой пятилетки. – "Фотография-77", Прага, №1, с. 29.
"Русский художественный листок", 1860, №34, с. 131-132.
Семин В. Найти свою тему (вел интервью В. Кичин). – "СФ", 1976, №7, с. 11.
Скопец Р. Из истории взглядов на художественную фотографию. – "Фотография-75", Прага, №1, с. 62; №2, с. 66.
Скопец Р. – "Фотография-76", Прага, №2, с. 60.
Соколов И. Фотография как искусство. – "Фотограф", М., 1928, №7-8, с. 196-198.
Срезневский В. Фотография на Всероссийской выставке 1882 г. в Москве. – "Фотограф", Спб., 1882, №7, с. 177.
Стасов В. Новые приобретения Императорской Публичной библиотеки по отделению изящных искусств – "Санктпетербургские ведомости", 1859, №135, 23 июня.
Стасов В. "Санктпетербургские ведомости", 11 июля 1858 г., №150.
Стасов В. Фотографические и фототипические коллекции Императорской Публичной библиотеки. Спб., 1885, с. 11-38.
Стасов В. Фотография и гравюра. – "Русский вестник", 1856, декабрь, т. 6, кн. 1, с. 382- 383, 398, кн. 2, с. 573-574.
Строев В. Луи Жак Дагер. Из записок русского путешественника. – "Северная пчела", 1840, №207, 14 сентября. См. также: Париж в 1838 и 1839 гг.: "Путевые записки и заметки Владимира Строева", часть П. Спб., 1842, с. 10-19.
"СФ", 1930, №4, с. 102.
"СФ", 1961, №9, с. 25-26.
Тарасевич В. Алые косынки. – "СФ" 1960 №10, с. 24.
Тарасевич В. Мы – физики, автор текста Я. Голованов. М., Планета, 1976.
Тимирязев К. Насущные задачи современного естествознания, изд. 2-е. М., 1904, с. 36, 379 и след.
Третьяков С., Телингатер С. Джон Хартфильд. М., Изогиз, 1936, с. 5.
Трошин Н. Основы композиции фотографии. М., "Огонек", 1929.
Труды Первого съезда русских художников и любителей художеств в 1894 году. М., 1900, с. 42-43.
Успенский Б. Поэтика композиций. М., Искусство, 1970.
Устинов Л. Колыма. – "СФ", 1965, №3, с. 9.
Флоренский П. Обратная перспектива. Труды по знаковым системам. Тартуский государственный университет, т. 1. Тарту, 1967.
Фомин А. Фотохудожник Ю. П. Еремин. М., Искусство, 1966.
Фомин А. Фоторепортер Аркадий Шишкин. М., Искусство, 1969.
Фомин А. Подведем некоторые итоги. – "СФ", 1982, №6.
Фотовыставка журнала "Огонек". Каталог, статья А. Шайхета и С. Фридлянда. М., 1930, с. 4.
Фотограф", Спб., 1864, №3-4, ст. Фотографическое обозрение, с. 61.
"Фотограф-любитель", Спб., 1890, №12, с. 14.
"Фотографические новости", Рига, 1909, №7, с. 110.
"Фотографические новости", Спб., 1918 (отдел объявлений).
"Фотографический вестник", Спб., 1889, №1, с. 29.
"Фотография в США", 1977.
"Фотография-75", Прага, №2, с. 59, 61.
"Фотография-76", Прага, №1, с. 6.
"Фотография-78", Прага, №1, с. 68.
Функе Я. От фотографии к эмоции. – "Фотография-76", Прага, №2, с. 64.
Халдей Е. От Мурманска до Берлина. Мурманск, 1979.
Хеджкоу Д. Искусство цветной фотографии. Переводе английского. М., Планета, 1981.
Храпченко М. Литература и искусство в современном мире. – "Контекст" 1978. М., Наука, 1978, с. 52-53.
Хренов Н. Барьеры зрительного восприятия.- "СФ", 1979, №9, с. 10-11.
"Художественная газета". Спб., 1840, №2.
"Художественный журнал". Спб., 1882, т. 3, С. 298.
Чистяков П., Сабинский В. Переписка 1883-1888 гг. Воспоминания. Л.-М., Искусство, 1939, с. 298-299.
Чудаков Г. Уроки Аркадия Шайхета. – "СФ", 1982, №4, с. 14.
Чудаков Г. Фотография в прессе. Содержание, форма, жанровая структура. – "СФ", 1982, №8, 10, 12; 1983, №1.
Шерлинг М. Выставка художественной светописи. Художественное бюро Н. Добычиной. Спб., 1913.
Шерстенников Л. Взгляните на эти лица. – "СФ", 1976, №2, с. 37.
Штефек Т. Фотография – неотъемлемая часть культуры. – "Фотография-77", Прага, №1, с. 69.
Эшби Ф. Фотограф с Малой Морской. – "Юность", 1976, №7.
Эшби Ф. Фотограф с Малой Морской. – "СФ", 1978, №4.
Юон К. Создать захватывающие картины. – "СФ", 1941, №1, с. 5.
* * *
America and Alfred Stieglitz: a Collective Portrait, New York, 1934.
Ashbee Felicity, William Carrick, A Scotch Photographer in St. Petersburg, "HPh", Vol. 2, 1978, N 3, c. 207-222.
Beaton Cecil, British Photographers, London, W. Collins, 1944.
Beiler Berthold, Die Gewalt des Augenblicks, VEB Fotokinoverlag, Leipzig, 1969.
Boev Peter, Bulgaria (Early Photography in Eastern Europe) "HPh", Vol. 2, 1978, N 2, c. 155-172.
Cartier-Bresson Henri, Images à la sauvette, Paris, 1952.
Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences, Paris, 1839, N 9, c. 257; 1840, N 20., c. 824.
„Die Fotografie", Leipzig, 1956, H. 1, c. 6-7, 12-13.
Doisneau Robert. Instantanés de Paris. Paris, 1955.
Eder. Geschichte der Photographie, Halle, 1938, 1, c. 482.
Eder Josef Maria, Geschichte der Photographie, Halle, 1932.
Faber John, Great Moments in News Photography, New York, 1960, 1978, c. 108-109.
Farbenphotographie. Eine Sammlung von Aufnahmen in natürlichen Farben, herausgegeben von Fritz Schmidt. Verlag von Seemann in Leipzig, 1911- 1912.
Fischer Klaus, Porträtfotografie, Leipzig, 1980.
"Fotografia", Warszawa, 1956, N 11, c. 17; 1961, N 7, c. 219, 226-229; 1963, N 7, c. 165; 1969, N 1, 2.
Garztecki Juliusz, Karol Josef Migurski-polski pioner rosyiskiej fotografii, "Fotografie", Warszawa, 1971, N 3, c. 57-60.
Garztecki Juliusz, Mistrz Zapomniany, Krakow, Wydawnictwo Literackie, 1972.
Gernsheim Helmut and Alison, A Concise History of Photography, L., Thames and Hudson, 1971.
Gernsheim Helmut and Alison, The History of Photography, London-New York, 1955.
Gernsheim Helmut, Creative Photography, Aesthetic Trends, 1839-1960, London, Faber and Faber Limited, 1962.
Gernsheim Helmut, The 150th Anniversary of Photography, "HPh", Vol. 1977, N 1, c. 3-8.
Graff Werner, Es kommt der neue Fotograf! Berlin, 1929.
Gregorovâ Anna, Fotografickä tvorba, Näcrt estetiky a teorie umeleckej fotografie, 2 vydanie, Vydavatel'stvo Osveta, Martin, 1977.
Hartwig Edward, Kulisy teatru, Warszawa, Arkady, 1969.
Hartwig Edward, Tematy fotograficzne, Warszawa, Widawnictwa Artistyczne i Filmowe, 1978
Hartwig Edward, Fotoerafika, Warszawa, Arkady, 1960.
Henisch H. K. Carl Dauthendey, Pioneer Photo- grapher. "HPh", Vol. 2, 1978, N 1, c. 11-18.
Histoire de la Photographie Française des origines à 1920, Avec le concours du Musée Français de la photographie Jean Fage, Paris. Creatis. 1978.
Hlavac L'udovit, Sociálina fotografía na Slovenska, Bratislava, Pallas, 1974.
Karginov German, Bodezenko, Corvina, Budapest, 1973.
Resting Edmund, Ein Maler sieht durch's Objektiv, Halle, 1958.
Kühn H., Fortschritte, "Das deutsche Lichtbild", Jahresschau, Berlin, 1933, c. 54.
Knoll Paul, Die Photographie im Dienste der Presse, Halle, 1913.
Les maitres de la photographie, Paris (год издания не указан).
Leymarie Jean. Etude biographique et critique vol. 1, L'impressionisme, Paris, 1955, c. 58.
Ligocki Alfred, Fotografía i Sztuka, Warszawa Widawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1962.
Linhart Lubomir, Alexandr Rodcenko, Praha, 1964.
Linhart Lubomir, Socialni fotografíe, Praha, Leva fronta, 1934.
Mrázková Daniela, Remes Vladimir, Fotografovali Válku, Sovétská válecnáreportáz, Praha, Odeon, 1975.
Mrázková Daniela, Remes Vladimir, The Russian War 1941-1945, London, 1978.
Newhall Beaumont, The History of Photography from 1839 to the Present Day, New York, 1949; также издание 1964.
Newhall Beaumont and Nancy, Masters of Photography, New York, 1958.
Newhall N., The Photographs of Edward Weston, New York, 1946.
Nickel H., David Octavius Hill, Halle, 1960.
Noel Ladislav, Dva póly fotografíe, Martin, Vydavatel'stvo Osveta, 1976.
Pawek Karl, Weltausstellung der Photographie, Zu dem Thema Was ist der Mensch? Hamburg, 1969.
Pawek Karl, Totale Photographie, Olten, 1960.
Pollak Peter, The Picture History of Photography from the Earliest Beginnings to the Present Day, New York, 1958; 1977.
Puyo С., Notes sur la photographie artistique. Texte et illustrations par C. Puyo, Paris, 1.896.
Renger-Patsch Albert, Die Welt ist schön, München, 1929.
Rinka Erich, Fotografie im Klassenkampf, Leipzig, VEB Fotokinoverlag, 1981.
Sävulescu Constantin, Romania (Early Photography in Eastern Europe), "HPh", Vol. 1, 1977, N 1, c. 66.
Schuh Gotthard, Begegnungen, Zürich, 1957.
Schwarz G., David Octavius Hill, New York, 1931.
Skopec Rudolf, К pocátkum ruské fotografie, "Ceskoslovenyká Fotografíe", Praha, 1974, N 7-8, c. 98-99.
Skopec Rudolf, Fotograficke visitky, "Ceskoslovenská Fotografíe", Praha, 1971, N 6, c. 246.
Skopec Rudolf, Photographie im Wandel der Zeiten, Praha, Artia, 1963.
Smok Ján, Uvod do teorie fotografíe, I, "Ceskoslovenská fotografíe", Praha, 1971, N 1, с. 13.
Sowjetische Fotografen 1917-1940, herausgegeben von S. Morosow, A. Wartanow, G. Tschudakow, O. Suslowa, L. Uchtomskaja, mit 279 Bildern, Leipzig, VEB Fotokinoverlag, 1981.
Stenger Erich, Siegeszug der Photographie in Kultur, Wissenschaft, Technik, 1950, c. 59.
Stenger Erich, Geschichte der Photographie, Berlin, 1929.
Stenger Erich, Siegeraug der Photographie in Kultur, Wissenschaft, Technik, Seebruck, 1950.
Tausk Peter, Die Geschichte der Fotografie im 20. Jahrhundert, Köln 1977.
The Family of Man, The Photographic Exhibition Created by Edward Steichen for the Museum of Modern Art, Prologue by Carl Sandburg, New York, 1955.
Tilney F. C. The Principles of Photographic Pic- torialism, Boston, 1930.
Triolet Elsa et Doisneau Robert, Pour que Paris I soit, Paris, 1956.
Именной указатель
Аббот В.
Аведон Р.
Адамс А.
Адам-Саломон
Адамсон Р.
Александров А. И.
Алпатов М. В.
Альперт М. В.
Ананьин М. П.
Андреев Н. П.
Андреев-Бурлак В. Н.
Аншютц О.
Араго Д. Ф.
Арнхейм Р.
Арчер С.
Атже Э.
Ахматова А. А.
Баахснус Я.
Базен А.
Байар И.
Байлер Б.
Бальзак О.
Бальтерманц Д. Н.
Баран Р. Л.
Баранаускае М.
Бауманн Э.
Бахрушин А. А.
Бейер К.
Бекетов H. H.
Беккерель Э.
Белинский В. Г.
Беньямин В.
Берлиоз Г.
Бестужев-Рюмин А. П.
Беццола
Бжеска Г.
Бинде Г.
Биссон (братья)
Бишоф В.
Биэйтон С.
Бланкар-Эврар Л. Д.
Блосфельдт К.
Блюхова И.
Бобир Н. И.
Бобринский А. А.
Богданов В. В.
Бодлер Ш.
Боев П.
Болдырев И. В.
Бондарчук С. Ф.
БоревЮ. Б.
Бородин А. П.
Борхардт К.
Боттичелли С.
Бранд Б.
Брассаи З.
Брехт Б.
Бригман А.
Бродский И. И.
Бруни Ф. А.
Брэди М.
Буанэ Ж.
Булгак Я.
Булла А. К.
Булла В. К.
Булла К. К.
Бунге А.
Бунзен Р. В.
Буреш И.
Бурк-Уайт М.
Бутон Ш.
Бутырин В.
Бушкин А. Г.
Вадаш Э.
Вайцияускас Ю.
Валери П.
Ван Гог В.
Ванслов В. В.
Варнерке Л. В.
Вартанов А. С.
Васильев А. А.
Васильев С. Т.
Васнецов A. M.
Ватчек Г.
Вдовин В. А.
Вдовина К. В.
Вейсман Л. И.
Венингер И.
Верещагин В. В.
Берн Ж.
Вернер К.
Вернэ О.
Вертов Д.
Видмар Г.
Виль
Виноградов З. З.
Вишковский Э.
Вишняков Е. П.
Владимирский А.
Воздвиженский Д. Д.
Волков-Ланнит Л. Ф.
Волконский С. Г.
Вольгемут А. А.
Вольта А.
Врубель М. А.
Второв Н. И.
Вуд
Габор Д.
Гагарин Ю. А.
Гажейро Э.
Гайек К.
Гайлитис Я.
Гак M.
Галош Л.
Гамель И. X.
Гаранин А. С.
Гаранина С. П.
Гей-Люссак Ж. Л.
Гейнсборо Т.
Генде-Роте В. А.
Геннеберг Г.
Георгиева Л.
Гернсхейм Х.
Герц К. К.
Герцен А. И.
Гершель Д. Ф.
Гиппенрейтер В. Е.
Главам Л.
Гоген П.
Гогович Д.
Гоголь Н. В.
Голованов Я. К.
Головня А. Д.
Гольдштейн Г. П.
Гонти Т.
Гончаров И. А.
Гоппе Э. О.
Горслей-Гинтон А.
Горький А. М.
Горячев А.
Готтшалк Й.
Готье Т.
Гофмейстер Т. и О. (братья)
Грабарь И. Э.
Грачев М. П.
Грегорова А.
Грейм М.
Греков А. Ф.
Григорович Д. В.
Грум-Гржимайло В. Е.
Грэфф В.
Гумбольдт А.
Гуно Ш.
Гюго В.
Давидзон Я. Б.
Давиньон А.
Дагер Л. Ж. М.
Дажин Д. П.
Далибор С.
Даниельссон Б.
Данхов Г.
Дарбель М.
Дарвин Ч.
Даутендей К.
Дебабов Д. Г.
Дега Э.
Дейнека А. А.
Делакруа Э.
Деларош П.
Демаши Р.
Демин В. П.
Демуцкий Д. П.
Деньер А. И.
Джибсон
Диго (Дмитриев) Н. Д.
Диздери А.
Димчев В.
Дмитриев М. П.
Довженко А. П.
Доджсон Ч. Л.
Домье О.
Донде А.
Донской Д. А.
Доре Г.
Достоевский Ф. М.
Драчинский Н. И.
Дробашенко С. В.
Дртикол Ф.
Дружинин А. В.
Дрэйпер С.
Дуано Р.
Дуглас
Дуфен А.
Дыко Л. П.
Дюко дю Орон Л.
Дюма Ж.
Дюркооп Р.
Евгенов С. В.
Евзерихин Э. Н.
Евтушенко Е. А.
Егоров А. В.
Елисеев К.
Еремин Ю. П.
Ерин А. Н.
Ермаков Д. И.
Жорж Санд
Жуков П. С.
Завадскис А.
Зарянко С. К.
Зеебек Т.
Зельма Г. А.
Зиверт Л. Л.
Зимин П.
Зись А. Я.
Зичи М. А.
Золя Э.
Иванов А. А.
Иванов А. Д.
Иванов В.
Иванов Л. В.
Иванов С. П.
Иванов-Аллилуев С. К.
Ивэнс У.
Игнатович Б. В.
Игнатович Е. А.
Игнатович О. В.
Иогансон Б. В.
Иордан Ф. И.
Истмен Д.
Йенни Г.
Йиру В.
Каган М. С.
Калашников M. M.
Кальвялис Й.
Камиош Т.
Капа Р.
Кар И.
Карастояновы Д. и И. (братья)
Каргинов Г.
Карелин А. О.
Каржа Э.
Кармен Р. Л.
Карпавичюс П.
Kapp А.
Каррик В. А.
Картье-Брессон А.
Карш Ю.
Кассин Е. П.
Катаев В. П.
Кейли А.
Кертец А.
Кестинг Э.
Киладзе С. Д.
Кимура И.
Кичин В. С.
Киш Э. Э.
Клепиков П. В.
Клоде А. Ф.
Клозе Ч.
Клуцис Г. Г.
Кнолл П.
Коблиц П.
Кобозев И. С.
Кобэрн Э. Л.
Козлов П. К.
Козловский Н. Ф.
Кольвиц К.
Кольцов М. Е.
Комарова А.
Копосов Г. В.
Корешков В. К.
Корниш П.
Коро К.
Короленко В. Г.
Котьянчич П.
Кох Р.
Кравец Т. П.
Кракауэр З.
Крамской И. Н.
Красовский Ю.
Кривцов П. П.
Крис А.
Крюгер Д.
Кудояров Б. П.
Кузнецов К.
Куинджи А. И.
Кулешов Л. В.
Кумара Ч.
Кун А. Л.
Кунчюс А.
Курбе Г.
Кэзибир Г.
Кэй Н. С.
Кэмерон Д. М.
Кэрролл Л.
Кюн Г.
Лагранж В. Р.
Лакшин В.
Ламарр Р.
Ламартин А.
Ланг Д.
Лангман Е. М.
Левитан И. И.
Левицкий Л. С.
Левицкий С. Л.
Ле Гре Г.
Лейц
Лекомцев Ю. К.
Ленин В. И.
Леонардо да Винчи
Лигоцкий А.
Линхарт Л.
Липман Г.
Лисицкий Э.
Лобовиков С. А.
Лоллобриджида Д.
Лоренс М.
Лоскутов С. И.
Лукьянова Г. Н.
Луначарский А. В.
Луцкус В.
Люмьер Л. и О. (братья)
Мазурин А.
Макаров А. А.
Макаров О. В.
Макгрегор Д.
Мак Кулин Д.
Маковский В. Е.
Максвелл Д. К.
Малышев В. А.
Мамасахлиси А.
Мане Э.
Ман Рей
Манн Ф.
Манфредини В.
Марей Э. Ж.
Маренчич Я.
Маркей А.
Марко И.
Марков-Гринберг М. Б.
Мартинчек М.
Мастюков В. М.
Мацияускас А.
Мацку И.
Мачерет А. В.
Маяковский В. В.
Медера Д.
Межеричер Л. П.
Менделеев Д. И.
Метенков В. Л.
Мечников И. И.
Мигурский И. К.
Мили Ж.
Милле Ж. Ф.
Миллер А.
Милюков А. П.
Минеев М. М.
Миссон Л.
Миранский Е. А.
Мирассо Д.
Михайловский В. Э.
Михалкова О.
Михалкович В. И.
Моголи-Надь Л.
Моне К. О.
Морзе С.
Морозов С. А.
Мортимер Ф. И.
Мразкова Д.
Мурза Г.
МьюбриджЭ.
Мэддокс Р. Л.
Нагайо И.
Надар (отец)
Надар П. (сын)
Найденов Я.
Наппельбаум М. С.
Неврев Н. В.
Некрасов Н. А.
Нельсон Д.
Немирович-Данченко В. И.
Немировский Е.
Никвист А.
Никитин Д. А.
Никкель Г. Л.
Нильсон В.
Нисский Г. Г.
Новицкий П. К.
Нордман-Северова Н. В.
Ностиц Г. И.
Нотман Э.
Ноэл Л.
Ньепс С. В.
Ньепс И.
Ньепс Ж. Н.
Ньюхолл Б.
Образцов С. В.
Оганов Г. С.
Огнев В.
Озерский М. А.
Ольхин П.
О'Салливан Т. X.
Островский А. Н.
Оцуп П. А.
Павек К.
Павленков Ф. Ф.
Панов M. M.
Пардубский Э.
Парке Г.
Пашкевич Б. И.
Пеллози А.
Перевощиков А. М.
Перро
Першайд Н.
Песков В. М.
Петров В. В.
Петров Н. А.
Петров H. M.
Петрусов Г. Г.
Петцваль Й.
Пикассо П.
Пименов Ю. И.
Писсарро К.
Пихцер П.
Плёссер Н.
Плицка З.
Плотников В. Ф.
Пожерскис Р.
Поланд Г.
Поллак П.
Пондопуло Г. К.
Порта Д. Б.
Принс Р.
Прокудин-Горский С. М.
Пруст М.
Птицын А. И.
Пуатвен А. Л.
Пудовкин В. И.
Пушкарев А. А.
Пэнн И.
Пюйо К.
Пятницкий П.
Ракаускас Р.
Ранаи Д.
Рамазанов Н.
Раота П. Л.
Рауль Ж. X.
Рахманов H. H.
Ребендинг Э.
Ревенский М.
Редькин М. С.
Рейландер О. Г.
Ремеш В.
Ренгер-Патч А.
Рентген В. К.
Ренуар О.
Репин И. Е.
Рёскин Д.
Риеккола Й.
Риис Д. А.
Ринка Э.
Рихтер С. Т.
Робинсон Г. П.
Роден О.
Роджер Д.
Родченко А. М.
Роже К.
Розенфельд П.
Ромер В.
Ромм M. И.
Россини Д.
Ротстейн А.
Рубашкин А. В.
Руйкас Л.
Сааков А. В.
Сабатье А.
Савада К.
Савельев А. И.
Савинский В. Е.
Саврасов С. И.
Саломон Э.
Салтыков-Щедрин M. E.
Сандер А.
Санько Г.
Сатклифф Ф. М.
Сатмари К. П.
Свиридова Н. А.
Севулеску К.
Сезанн П.
Сеймур Д.
Сейсс А.
Семеляк А. П.
Семенов-Тян-Шанский П. П.
Семин В.
Семполинский Л.
Симонов К. М.
Сислей А.
Скафиди Н.
Скопец Р.
Скрябин А. Н.
Скурихин А. В.
Скурихина М. А.
Слипп М. (младший)
Слюсарев А. А.
Смирнов Н.
Соколов И. В.
Сокорнов В. Н.
Соловьев С. Г.
Солодовников К. Н.
Сосфенов И.
Спурис Э.
Срезневский В. И.
Стасов В. В.
Стейхен Э.
Степанов Н.
Стиглиц А.
Стоичков Н.
Стравинский И. Ф.
Строев В.
Струнников С. Н.
Стрэнд П.
Судек Й.
Суткус А.
Сэндберг К.
Тальбот У. Г. Ф.
Тамаш С.
Тамм В. М.
Танио Ф.
Тарасевич В. С.
Тауск П.
Телингатер С.
Темин В. А.
Тереховы. А.
Тернер Д. М.
Теуш Ю. Л.
Тиканадзе Г.
Тильней Ф.
Тимирязев К. А.
Тиссэ Э. К.
Титов Г. С.
Тоз И.
Толстой Л. Н.
Толстая С. А.
Тооминг П.
Тоот И.
Трайц В.
Трапани А. И.
Трахман М. А.
Третьяков П. М.
Третьяков С.
Триоле Э.
Трошин Н. С.
Тугалев Л.
Тулинов М. Б.
Тулуз-Лотрек А.
Тункель И. Р.
Тургенев И. С.
Тэн И. А.
Тютчев Ф. И.
Уайт К.
Улитин В. И.
Улсман Д.
Успенский Б. П.
Устинов А. В.
Устинов Л. Н.
Уткин Н. И.
Уэстон Э.
Фабер Д.
Фентон Р.
Физо И.
Фишер К.
Фишер Ф. Т.
Филонов В.
Флавицкий К. Д.
Флоренский П. А.
Фомин А. А.
Фридлянд С.
Фрицше Ю. Ф.
Функе Я.
Хаас Э.
Хайн Л. У.
Халдей Е. А.
Халип Я. Н.
Хамайа Х.
Хаммонд А.
Хартвиг Э.
Хартфильд Д.
Хеджкоу Д.
Хенгл В.
Хениш X.
Хёлття И.
Хилл Д. О.
Хлавач Л.
Хмелевский И. Ц.
Холцман Ф.
Храпченко М. Б.
Хренов Н. А.
Цвернер (братья)
Черников Н.
Чехов А. П.
Чистяков П. П.
Чудаков Г. М.
Шагин И. М.
Шайхет А. С.
Шаляпин Ф. И.
Шандрин В. С.
Шапиро К. А.
Шаховской В. Д.
Шварц Г.
Шевалье Ш.
Шевроль М. Э.
Шевченко Т. Г.
Шедель
Шерлинг М. А.
Шерстенников Л. Н.
Шишкин А. В.
Шишкин И. И.
Шкловский В. Б.
Шмок Я.
Шнеебергер А.
Шостакович Д. Д.
Шоу Д. Б.
Штайнерт О.
Штейнберг Я. В.
Штенгер
Штеренберг А. П.
Штефек Т.
Шу Г.
Шульце И. Г.
Шустов В. И.
Эдер Й. М.
Эджертон Г. Е.
Эйзенштейн С. М.
Эйзенштэдт А.
Эйнштейн А.
Эйферт Я.
Эмерсон П. Г.
Энгель А. К.
Энгр О. Д.
Эннен Д. К.
Эпридж Б.
Эренбург И. Г.
Эрфурт Г.
Эшби Ф.
Юджин Смит В.
Юон К. Ф.
Юрковский С. А.
Яблочков П. Н.
Якоби Б. С.
Якутин Л.
Янсонг И.
Фотографии, опубликованные в издании

1. H. Ньепс. Франция. Вид из окна мастерской (1826)

2. Л. Дагер. Франция. Уголок мастерской художника (1837)

3. Л. Дагер. Франция. Бульвар (1838-1839)

За. Л. Дагер. Фигура мужчины возле чистильщика обуви (фрагмент снимка "Бульвар")

4. Ф. Тальбот. Англия. Открытая дверь (1844)

5. Ф. Тальбот. Англия. Монастырь в Лакок Эббей (1844)

6. Портрет Н. Ньепса (с художественного полотна)

7. Портрет Л. Дагера (с гравюры)

8. Портрет Ф. Тальбота (с дагеротипа А. Клоде)

9. Автор неизвестен. Мужской портрет (1840, с дагеротипа)

10. Автор неизвестен. Семейная группа (1840, с дагеротипа)

11. И. Венингер. Бабушка с внучатами (1840-е гг., с дагеротипа, Петербург)

12. Братья Цвернер. Женский портрет (с дагеротипа)

13. С. Левицкий. Н. В. Гоголь в группе русских художников в Риме (1845, с дагеротипа)

14. Г. Ле Гре. Франция. Бриг в море (1856)

15. Вуд и Джибсон. Парад в лагерях (1860-е гг.)
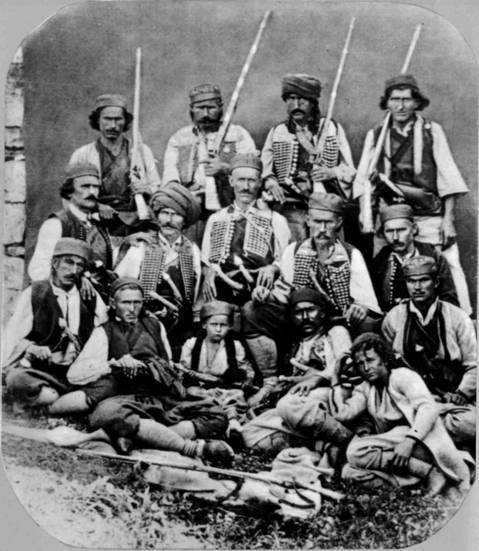
16. П. Пятницкий. Селяки Банянского племени. Герцеговина (1860-е гг.)

17. M. Брэди и Т. О'Салливан. США. Жатва смерти (1863)

18. Автор неизвестен. Франция. У ратуши в дни Парижской коммуны

19. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Генерал Скобелев среди офицеров на Шипке (перерисовка с фотографии А. Иванова)

20. М. Ревенский. Русская осадная мортира с прислугою, потопившая турецкие суда (1877-1878)

21. А. Иванов. Русский офицер с болгарскими гостями (1877-1878)

22. М. Ревенский. Мраморное море. Русские войска возвращаются на родину после окончания русско-турецкой войны (1878)

23. Д. Никитин. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Проводники русских войск на Кавказском фронте

24. Д. Никитин. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Кавказский фронт. В укреплении Зиарет

25. Н. Терехов. Оружейные мастера Ижевского завода на Урале (1880-е гг.)

26. А. Бунге. Салют из орудий парусно-парового клипера в день открытия нового поселения в устье р. Анадырь (1889)

27. А. Диздери. Франция. Восемь портретов-"визиток" на одном паспарту
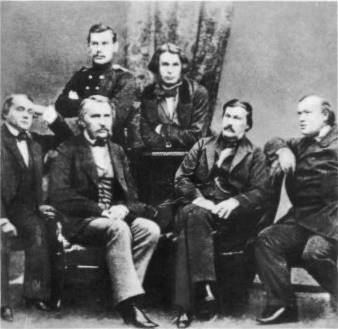
28. С. Левицкий. Писатели Гончаров, Тургенев, Л. Толстой, Григорович, Дружинин и Островский (1856)

29. Д. Хилл и Р. Адамсон. Шотландия. Портрет неизвестного (1843-1845 гг., калотипия)

30. С. Левицкий. А. И. Герцен (1860-е гг.)

31. Д. Хилл и Р. Адамсон. Шотландия. Рыбачки (ок. 1845 г., калотипия)

32. Д. Хилл и Р. Адамсон. Шотландия. У птичьей клетки (1843-1845 гг., калотипия)

33. Д. Хилл и Р. Адамсон. Шотландия. Жанровая сцена (1843-1845 гг., калотипия)

34. Дж. Кэмерон. Англия. Мать и дитя

35. Дж. Кэмерон. Англия. Портрет ученого Джона Гершеля (1867)

36. Дж. Кэмерон. Англия. Поэт Генри Лонгфелло

37. Дж. Кэмерон. Англия. Группа (1865)

38. Надар. Франция. Поэт Теофиль Готье (ок. 1855 г.)

39. Надар. Франция. Писательница Жорж Санд

40. Надар. Франция. Художник Эжен Делакруа (1859)

41. Э. Каржа. Франция. Композитор Джоаккино Россини (1865)

42. А. Деньер. Портрет Ф. И. Тютчева (1864)

43. А. Деньер. Ненцы (1860-е гг.)

44. Автор неизвестен. Финляндия. Павильонный двойной портрет (1867)

45. Надар. Франция. Глаза композитора Шарля Гуно

46. М. Тулинов. Из альбома "Типы и костюмы Воронежской губернии" (1850-е гг.)

47. О. Рейландер. Англия. Два пути жизни (1857)

48. О. Рейландер. Англия. Уличные пострелы (1860)

49. Л. Кэрролл. Англия. Этюд (1863)

50. Г. Робинсон. Англия. Жизнь затухает (1858)

51. Д. Хилл и Р. Адамсон. Шотландия. Жанровая сцена (1843-1845 гг., калотипия)

52. Г. Робинсон. Англия. Рассказ Мэри (1870)

53. Л. Кэрролл. Англия. Утро

54. Паспарту фотоателье А. Карелина

55. В. Каррик. Уличная сценка

56. В. Каррик. Из серии "Петербургские типы и сценки" (1870)

57. А. Карелин. Комнатная группа (ок. 1880 г.)

58. Автор "школы А. Карелина". "Политики" (ок. 1900г.)

59. С. Соловьев. Беседа у окна (1887)

60. В. Каррик. Семейная группа (1870)

61. А. Карелин. Подаяние (ок. 1880 г.)

62. А. Карелин. Бродячие певцы (ок. 1880 г.)

63. М. Панов. Групповой портрет художников-передвижников (1886)
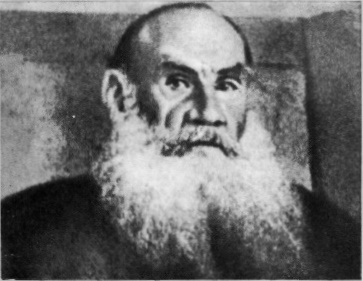
64

65
64, 65. Фотопортрет Л. H. Толстого и репродукция портрета писателя работы И. Е. Репина

66. Обложка альбома снимков Е. Вишнякова, рисованная И. И. Шишкиным

67. Э. Мьюбридж. США. Всадник берет барьер

68. Э. Мьюбридж. США. Прыжок

69-72. H. Диго. Парусные учения на корабле "Генерал-адмирал" (1884)

73, 74. К. Шапиро. Актер В. Н. Андреев-Бурлак в роли Поприщина из "Записок сумасшедшего" Н. В. Гоголя (1880-е гг.)

75

76

77
75-77. П. Надар (сын). Франция. Надар-старший беседует с химиком М. Шевролем

78. Ф. Сатклифф. Англия. "Водяные мышки" (ок. 1885 г.)

79. Ф. Сатклифф. Англия. Любопытные (ок. 1888 г.)

80. А. Стиглиц. США. Конечная остановка конки (1893)

81. А. Стиглиц. США. Дождливый день (1894)

82. А. Стиглиц. США. Дело рук человека

83. Л. Хайн. США. Детский труд на текстильной фабрике (1908)

84. Д. Риис. США. Ночная школа

85. Д. Риис. США. В "бандитском квартале" Нью-Йорка (1888)

86. М. Дмитриев. Нижний Новгород ранней весной

87. М. Дмитриев. Разгрузка баржи (1890)

88. М. Дмитриев. Волга в разливе

89. М. Дмитриев. Рыбаки
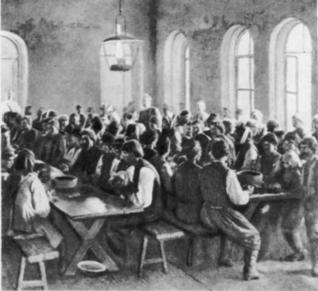
90. M. Дмитриев. Народная столовая

91. М. Дмитриев. На Рождественской улице в Нижнем Новгороде (1890)

92. M. Дмитриев. Кулачный бой у ночлежного приюта Бугрова в Нижнем Новгороде

93. М. Дмитриев. Во дворе ночлежного приюта Бугрова

94. M. Дмитриев. Странник (ок. 1900 г.)

95. М. Дмитриев. Купец

96. М. Дмитриев. Купеческая вдова

97. М. Дмитриев. Крестьянин Нижегородской губернии

98. А. Энгель. Пристань на Каспийском море (1880)

99. М. Дмитриев. Странники в Василёве на Волге

100. Д. Ермаков. Сванетия

101. Д. Ермаков. Жанровая сцена. Тифлис
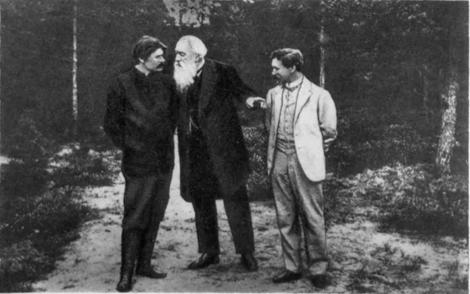
102. К. Булла. Горький, Стасов, Репин в Куоккала (1900-е гг.)

103. С. Иванов. Старт биплана "Фарман"

104. Э. Атже. Франция. Уличные музыканты в Париже (нач. 1900-х гг.)

105. Э. Атже. Франция. Сценка на улице

106. Э. Атже. Франция. Асфальтоукладчики

107. Титульный лист альбома "Неурожайный 1891-92 год в Нижегородской губернии" М. Дмитриева с дарственной надписью Л. Н. Толстому: "Великому светочу живой мысли и художественного творчества графу Льву Николаевичу Толстому"

108. Э. Дега. Франция. На выставке (картина)

109. Э. Дега. Франция. Хлопковая контора (картина)

110. Э. Дега. Из серии "Ипподром" (картина)

111. Р. Демаши. Франция. Дама в кафе

112

113
112, 113. Э. Дега. Танцовщица. Фотографии (112 – контратип с негатива, 113 – позитив)

114. Фотопортрет натурщицы Е. Вари
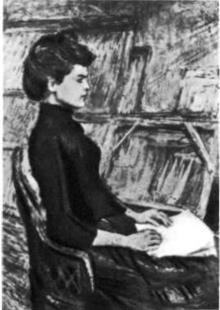
115. А. Тулуз-Лотрек. Франция. Портрет Е. Вари (картина)

116. Э. Стейхен. США. Роден-мыслитель

117. П. Козлов. Из серии "Экспедиция в Центральную Азию" (1890)

118. А. Кейли. Англия. Сказочный мотив

119. А. Горслей-Гинтон. Англия. Суффольский пейзаж

120. Г. Ватчек. Австрия. Портрет

121. П. Пихцер. Австрия. Пастух (ок. 1909 г.)

122. Г. Кюн. Австрия. В саду

123. К. Пюйо. Франция. Во время антракта

124. Г. Геннеберг. Австрия. Вилла Фальконьери

125. Л. Миссон. Бельгия. Какой ветер!

126. Р. Ламарр. Франция. Улица в Амьене

127. Р. Демаши. Франция. Ветряные мельницы у Сан-Мишель

128. Э. Нотман. Германия. Портретный этюд (ок. 1900 г.)

129. А. Мазурин. Зима

130. К. Пюйо. Франция. За пяльцами (1900)

131. П. Новицкий. Тяжело

132. Р. Дюркооп. Германия. Комнатный этюд

133. Н. Петров. Женский портрет (1913)

134. Б. Пашкевич. Портрет С. В. Рахманинова

135. К. Елисеев. В Петербурге (1914)

136. В. Сокорнов. Крым, дорога на Ай-Петри

137. Б. Пашкевич. Недоумение

138. М. Шерлинг. Портрет Леонида Андреева (1910)

139. М. Шерлинг. Федор Шаляпин в роли Мефистофеля (1910)

140. H. Андреев. Крымский пейзаж

141. H. Андреев. В метель (1930)

142. Н. Андреев. Лето (1930)

143. С. Иванов-Аллилуев. Романтический пейзаж (1926)

144. И. Судек. Чехословакия. В садовом кафе (1924-1926 гг.)

145. Я. Булгак. Польша. Пейзаж (ок. 1902 г.)

146. H. Петров. Вдаль (1909)

147. Ю. Еремин. Мост в Вероне (1907)

148. Э. Стейхен. США. Париж. После скачек (1905)

149. А. Трапани. Мужской портрет (бромойль)

150. А. Трапани. Художник В. H. Мешков (1912)

151. Г. Кэзибир. США. Женский портрет

152. А. Бригман. США. Умирающий кедр

153. Т. и О. Гофмейстер. Германия. Ночь идет (нач. 1910-х гг.)

154. Э. Кобэрн. США. Властелин Динамос

155. С. Лобовиков. Поучение

156. С. Лобовиков. Читает дедушке

157. С. Лобовиков. Вдовья думушка (1901)
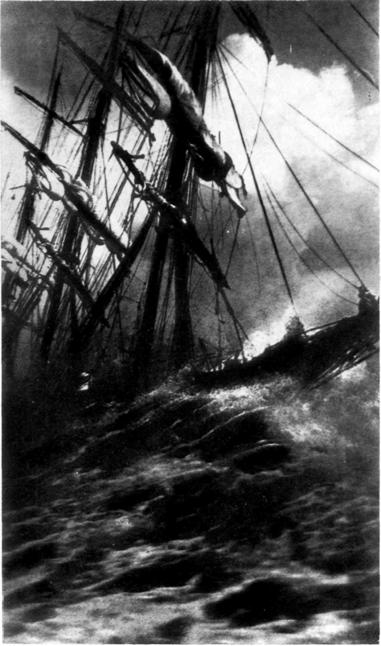
158. Ф. Мортимер. Англия. Стихия войны

159. 3. Виноградов. На волжском раздолье (1913)

160. Т. и О. Гофмейстер. Германия. В Голландии

161. С. Лобовиков. Портрет крестьянина
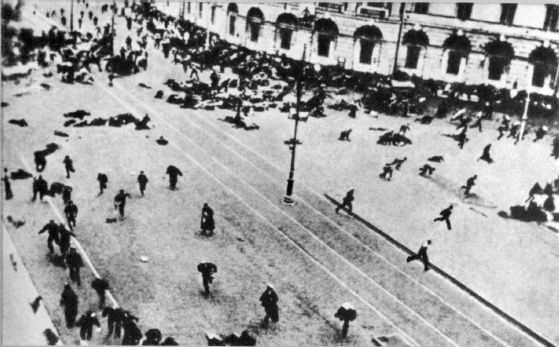
162. В. Булла. Расстрел юнкерами и казаками мирной рабочей демонстрации. Петроград, 4 июля 1917 г.

163. П. Оцуп. На охране Смольного. Петроград, октябрь 1917 г.

164. П. Новицкий. В. И. Ленин (1919)

165. Я. Штейнберг. Проверка пропусков у Смольного. (Петроград, 1917)

166. П. Жуков. Портрет В. И. Ленина

167. H. Смирнов. В. И. Ленин на параде частей Всевобуча в Москве. 25 мая 1919 года

168. К. Кузнецов. В. И. Ленин на Красной площади произносит речь перед частями Всевобуча. Москва. 25 мая 1919 года

169. Г. Гольдштейн. В. И. Ленин обращается с речью к войскам, отправляющимся на фронт (Москва, 5 мая 1920 г.)

170. M. Наппельбаум. Портрет В. И. Ленина (1918)

171. Автор неизвестен. Парад частей Красной Армии. (Харьков, 1920)

172. С. Фридлянд. Ликбез (1932)

173. А. Шайхет. На съезде рабселькоров (1928)

174. А. Шишкин. Мы за колхоз! (1929)

175. А. Штеренберг. Пролетарий

176. А. Шайхет. Бригадир молодежной ударной бригады текстильщиц (Москва, 1931)

177. Э. Саломон. Германия. Фритьоф Нансен (1922)

178. Дж. Хартфильд. Германия. Где живет капитал, там не может жить мир! (1932)

179. А. Сандер. Германия. Дорожные рабочие (1928)

180. Автор неизвестен. Германия. Снимок с обложки журнала

181

182
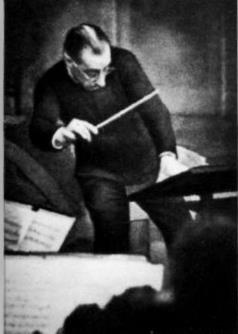
183
181-183. Ф. Ман. Германия. Игорь Стравинский дирижирует (1929)

184. Ман Рей. Франция. Сон

185. А. Ренгер-Патч. Германия. Прибрежные сваи

186. А. Родченко. Маяковский в шляпе (1924)

187. А. Родченко. Пионер-горнист

188. А. Родченко. Портрет матери (1924)

189. А. Родченко. Маяковский, сидящий на стуле (1924)

190. А. Родченко. Прохожие (1927)

191. А. Родченко. Новый МоГЭС (1930)

192. А. Родченко. Девушка с "лейкой" (1934)

193. А. Родченко. Скачки (1935)

194. А. Родченко. Беломорско-Балтийский канал (монтаж, 1933)

195. Е. Лангман. Трактор в Казахстане (1930-е гг.)

196. Б. Игнатович. Ленинград, "Исаакий" (1930)

197

198

199
197-199. Д. Дебабов. Охота с беркутом. Казахстан (1935)

200. Б. Игнатович. Ленинград, у Эрмитажа (1930)

201. С. Иванов-Аллилуев. Сергей Эйзенштейн

202. З. Брассаи. Франция. Художник Пабло Пикассо (1931)

203. А. Кертец. Венгрия. Сергей Эйзенштейн

204. M. Наппельбаум. Портрет Анны Ахматовой

205. М. Наппельбаум. Художник В. Татлин

206. А. Скурихин. Родина

207. Л. Моголи-Надь. Германия. Фотограмма (1920-е гг.)

208. Ф. Дртикол. Чехословакия. Композиция

209. Я. Функе. Чехословакия. Завод

210. Я. Функе. Чехословакия. Из цикла "Время идет" (1932)

211. Э. Уэстон. США. Акт

212. Б. Игнатович. Материнство

213. А. Адамс. США. Пейзаж. Калифорния

214. Ман Рей. Франция. Балерина (соляризация)

215. А. Адамс. США. Пейзаж

216. О. Игнатович. На заводском стадионе (1930-е гг.)

217. Ю. Еремин. Гурзуф (1927)

218. Г. Эджертон. США. Капля молока (1936)

219. Е. Игнатович. Работница Татьяна Сурина (1930-е гг.)

220. Э. Вадаш. Венгрия. Гуси

221. М. Альперт. Киргизская девушка-джигит на колхозных скачках (1930-е гг.)

222. M. Озерский. Подписание колхозниками договора о социалистическом соревновании (1939)

223. Г. Петрусов. Днепрогэс (1934)

224. А. Скурихин. Строители домны в Новокузнецке (1931)

225. А. Штеренберг. Портрет Рабиндраната Тагора

226. Г. Эрфурт. Германия. Художница Кете Кольвиц

227. Э. Евзерихин. Портрет А. М. Горького

228. М. Марков-Гринберг. Шахтер-ударник Никита Изотов (1932)

229. И. Шагин. Стратостат "СССР" готовится к полету (1933)

230. М. Альперт. Из деревни – на стройку завода

231. М. Альперт. На строительстве Большого Ферганского канала в Средней Азии (1939)

232. Д. Дебабов. Спасение затертого льдами ледокола "Седов" в Арктике

233. М. Альперт. На строительстве Большого Ферганского канала в Средней Азии (1939)

234. А. Штеренберг. Казахский народный поэт Джамбул Джабаев

235. В. Шаховской. Мать-таджичка (1930-е гг.)

236. А. Скурихин. Таня, девушка из колхоза (1935)

237. Д. Ланг. США. Жена фермера

238. А. Эйзенштэдт. США. Эфиопский солдат (1935)

239. У. Ивэнс. США. Семейная группа. Алабама (1936)

240. Е. Халдей. На улице Москвы 22 июня 1941 года

241. И. Шагин. Политрук ведет бой

242. М. Альперт. Комбат

243. Г. Санько. Партийное собрание в Н-ской части (1941)

244. Д. Бальтерманц. Горе (Керчь, 1942)

245. А. Гаранин. Смерть солдата

246. Б. Кудояров. Ленинград в блокаде, 1942. Жертва вражеского артобстрела

247. Я. Давидзон. В партизанском крае. Голос Москвы!

248. М. Трахман. В партизанском крае. Переправа

249. Г. Зельма. Уличный бой в Сталинграде. Ноябрь 1942 года

250. Г. Санько. В гитлеровском переселенческом лагере в день освобождения Советской Армией

251. А. Шайхет. В освобожденном от гитлеровцев селе

252. Р. Капа. США. Высадка войск в Нормандии

253. А. Картье-Брессон. Франция. Допрос гестаповки в Дессау (1945)

254. Р. Капа. США. Коллаборационистка (Франция, 1944)

255. Т. Гонти. Чехословакия. Убит в последнем бою (1945)

256. Г. Зельма. Танк "Родина" в Сталинграде (1943)

257. В. Темин. Знамя Победы над рейхстагом, 1 мая 1945 года

258. А. Егоров. В освобожденной Праге (1945)

259. С. Лоскутов. На параде Победы в Москве (1945)

260. М. Грачев. Салют Победы (1945)

261. А. Устинов. В День Победы 9 мая 1945 года в Москве

262. Г. Петрусов. Возвращение (1945)

263. M. Ананьин. У руин Брестской крепости спустя 20 лет

264-269. Р. Принс. Нидерланды. Серия "Люди мира! Хиросима напоминает"

270-277. В. Мастюков. Фотоочерк "У вечного огня"

278. Дж. Медера. Италия. Крещение

279. В. Бишоф. Швейцария. На дороге в Перу

280. Н. Скафиди. Италия. Бытовой сюжет (ок. 1960 г.)

281. А. Пеллози. Италия. Двадцатый век

282. Г. Шу. Швейцария. Игра

283. Г. Шу. Швейцария. Играющий мальчик Ява

284. А. Картье-Брессон. Франция. В конюшне ипподрома

285. А. Картье-Брессон. Франция. В Нью Йорке. Одиночество (1947)

286. А. Картье-Брессон. Франция. Маленький парижанин

287. Р. Дуано. Франция. Из фотоочерка "Аккордеонистка"

288. Р. Дуано. Франция. Мясник

289. Р. Дуано. Франция. У антикварного магазина

290. В. Юджин Смит. США. USA, 1953

291. В. Юджин Смит. США. Человек милосердия. Из серии "Доктор Альберт Швейцер" (1954)

292. В. Юджин Смит. США. Из серии "Минамата. Япония" (1972)

293. В. Юджин Смит. США. Мои дети

294. Г. Паркс. США. Семейная группа

295-300. M. Альперт. Из фотоочерка "Мысли и сердце" (оперирует H. M. Амосов) (1973)

301. А. Гаранин. А за окнами весна...

302

303
302, 303. А. Гаранин. Не укради... (в зале народного суда)

304. А. Гаранин. Пьеро

305. В. Тарасевич. Поединок. Из фотоочерка "Московский государственный университет"

306. В. Тарасевич. Следы в пустыне

307. Г. Копосов. -55° С

308. В. Тарасевич. В детских яслях. Общая мама

309. Г. Копосов. В Антарктиде

310. Г. Копосов. Пенсионеры. Азербайджан

311

312
311, 312. Л. Устинов. Из серии "Геологи на Колыме"

313. Д. Бальтерманц. Встреча в тундре
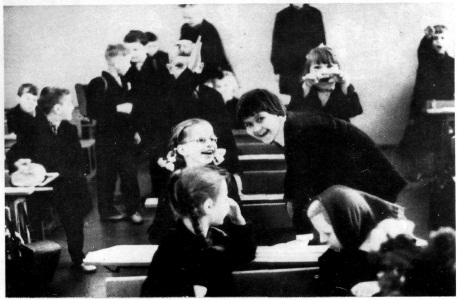
314. Л. Шерстенников. Первоклашки
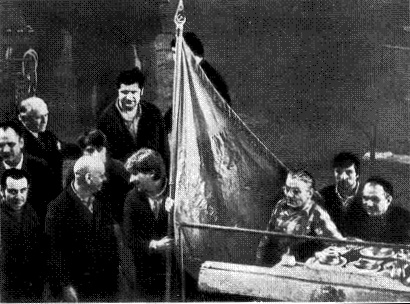
315. А. Рубашкин. Переходящее знамя в нашем цехе! (1980)
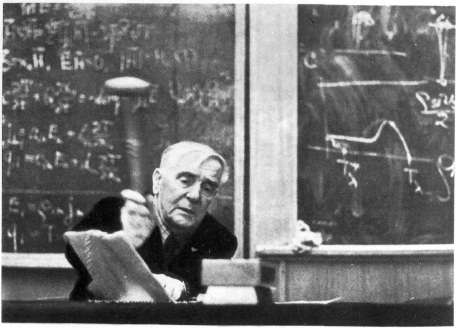
316. В. Генде-Роте. Семинар закончен! (Академик П. Л. Капица)

317. А. Ерин. Павел Константинович

318. А. Сааков. Грузинский виноградарь

319. И. Кальвялис. В дюнах

320. М. Минеев. Сельские прима-балерины

321. А. Слюсарев. Мгновенье

322. А. Семеляк. Утро индустриальной Украины

323. И. Тункель. Хлебороб

324

325
324, 325. В. Семин. На строительстве БАМа

326. Д. Бальтерманц. Строитель БАМа

327. А. Горячев. На строительстве атомной электростанции

328. В. Корешков. Первая борозда

329. М. Баранаускас. Хозяин земли

330
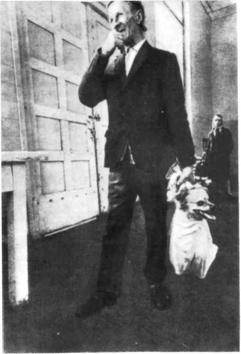
331
330, 331. А. Мацияускас. В ветеринарной лечебнице

332. Р. Пожерскис. Из серии "Сельские праздники"

333. А. Мацияускас. Колесо

334. А. Суткус. Учительница. Из серии "Люди Литвы"

335. А. Кальвялис. Музыкант

336

337

338
336-338. Р. Ракаускас. Из цикла "Цветение"

339. Я. Эйферт. Венгрия. Танец

340. П. Корниш. Венгрия. На свадебном вечере в селе

341. А. Маркей. Англия. Невеста

342. Л. Георгиева. Болгария. Золотая свадьба (ок. 1970 г.)

343. Н. Плёссер. ФРГ. За пивом
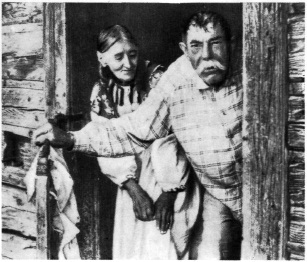
344. М. Мартинчек. Чехословакия. Из цикла "Люди в горах"

345. Й. Риеккола. Финляндия. Чета

346. А. Никвист. Финляндия. Белый

347. Ф. Танио. Япония. Искатели жемчуга

348. X. Хамайа. Япония. Зимой (1956)

349. Ж. Мили. США. С выставки Э. Стейхена "Род человеческий"

350. Ж. Буанэ. Франция. Зима

351. Й. Судек. Чехословакия. Из серии "Из окна моей студии" (1944-1953)

352. И. Судек. Чехословакия. Из цикла "Волшебный садик" (1954-1959)

353. Н. Стоичков. Болгария. Золотые руки (ок. 1960 г.)

354. Ч. Кумара. Индия. Народные строители

355. И. Судек. Натюрморт (1956)

356. О. Михалкова. Чехословакия. Из серии "Энергетика"

357. К. Гайек. Чехословакия. Черная мадонна

358. Автор неизвестен. ФРГ. В доме для престарелых. Эссен
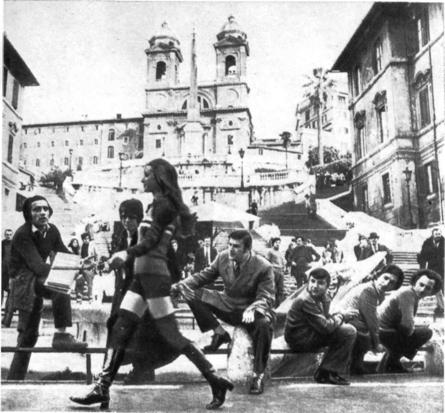
359. Дж. Лоллобриджида. Италия. Римлянка (1971)

360. Э. Гажейро. Португалия. Под знаменем свободы

361. Д. Крюгер. Голландия. После наводнения

362. А. Картье-Брессон. Франция. На похоронах Ганди

363. И. Нагайо. Япония. Убийство лидера социалистов в Токио (ок. 1960 г.)

364. Э. Гажейро. Португалия. Катастрофа

365. А. Рубашкин. Выступает вдова Сальвадора Альенде

366. Автор неизвестен. Последний день президента Сальвадора Альенде

367. Г. Мурза. ГДР. Митинг молодежи у памятника советскому воину-освободителю в Берлине

368. М. Слипп-младший. США. Мемфис, 1968 год

369. В. Генде-Роте. Юрий Гагарин. Рапорт Центральному Комитету. Москва, 14 апреля 1961 года
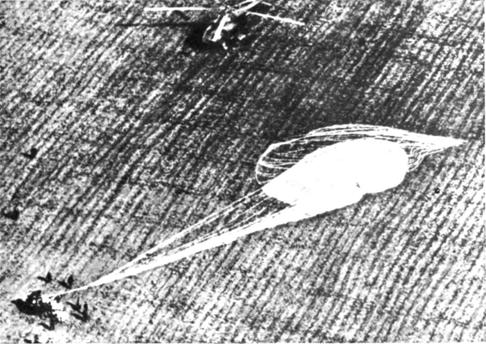
370. А. Пушкарев. Очередной космический корабль приземлился

371

372
371, 372. А. Васильев. Есть Северный полюс!

373. А. Пушкарев. Старт космического корабля
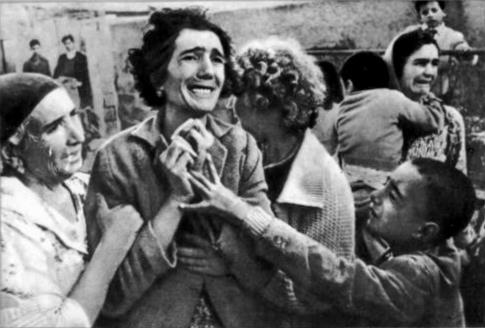
374. Д. Мак Кулин. Англия. На Кипре

375. Л. Якутин. Мать

376. Д. Мак Кулин. Англия. Кипр, 1964 год

377. Д. Мак Кулин. Англия. Конго, 1967 год

378. К. Савада. Япония. В борющемся Вьетнаме

379. Г. Поланд. ФРГ. Старт

380. Э. Бауманн. ФРГ. Удар

381. В. Шандрин. Эйсебио проиграл

382. С. Киладзе. Болельщик (1966)

383. Т. Камиош. Венгрия. Многоэтажный футбол

384. Я. Найденов. Болгария. Борец и судья

385. Ю. Теуш. Трудное "золото" (И. Роднина и А. Зайцев)

386. Э. Пардубский. Чехословакия. Драма на скачках

387. Л. Тугалев. Мужчины

388. Л. Шерстенников. Портрет хирурга H. M. Амосова

389. Р. Аведон. США. Писатель Сомерсет Моэм (1958)

390. А. Картье-Брессон. Франция. Анри Матисс у вазы работы Пикассо

391

392
391, 392. О. Макаров. Дирижер Герберт Караян

393. А. Гаранин. Аппассионата

394. В. Тарасевич. Дмитрий Шостакович

395-398. О. Макаров. Святослав Рихтер


400. Ф. Холцман. США. Портрет Альберта Эйнштейна

401. Ф. Холцман. США. Певица Мариан Андерсон

402. В. Малышев. Артист Донатас Банионис

403. Л. Иванов. Скульптор Салават Тавасиев

404. И. Тоот. Венгрия. Позади нелегкий путь

405. В. Манфредини. Франция. Мария

406. В. Генде-Роте. Софи Лорен (1969)

407. И. Пэнн. США. Портрет Софи Лорен (1959)

408. Ю. Карш. Канада. Эрнест Хемингуэй

409. А. Перевощиков. Купание солнца

410. В. Филонов. В лучах зари

411. Б. Эпридж. США. В бурю

412. В. Михайловский. Доверие

413. Б. Бранд. Англия. Акт (1958)

414. Г. Бинде. Обнаженная

415. А. Птицын. Нефть Сибири (1963)

416. Г. Видмар. Швейцария. Динамические скульптуры (иллюстрация к опытам ученого и художника Ганса Йенни)

417. Т. Гонти. Чехословакия. Фрагмент скульптуры О. Родена "Иоанн Креститель" (1955)

418. Поверхность кристалла поваренной соли

419. М. Гак. Чехословакия. Кукуруза

420-423. А. Завадскис. Песок I – IV (ок. 1970 г.)

424. Первый в истории снимок лунного ландшафта

425. Астроснимок

426. Е. Кассин. Славянка

427. В. Бутырин. Крановщица

428. П. Котьянчич. Югославия. Конструкция

429. П. Карпавичюс. Озеро (изогелия)

430. В. Хенгл. Австрия. Гондольер (соляризация)

431. И. Тоз. Венгрия. Танец ведьм (соляризация)

432. Дж. Мирассо. Италия. Пейзаж (изогелия)
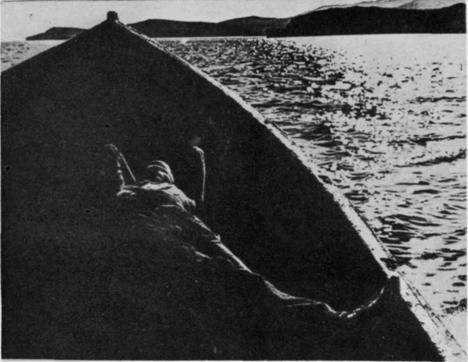
433. В. Шустов. Байкал спокоен

434. Я. Баахснус. Норвегия. Вечерний мотив

435. Э. Хартвиг. Польша. Пейзаж

436. Э. Хартвиг. Польша. Композиция

437. В. Димчев. Болгария. Мой завод

438. Р. Баран. Портретный этюд (изогелия)

439. П. Кривцов. Фронтовые подруги

440. Н. Свиридова, Д. Воздвиженский. Праздник совершеннолетия

441. Г. Лукьянова. У окна

442. К. Роже. Франция. Ветка и девочка

443. Художник Ч. Клозе. США. С картины фотореалиста (1969)

444. В. Михайловский. Проход

445. Г. Бинде. Психологический портрет

446. Э. Спурис. Пляжные будки

447

448
447, 448. В. Бутырин. Из серии "Сказки о море": "Морской дьявол", "Жар-птица"

449. П. Тооминг. Танец

450. С. Далибор. Чехословакия. Земля индустриальная

451. П. Раота. Аргентина. За кусок хлеба

452

453
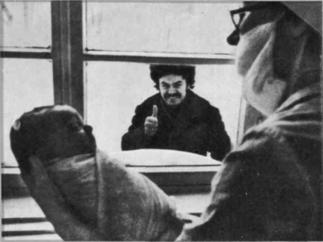
454
452-454. С. Васильев. Рождение

455-457. И. Готтшалк. ГДР. 75-летие

458. В. Богданов. Знатный чабан Бурятии Н. Тогмитова с сыновьями

459. В. Лагранж, А. Миранский. Молодежная бригада

460. П. Кривцов. Портрет хлебороба (1980)

461. С. Прокудин-Горский. Л. Н. Толстой в Ясной Поляне (1908)

162. С. Прокудин-Горский. Пейзаж (1904)

463. П. Клепиков. Из серии "Московские силуэты" (1925, цветной бромойль)

464. Д. Дебабов. Осень в Таджикистане (1939, карбро)

465. Я. Гайлитис. Яхта (1970-е гг., изогелия)

466. В. Малышев. Герой Социалистического Труда слесарь-инструментальщик В. Павловский

467. В. Малышев. Народная артистка Грузинской ССР Софико Чиаурели (1975)

468. Г. Тиканадзе. Под южным солнцем (1960-е гг.)

469. А. Бушкин. Гроза (1950-е гг.)

470. Н. Рахманов. Слушает время (1970)

471. В. Гиппенрейтер. Из серии "Рождение вулкана" (1960-е гг.)

472. В. Гиппенрейтер. Морской пейзаж

473. Д. Донской. "Горячий старт"
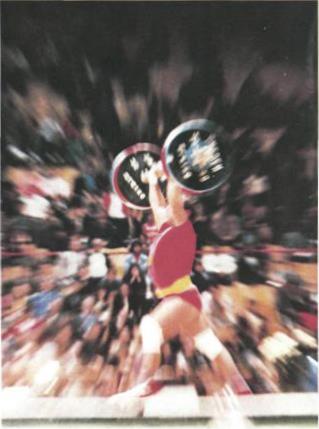
474. Д. Донской. Есть рекорд!

475. Л. Вейсман. Над родными просторами (слайд)

476. А. Пушкарев. На работу в космос (слайд)

477. Н. Рахманов. Звезда Кремля (слайд)
